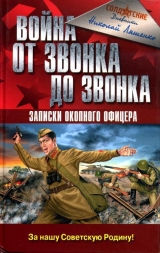
Текст книги "Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера"
Автор книги: Николай Ляшенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Как бы то ни было, но, пока немцы очухались, у них под носом оказался целый наш батальон.
Затем наш батальон взял под контроль и весь правый фланг противника. Теперь гитлеровцы не могли пользоваться сухой балкой и вынуждены были срочно рыть от берега Волхова к своим окопам специальные ходы сообщения. Ну, и чем это не выигрыш?
Солдат Шарапов
Шел первый летний месяц второго года войны. Буйная зелень одела весь лес и поляны, все живое набиралось новыми соками и красками. Но война продолжалась. То вспыхивая ярким пламенем местных боев. То озаряясь удивительными ЧП. И каждое ЧП требовало тщательного изучения и объяснения. Расследование некоторых из них было в ведении штабов, но в основном этим занимался инструкторский аппарат политотдела. Для прояснения одного случая я был направлен на наш плацдарм за Волховом, где произошло событие, привлекшее к себе внимание всей дивизии.
Коротко, произошло следующее. Средь бела дня, а точнее, во время обеда, когда почти вся 3-я рота ушли с позиций на свой КП получать обед, на позиции роты внезапно ворвалось более ста гитлеровцев, и, кто знает, чем бы все это закончилось, если бы не геройский поступок солдата Шарапова.
Мне не удалось выяснить, по чьему распоряжению (хотя, вероятно, никакого распоряжения на сей счет не было) в этой роте установился недопустимый на передовых позициях «порядок», при котором солдаты три раза в день оставляли свой боевой пост и шли за двести-триста метров на КП, чтобы получить там паек, а на огневых позициях оставалось очень мало людей, к тому же таких, которые по своему служебному положению не могли самостоятельно принимать решения.
Хотя командный пункт роты находился и недалеко от передовых позиций, но при таком «порядке» наблюдение за противником ослаблялось, и не удивительно, что эту беспечность и ротозейство первыми заметили не наши командиры и политработники, а враги. Изучив, когда наши огневые ослаблены, именно в это время немцы ринулись в атаку.
Разумеется, такая беспечность не упала с неба, она объяснялась условиями, в которых находилась рота. Участок обороны, занимаемый третьей ротой, проходил через болото, часть которого находилась у нас, но большая – у немцев. Наступательных операций противника на этом участке не предполагалось, тем более средь бела дня, так как здесь невозможно было сосредоточить и укрыть не то что сотню, даже несколько человек: болото простиралось на несколько километров в сторону противника, и на нем, кроме кочек и осоки, ничего не росло. Кроме того, с нашей стороны через все болото был выложен торфяной вал в рост человека, который защищал наших бойцов от шальных пуль и наземного наблюдения противника. Больше того, на своей части болота гитлеровцы никакой линии обороны и оборонительных сооружений не имели вовсе. Вот почему в роте постепенно развилась расхлябанность, которая и привела наконец к ЧП.
Правда, мы много чести приписали врагу, заявив, что он первым заметил нашу беспечность. Дело обстояло иначе. Один предатель из этой роты за неделю до случившегося перебежал к врагу и, желая выслужиться перед ним, не только рассказал об установившемся беспорядке на нашей передовой, не только выдал расположение огневых точек, но и вызвался скрытно вывести отряд противника к нашему торфяному валу. Ночью, когда порывистый ветер с дождем дул с нашей стороны, заглушая все шорохи, изменник привел крупный отряд немцев к нашему торфяному валу, за которым отряд и укрылся с обратной стороны, ожидая намеченного времени атаки.
Болото на большом пространстве шло вдоль берега Волхова почти до берега речки Тигоды, впадающей близ Киришей в Волхов. Там, где болото уходило подальше от берега, всюду рос лес, а там, где оно приближалось к реке совсем близко, рос только кустарник. Поэтому торфяной вал, перегораживая болото, своими концами с обеих сторон упирался в лес.
На одном из концов вала, как бы замыкая его собой, в небольшой полоске леса находилась огневая точка станкового пулемета, которым управляли два человека: первый номер – сержант Катушкин, и второй номер боевого расчета – солдат Шарапов.
В день ЧП сержант Катушкин, взяв с собой оба котелка, не торопясь пошел на командный пункт роты за обедом, а второй номер, будучи младшим по службе, да и по возрасту, остался у пулемета.
День был жаркий и душный. Болото, испаряясь, наполняло воздух торфяно-кислым запахом. Плескавшийся в десяти метрах Волхов также немало своей влаги отдавал солнцу. Дышать под открытым солнцем было нечем. Поэтому второй номер расчета не вылезал из своего дзотика, сидел тихо, посматривая иногда в амбразуру, обращенную в сторону противника.
И увидел. Со стороны немцев в амбразуру полз большой черный жук с двумя рогами и большими глазами, посаженными сверху прямо на лоб: по каретке вполз на пулемет, прополз по кожуху туда и обратно и, спустившись по казенной части, направился к выходу из дзотика. Поняв его намерение, Шарапов повернулся спиной к амбразуре, взял палочку и стал регулировать движение жука, направляя его кратчайшим путем к выходу. Выход, однако, был крутой, и жук никак не мог его форсировать, Шарапов помогал ему палочкой, но у жука не получалось удержаться на палочке, он опять и опять падал в дзот. Так, занимаясь своим детским делом, наш герой не заметил, как в нескольких десятках метров от него большая группа немцев, перебравшись через проволочное заграждение и торфяной вал, устремилась к дзоту, где располагался командный пункт роты и где в данный момент спокойно, ничего не подозревая, с веселыми шутками разливали по котелкам суп и кашу, раздавали хлеб, тушенку и водку.
Услышав неподалеку странный галдеж, Шарапов выглянул из дзотика и вдруг видит, что огромная толпа в касках, серо-зеленых мундирах, с винтовками и автоматами бежит к ротному дзоту. Он оторопел, не зная, что делать. Он четко видел перед собой большую группу врагов, бегущих в атаку на командный пункт его роты! Но он никак не мог сообразить, что же ему делать – что предпринять?!! В его руках в данный момент не было никакого оружия. Его винтовка и пулемет находились сзади, в яме дзота. Из винтовки один он скольких врагов может убить? А пулемет очень тяжелый и громоздкий – одному с ним не справиться. Эти рассуждения молнией пробежали и зажгли тот же вопрос: что делать?!! Он продолжал смотреть, как враги, улюлюкая, бегут к дзоту... Да, сейчас они добегут – опять заработала мысль – и блокируют дзот, и уже не выпустят из него живым никого, а сам он, оказавшись у них в тылу, станет совсем легкой добычей... Эти ли соображения, какие другие чувства взбудоражили Шарапова, но только, не помня себя, он прыгнул к своему пулемету, обеими руками схватился за каретку – и выдернул эту махину! Развернулся, бухнул его наружу перед собой и, выправив ленту, ударил во фланг бегущим. Хватит им и грубой наводки! Фашисты закувыркались под огнем его пулемета, а он вопил во все горло:
– Ага, сволочи! Попались! Попались!..
Услыхав бухнувшие пулеметные очереди, из дзота стали выскакивать солдаты и почти в упор расстреливать атакующих. Совершенно ошалевшие от шараповского огня, немцы внезапно натолкнулись на встречный из дзота и пришли в состояние неописуемой паники. Те, что были еще недалеко от торфяного вала, бросились через него назад, остальные, отрезанные от леса пулеметным огнем Шарапова, бросали оружие и, подняв руки кверху, что есть силы взывали, прося пощады.
Впервые Шарапов увидел живых и мертвых врагов. Впервые он увидел, как кипит вода в кожухе его пулемета. Все это его поражало, радовало и удивляло. Он мужал на войне. Его способности мыслить, соображать и быстро ориентироваться в обстановке росли и развивались в боях, под воздействием военных событий. Ему едва исполнилось семнадцать лет, когда он был мобилизован в Красную Армию в одном из прифронтовых районов. Роста он был невысокого, курносый, с белыми вихрастыми волосами, серыми русскими глазами и слегка вздернутой верхней губой. Телосложения был крепкого и чем-то напоминал тяжелоатлета. Говорил он на хорошем русском языке, но с вологодским оканьем. Наскоро обученный, он впервые прибыл на фронт два или три месяца назад и, попав в нашу дивизию, был назначен вторым номером пулемета «максим» в 3-ю роту 1080-го стрелкового полка. И вот – солдат вырос в героя. Шарапова представили к награждению орденом Красного Знамени.
Солдат и генерал
Прочитав написанную мною реляцию, командир дивизии генерал-майор Замировский почему-то сильно заинтересовался героем-солдатом и на третий день сам приехал посмотреть на него, поближе с ним познакомиться. Встретив командира дивизии, мы с командованием полка повели его на место происшествия. Посмотрев на Шарапова и пулемет «максим», стоявший в тесном и глубоком дзотике, комдив возмутился и грубо, в присутствии Шарапова, заявил:
– Врете! Это чья-то глупая легенда! – И, указывая на Шарапова, с твердым убеждением сказал: – Он же ни за что не поднимет сам станковый пулемет в собранном виде! – И тут же приказал Шарапову: – Ну-ка, вытаскивай пулемет из дзота!
Шарапов спустился в яму, влез в свой дзотик и стал возиться с пулеметом. Но тот не поддавался, и Шарапов никак не мог вытащить его наружу. Глядя на этот эксперимент, я почувствовал, как кровь ударила мне в лицо. Неужели меня подставили?! Неужели в погоне за героем меня ловко ввели в заблуждение, скрыв что-то важное? Хотя я прибыл к месту происшествия еще тогда, когда пулемет стоял там, откуда Шарапов бил из него немцев, когда трупы убитых им гитлеровцев только убирали, однако сам я не видел, как Шарапов вытаскивал пулемет. Да и вытаскивал ли он его вообще?! Все это я записывал со слов самого Шарапова, сержанта Катушкина, командира и политрука роты, солдат-очевидцев. И хотя записанное не вызвало у меня тогда никакого сомнения, теперь я видел собственными глазами, как солдат Шарапов мучился, чтобы вытащить пулемет из дзота и никак не мог этого сделать. Это совсем поколебало мою веру в то, что я сам же описывал в реляции. Зато командир дивизии открыто торжествовал! Наблюдая за возней Шарапова, он с каким-то злорадством то и дело повторял:
– Вот, видали? Я же вижу, что этому пацану ни за что не поднять станковый пулемет в собранном виде! Да еще вытащить его из этой ямы?! Я его, чертягу, потаскал на своем веку, я хорошо знаю, сколько он весит.
Шарапов был маленького роста и к тому же еще очень молодой солдат.
Услыхав слова комдива, Шарапов, стоявший в яме дзота, вдруг поднял голову и недоумевающе-пристально, снизу вверх, внимательно посмотрел на генерала. Потом, по-детски насупившись, с негодованием спросил у комдива:
– Так вы считаете, что немцы тут сами подохли?
– Нет, конечно, – с иронией ответил генерал. – Но ты сам сейчас доказал свою неспособность вытащить пулемет из дзота.
Тут Шарапов, уже сквозь слезы, вдруг закричал:
– Ага! Значит, вы думаете, что мне тут помогали его высаживать сами немцы?!
Он бросился в дзотик, с каким-то остервенением схватил пулемет обеими руками за колеса каретки и не то что высадил – буквально выбросил его наружу.
– Нате! – выкрикнул Шарапов и, сев на край ямы, горько заплакал.
Комдив явно смутился. Зато мне так и хотелось броситься и расцеловать своего молодого, даже юного героя! Только рамки субординации не позволили мне этого сделать! Шарапов, даже не сознавая того, в точности воспроизвел картину своего подвига – посредством чего только и можно было убедить командира дивизии. А это, как мы видели, сделать было нелегко. Подтвердились слова Людвига Фейербаха: в критические минуты человек способен на невероятные действия, превышающие его физические возможности.
Хотя в данном случае, может быть, и не было такого превышения, поскольку вес пулемета не превышал веса своего владельца, тем не менее, учитывая то обстоятельство, что Шарапову приходилось действовать в крайне неудобных условиях: вытаскивать пулемет из глубокого и низкого дзота, с узкой дверью и поднимать его перед собой на руках, как спортивную штангу – подвиг его следует определить как весьма трудный и даже невероятный. Особенно если учесть, что солдат Шарапов был еще очень молод.
Его командир, первый номер расчета сержант Катушкин, подтвердил в присутствии комдива, что Шарапов в момент вылазки немцев действовал один, так как он, Катушкин, в это время находился на КП роты, где получал обед на двоих.
Только после этого командир дивизии просиял и быстрой скороговоркой произнес:
– Вот это другое дело! Молодец, Шарапов!
Солдат немедленно перестал плакать. Оправив пилотку, гимнастерку, он быстро выпрыгнул из ямы и, вытянувшись в струну, стал перед командиром дивизии. Протягивая руку солдату, генерал произнес:
– Приветствую и поздравляю тебя с твоим геройским подвигом! Представляю тебя к правительственной награде – ордену Красного Знамени!
– Служу Советскому Союзу! – по-молодецки лихо бросив правую руку под козырек, громко и смело ответил на приветствие командира дивизии солдат.
Прощаясь с Шараповым, генерал быстро достал часы из брючного кармана и, отстегнув цепочку, протянул солдату:
– Вот тебе подарок от меня лично. Люблю солдат, которые умеют в самой сложной и трудной обстановке найти свое место в бою. Молодец, солдат! – И еще раз пожал руку Шарапову.
Когда командир дивизии ушел со своей группой офицеров и телохранителей, Шарапов все еще стоял в положении «смирно», держа на руке часы, подаренные генералом. Он весь сиял от радости, а на его почти детском лице висели две невысохшие светлые слезинки. Я с любовью смотрел на этого молодого русского солдата, от природы смекалистого, смелого, мужественного и гордого. Конечно, он еще не знал всех уставов внутренней и гарнизонной службы, согласно которым солдат не имеет права вступать в пререкания с командиром, а тем более с командиром дивизии. Однако он твердо знал, что на фронте солдат прежде всего обязан умело бить врага, всюду и при всех условиях, где бы он ему ни попался. Таков закон войны. А привычка огрызнуться, видно, осталась у него с недавнего детства. Простим ему эту привычку! Она ведь не вечна.
Корреспонденты
Я уже собирался уходить с плацдарма, когда туда прибыли два работника редакции дивизионной газеты, журналист Кондратский и поэт Анатолий Чивилихин. Я знал, что они еще зимой начали писать книгу «Боевой путь дивизии», куда заносились все выдающиеся боевые события нашей дивизии и их герои. Ну а наш случай был тем более захватывающим, что его не смог обойти даже сам комдив, и уже по одному этому он не мог не попасть в книгу истории дивизии. Мне не раз приходилось помогать редакции в сборе материала, и я охотно рассказал корреспондентам о подвиге Шарапова. Узнав из моего рассказа, что сам командир дивизии приезжал на плацдарм и ходил к герою на его огневую позицию, корреспонденты расхрабрились и тоже пожелали повидать его собственным глазами, пригласив меня сопровождать их. Я согласился, приятнее было возвращаться в политотдел дивизии в их обществе.
Пошли мы берегом Волхова.
Стояли жаркие летние дни, вода в реке прогрелась почти до максимума, солдаты, свободные от дежурства, спешно раздевались и, торопливо осмотрев небо, весело прыгали в реку, а услыхав команду «Воздух!», поспешно выскакивали из воды и разбегались по щелям, нарытым здесь по всему берегу. «Воздух» же действительно был небезопасен. Фашистские наблюдатели, заметив, что наши солдаты и офицеры смело купаются в реке, стали почти ежедневно насылать на них своих «асов». Вот и сегодня один из них внезапно выскочил из-за леса и на бреющем полете брызнул по реке пулеметной очередью. Хотя выскочить из воды успели не все, жертв, к счастью, не было. Вовремя нырнув, купающиеся ловко уходили из-под обстрела.
Постояв немного в густом лесу, пока улетел фашистский самолет, мы пошли открытым берегом в третью роту, командный пункт которой возвышался на берегу, как степной скифский курган. Шли мы неторопливо, разговаривая, любуясь прекрасными прибрежными рощами и широкой гладью реки. Мы были уже на траверсе дзота, когда из-за него, а может быть, именно по нему ударил немецкий пулемет. Стая пуль, словно ночные нырки, просвистела над нашими головами. Мои корреспонденты как ошпаренные рванулись в стороны – Чивилихин к берегу, Кондратский к болоту. Попадав на землю, перепуганные, оба смотрели на меня непонимающими глазами. Давно не видев подобной трусости, я от души расхохотался. Видя, что я стою на месте и смеюсь, они как-то нехотя поднялись с земли и чуть ли не на цыпочках, потихоньку, стали приближаться ко мне, словно боясь, что и я могу взвизгнуть, как пуля.
– Чего вы разбежались? – сквозь смех спросил я.
– Как чего?! Ведь стреляют! – разом ответили оба.
– Ну и что же?
– Как «что же»? – почти со злостью переспросили они. – Может и убить.
– Гм-м. Вообще-то, пуля, разумеется, может убить человека, если только она попадет в опасное место. Но, во-первых, ту пулю, которая тебя убьет, ты никогда не услышишь. А во-вторых, та пуля, которую ты слышишь, никогда тебя не убьет. Ну, а в-третьих, ведь было хорошо слышно, что пули ушли гораздо выше нас, чего же их бояться?
– Эге-э, товарищ батальонный комиссар, такая философия нам не подходит. Бежим скорее к дзоту!
К счастью, Шарапов оказался на командном пункте роты, и нам не пришлось идти на его огневую точку. Взяв необходимое интервью, мы в тот же день вернулись на командный пункт дивизии.
ВТОРОЙ ШТУРМ
«Ни шагу назад!» Прорыв. В окружении. Первая ночь в воронках. Враг атакует ночью. Колодец. Попытка связи. На восьмые сутки...
«Ни шагу назад!»
Готовилось новое наступление на Кириши.
Собственно говоря, Киришей как населенного пункта давно уже не существовало. На месте села лишь кое-где оставались полузасыпанные кюветы да дренажные канавы. От домов, зданий и сооружений не осталось даже фундаментов. Сохранилась лишь группа кирпичных строений бывшего химкомбината внизу, у самого берега Волхова, причем и эти строения были полуразрушенные, но немцы все-таки гнездились в этих развалинах, не имея ничего лучшего для укрытия.
Задача перед наступающими ставилась одна: выбить фашистов из развалин химкомбината, раз и навсегда очистить правый берег Волхова от оккупантов.
Военное положение на юге нашей страны становилось все более и более тревожным. Наши войска оставили Миллерово, Ворошиловград, Ростов-на-Дону и другие города. Немцы развили стремительное наступление на Кавказ и в излучину Дона – в направлении Сталинграда. Судя по сводкам Совинформбюро, отступление наших войск на юге страны скорее было похоже на позорное бегство.
В силу ли возникнувшей неблагоприятной ситуации на юге страны или по каким-либо другим, неведомым нам причинам мы по-прежнему не получали сколько-нибудь удовлетворительных подкреплений, за исключением небольшого числа выздоравливающих из местных госпиталей и медсанбатов. Между тем перед нами ставились все новые и новые боевые задачи.
Готовясь к очередному наступлению, командование дивизии, что называется, подмело все тылы, штабы, артиллерийский полк и даже медсанбат. Все, способное носить оружие, было собрано по всей дивизии. Подготовка к наступлению длилась всего неделю. И вот, разделившись на две группы, наступающие стали готовиться к выходу на исходные позиции. Боевым приказом было установлено, что наступление должно вестись обеими группами последовательно, одна за другой, используя артиллерийский вал. Подробно указывалось: как только первая группа достигнет окопов противника, вторая группа должна немедленно поддержать первую, дав последней возможность развивать наступление дальше, вплоть до химкомбината.
Все было готово. Солдаты были хорошо и полностью экипированы. Оружие, боеприпасы и неприкосновенный запас проверены и оказались в должном порядке. С рассветом на одной из красивых полянок в большом лесу были выстроены обе боевые группы. К нам прибыли командир, комиссар и начальник штаба полка. Командир объявил, что сейчас, перед выступлением на исходные позиции, будет объявлен приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, который слушать приказано со вниманием. Несмотря на команду «смирно», ряды зашевелились. Начальник штаба вышел на середину и стал громко, членораздельно читать приказ:
– Наш советский народ, – говорилось в приказе, – горячо любил и продолжает любить свою Красную Армию за те ее героические подвиги, которые она совершила в годы Гражданской войны, в период разгрома японских империалистов на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Своими ударами под Ростовом-на-Дону, под Тихвином и под Москвой зимой прошлого года Красная Армия показала, что она может бить оккупантов и бить очень хорошо и умело. Однако в нашей армии почему-то взяли верх отдельные трусы и паникеры, которые нередко увлекают за собой части армии на позорный путь бегства от врага. Эти распоясавшиеся трусы и паникеры дошли до того, что, отступая на Южном фронте, не только без боя оставляют врагу города и села, но даже «забыли» взорвать за собой единственный железнодорожный мост на Кавказ через реку Дон в городе Ростов-на-Дону, по которому гитлеровцы на их же плечах ворвались на Кавказ.
Теперь советские люди, видя, как Красная Армия бросает врагу свои родные села и города, а сама утекает на восток, стали ненавидеть и проклинать ее...
Начальник штаба читал, и эта горькая правда оглушила нас, как обухом по голове. Хотя мы и не намерены были отождествлять себя с теми трусами и паникерами, о которых говорилось в приказе, но ведь мы тоже были частью той армии, которую наш народ стал «ненавидеть и проклинать». Строй замер, слушая это горькое, но правдивое обличение. Строй стоял в положении «смирно», но солдаты волновались, их лица были возбуждены, а глаза словно слепы, они явно переживали и напряженно думали. Приказ заканчивался строго и повелительно: «Ни шагу назад!»
Этот приказ – «Ни шагу назад!» – произвел на нас огромное, нет, величайшее впечатление и воздействие. Когда мы слушали его, нам казалось, что строгий выговор с последним предупреждением дает нам не Главнокомандующий, а сама наша добрая и любимая, наша ласковая мать-Родина, которая уже не в силах дальше терпеть недостойное поведение своего любовно воспитанного детища. Хотя факты, приводившиеся в приказе, целиком и полностью относились к войскам Южной группы, тем не менее чувство ответственности за судьбу Родины всколыхнуло душу каждого солдата и офицера, всей армии. Каждому теперь хотелось на деле доказать свое мужество, стойкость и умение беззаветно бороться с ненавистными захватчиками.
После объявления приказа Верховного Главнокомандующего проводить какое-то инструктивное совещание или беседу о задачах солдата и офицера в бою было излишним, каждый сам обдумывал, что он должен делать, чтобы изгнать гитлеровских захватчиков с родной земли, смыть позор, которым покрыли нашу армию трусы и паникеры.
Прозвучала команда:
– Вольно! Можно закурить!
И солдаты медленно, кучками начали расходиться, доставали кисеты, портсигары и, тихо переговариваясь, закуривали.
– Вот это отчитал нас товарищ Сталин, – негромко проговорил один.
– А что?! Правильно отчитал! Давно уже так надо было! – высказался другой и с возмущением добавил: – Это надо так бежать, что мост оставили целехонький?
– Да-а-а, – со вздохом протянул третий, – такую тяжкую правду может народу сказать только Сталин.
Прорыв
Выйдя на исходные позиции, один отряд сосредоточился впереди на опушке леса в сухой длинной дренажной канаве, второй – за ним, в лесу. Перед нами до самого химкомбината лежало открытое поле, издолбленное снарядами, минами и авиабомбами. Куда ни глянь – всюду воронки и глыбы, вывороченные из нутра земли. Воронки были разных размеров и глубины. В их лабиринте отрядам и предстояло не просто продвигаться, а штурмом овладеть немецкими окопами и, преодолев их, ворваться в химкомбинат, что означало, согласно приказу, окончательный разгром всей Киришской группировки врага.
Первый отряд не должен оглядываться назад, он должен стремительно последовать сразу за огневым валом нашей артиллерии. В сделанные им «ворота» в немецкой обороне должен устремиться второй отряд и, расширяя прорыв в обороне противника, оказывать активную поддержку первому. Так предусматривалось боевым приказом на наступление.
Все было готово. Ждали начала работы артиллерии.
За время подготовки к наступлению, кажется, все было предусмотрено, отработано, расписано и проверено. Казалось, что и дело у нас пойдет как по маслу, и через час-полтора, самое большое через два, мы сможем торжественно доложить командованию о выполнении боевого задания. Но, черт возьми, как иногда все оказывается не похожим на действительность?! Уж как мы стремились пореальнее представить себе ход боя во всех его возможных вариантах – и самых лучших, и самых худших! Имея за плечами уже немалый опыт боевых действий! И все же наш абстрактный и отработанный план в действительные боевые события не вписался. После того как приказ отдан, дело зависит исключительно от исполнителей. К сожалению, не все исполнители умеют творчески подходить к выполнению приказов. Но что сказать о тех командирах, которым не дано даже просто толково его исполнить?!. Всего на несколько минут или даже секунд промедлил второй отряд с выступлением – и вся стратегия битвы полетела вверх тормашками.
Заработала наша артиллерия десятками стволов различных калибров и систем. Снаряды рвались впереди отряда на широком фронте, застилая дымом, фонтанами земли прежде хорошую видимость. Командир первой группы дал команду: ближе подтянуться к огневому валу. Гром канонады и масса взрывов смешались с клубами дыма, пыли, свистом осколков и огнем. Никакой команды, вообще человеческого голоса расслышать было невозможно. Продвижение группы, казалось, диктовал сам вал артиллерийского огня – по мере его удаления отряд все плотнее придвигался следом. Как вдруг! Прошуршав над головами, в центре наших цепей с резким треском разорвалась крупнокалиберная мина, разметав группу солдат во все стороны.
– Двое убито и четверо ранено, – доложили командиру о результат плохой стрельбы наших минометчиков.
Схватив трубку, командир группы, неистово выругавшись, крикнул:
– Какой там у вас шалопай бьет по своим?! Вышвырните его из артиллеристов! Это халтурщик, а не артиллерист!
Отряд на какое-то время заколебался – и артиллерийский вал ушел далеко вперед. Гибель от своего же снаряда произвела крайне тягостное впечатление на всю группу. Она отпугнула солдат от артиллерийского вала. Нужны были экстренные, энергичные меры, чтобы восстановить нарушенный подъем, – какой-то психологический толчок. Комиссар группы политрук Гонтаренко, толкнув командира, прокричал ему в ухо:
– Надо ободрить солдат! Поднять в атаку! Фрицы очухаются! Тогда не прорваться! – И, выхватив пистолет, сам что есть силы закричал: – Товарищи! За Родину! За Сталина! Вперед! Ура-а-а! – И бросился вперед.
Словно выброшенные катапультой, рванулись вслед бойцы, и через несколько минут отряд ворвался в окопы противника. Командир группы, выхватив из-за пояса ракетницу, послал в небо одну за другой три зеленых ракеты, что означало: «Первый отряд овладел окопами противника, продвигается дальше. Для второго отряда ворота открыты».
Тут-то, по примеру первого, и следовало устремиться вперед второму отряду. Но он почему-то замешкался. Тем временем немецкая артиллерия дала массированный отсечный огонь и накрыла своими снарядами весь второй отряд на его исходных позициях. Командир отряда был убит на месте. Комиссар и представитель политотдела дивизии Ярухин тяжело ранены. В общем, от второго отряда мало что осталось. Он почти полностью был выведен из строя.
Между тем первый отряд, прорвав оборону противника и оставив окопы врага позади для второго отряда, продолжал стремительное продвижение вперед, к химкомбинату. Справа и слева еще продолжалась ожесточенная схватка – в немецких окопах шла рукопашная: короткие автоматные очереди, одиночные выстрелы винтовок, глухие хлопки ручных гранат... Но командир и комиссар группы, пригибаясь к земле, бежали с большой группой солдат вперед. Встречного огня не было: химкомбинат громила наша артиллерия, загнав врага в подвалы, а в окопах немцы ослепли – из-за дыма и пыли, поднятых лавиной наших снарядов, ничего не было видно. Но с флангов наш отряд начали мало-помалу обстреливать. Первыми жертвами этого обстрела оказались связисты, тянувшие линию связи вслед за отрядом.
Увидев, что гитлеровцы начинают восстанавливать свою оборону за спиной отряда, командир крепко выругался:
– Где же второй отряд?! Какого черта они там копаются?!!
– За действия второго отряда ответит командир. Наше дело – вперед! – прокричал комиссар.
Командир, сплюнув и еще раз выругавшись, поднял свой отряд и устремился к химкомбинату. Наступавшие уже четко видели зияющие пробоины в стенах зданий, пустые дверные и оконные проемы. Командир подал ракетой сигнал: прекратить артиллерийский огонь. Наша артиллерия немедленно замолчала. Но, когда отряд выскочил на самую вершину, за которой начинался спуск к строениям, из комбината затрещали пулеметы и автоматы, запели ротные мины. Перед командиром и комиссаром вспыхнули стайки земляных фонтанчиков, пули со всех сторон засвистели свое: «Тювф! Тювф! Тювф!» – отряд накрыли обстрелом почти со всех сторон! Схватившись за живот, упал тяжело раненный комиссар отряда. Безжизненно свалился связной командира. Послышались крики раненых, зовущих на помощь. Раненный в ногу, упал командир взвода младший лейтенант Свиридов. Потери отряда все увеличивались. Из комбината теперь изрыгали огонь и смерть каждая пробоина, каждый дверной и оконный проем, каждая щель. Среди наступающих рвались мины, а над их головами, в наш тыл, со свистом проносились одна за другой целые стаи вражеских снарядов. Связь с полком была прервана, все попытки восстановить ее не достигали цели.
Окончательно придя в себя, гитлеровцы открыли по отряду бешеный огонь из всех видов оружия. О взятии химкомбината теперь не было и речи. Отряд оказался в огненном кольце врага. Положение стало исключительно тяжелым. Люди инстинктивно искали спасения – возможность гибели превратилась в реальность. В такой ситуации одна и единственная мысль пронизывает все существо каждого человека: самосохранение. Трудно сказать, какой из органов человека, какое из его чувств в этот момент работает наиболее интенсивно, но, кажется, даже сознание не успевает за действиями тела.
Несмотря на тяжелое ранение комиссар отряда, сориентировавшись в доли секунд, рывком бросился в образовавшуюся неподалеку воронку от авиабомбы, где уже укрывались командир отряда, несколько солдат и офицеров. Отряхиваясь от пыли, он с удивлением смотрел на командира. Ему казалось, что он первым прыгнул в воронку – но как в ней оказался командир? Этого он понять не мог. Он помнил: когда ударила первая очередь из химкомбината, командир был от него слева, и в этот момент комиссар первым и рванулся к воронке. Когда и как мог обогнать его командир? Это было невозможно. И разум отказывался это понимать.








