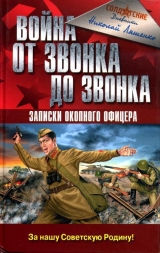
Текст книги "Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера"
Автор книги: Николай Ляшенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Проверка ротных парторганизаций
Позавтракав и поблагодарив гостеприимных хозяев, я быстро оделся и вместе с группой разносчиков отправился на передовую. Под утро ветер начал усиливаться, разрывая черные тучи на клочья, в просветах стали появляться звезды, и темнота стала меняться, преображаясь в светлую серую мглу. Заблестели многочисленные после дождя лужи. Лишь оставшийся позади лес стоял неприютной темной стеной.
Выйдя из леса, мы некоторое время шли открытым полем. Потом спустились в овраг, который становился тем шире и глубже, чем ближе подходил к Волхову. Из этого оврага ход сообщения вел к передовой линии, в гору, и вода минувшего дождя еще текла по нему бурным потоком нам навстречу.
Шлепая по воде, часто оскальзываясь, мы молча двигались один за другим, как хунхузы[16] 16
Хунхузы – вооруженные бандиты в Маньчжурии в середине XIX века до победы революции в Китае в 1949 году.
[Закрыть] в горном ущелье; дно хода сообщения было настолько скользким, что не упасть здесь мог только искусный эквилибрист, мы же, поскальзываясь, хватались за глинистые обочины, и руки наши были почти до локтей в глине, а пальцы слепило холодной, липкой грязью.
В пять часов утра мы уже были в 3-й роте 2-го батальона. Из окопов и огневых точек солдаты выплескивали воду. Над блиндажами медленно вился сизый дымок. Там поочередно отдыхали и обсушивались сменявшиеся с дежурства бойцы. На передовой стояла тишина. Солдаты, кажется, уже по привычке, переговаривались вполголоса, ведь до окопов противника здесь не далее сорока – пятидесяти метров. Вообще же, немцы теперь занимали в Киришах очень маленький плацдарм – вокруг моста и химкомбината. Но как же они загородились!! В два ряда лежала «спираль Бруно», за ней – рогатки с колючей проволокой, затем МЗП, а у самых окопов возвышался густо перевитый колючей проволокой забор.
К тому же все это расстояние до предела было насыщено разного рода минами и «сюрпризами». Впереди наших окопов я не заметил никаких заграждений, что давало гитлеровцам возможность делать ночные вылазки.
Беседуя на эту тему с солдатами и офицерами, я замечал на их лицах эдакую легкую ироническую улыбку:
– Да где уж им вылазить?! Боятся, как бы мы к ним не полезли! Вон как обгородились, видали? Третий месяц здесь сидим, а что-то не замечали, чтоб немцы к нам лазили.
– Наоборот, наши разведчики иногда лазят к ним, да тоже без толку, – возражали мне собеседники.
Эта самоуверенность, даже бахвальство очень мне не понравились, и я резко изменил тон и саму тему беседы.
– Беспечность на войне – величайшее зло, а зазнайство – недопустимый порок. Вы стали забывать, какого жестокого, хитрого, коварного и вероломного врага перед собой имеете, – упрекал я солдат и тут же рассказал, к чему привела подобная же беспечность, допущенная на плацдарме за Волховом летом 1942 года, в результате которой могла погибнуть вся рота, если бы не отважный поступок молодого солдата Шарапова. И заключил: – Никогда не кладите врагу пальцы в рот, обязательно откусит.
Только опираясь на живые и многим известные факты из фронтовой действительности, удалось несколько поколебать эту недопустимую беспечность. Солдаты мало-помалу стали осознавать свою ошибку и, соглашаясь со мною, давали обещание исправить ее, повысить бдительность. Тема повышения бдительности и боевой активности стала затем ядром большого разговора на собраниях ротных партийных и комсомольских организаций.
Численность стоявших в обороне рот была небольшой. Да, собственно, большому числу людей здесь и делать было нечего.
На нашем фронте в течение 1942 и 1943 годов фашистам приходилось только обороняться. Начиная с прорыва блокады Ленинграда у Синявина, их повсюду теснили. Лишь в редких случаях, на отдельных участках они пытались улучшить свои позиции, но и тут успеха не имели. Сейчас же гитлеровцы вели себя довольно мирно и старались ничем нас не огорчать.
Основные события в это время по-прежнему разыгрывались на юго-востоке страны, в районе Орджоникидзе – Грозный и под Сталинградом. Здесь шла величайшая битва, исход которой трудно было предсказать.
Самые упорные и кровопролитные бои шли теперь на улицах Сталинграда. Ни о каких тактических и стратегических планах Верховного Главнокомандования нам тогда, разумеется, ничего не было известно. А именно об этом нас и забрасывали повсюду вопросами.
Но что мы могли сказать тогда, если наши войска на юго-западе страны еле-еле сдерживали натиск врага? Ссылаясь на военную тайну, мы деликатно уходили от этих вопросов. Пользуясь уже надоевшими установками, мы продолжали говорить, что в настоящее время ведется линия на изматывание сил противника в оборонительных боях, чтобы, собравшись с силами, перейти затем в решительное наступление. Но в это уже мало кто верил. Мы, и конечно не только мы, не подозревали тогда, что говорим людям правду, что силы для решительного наступления уже готовятся. В этих мучительных беседах проходили у нас ночи напролет в теплых и душных блиндажах на передовой.
Парторг роты Телегин
Хотел я проведать еще две роты, 1-ю и 2-ю, но пришлось выбирать, так как время уже не позволяло посетить каждую. 2-я рота занимала более выгодные позиции, и у нее были хорошие подходы и связь, и я поспешил в первую, которая занимала позиции на самом левом фланге и упиралась почти в самый берег Волхова.
Командный пункт этой роты располагался на высоком склоне, с которого открывался широкий вид на Волхов и далекие просторы левобережья вверх по Тигоде – одному из притоков Волхова, где еще хозяйничали немцы. Слева через луг стоял темный, густой бор, подходивший к самому берегу могучей реки. За бором располагалась среди кустарников батарея артиллерийского полка.
Еще с утра подул резкий, порывистый северо-восточный ветер, он усиленно гнал мутные облака, и к полудню тяжелые тучи затянули все небо. Временами проносился мелкий и холодный дождь, переходивший иногда в ледяную крупу. Стало холодно и сыро, темновато и неуютно. Ветер против течения поднимал на реке высокие волны, временами срывая верхушки, брызгами выбрасывал их на берег. Волхов шумел, волновался, пенился, бился о берега, словно сказочный богатырь. Река приобрела какой-то суровый вид, вода потемнела. Такая погода в сочетании с затишьем на передовой уводила мысли далеко от войны, солдаты ходили вялые, сидели в окопах и блиндажах нахохлившись. Нетрудно было догадаться, где они сейчас мысленно бродят.
Приближалась вторая военная зима. Тяжелая для всех, она кажется во сто крат тяжелее солдату в окопе, у которого к тому же где-то живет семья: жена, дети, старики. Как они вступают в зиму? Запасли ли хлеба, овощей, продуктов, есть ли теплая обувь, одежда? Может, они все еще обивают пороги – хотя и редко, но встречаются еще бездушные чиновники и бюрократы. Ох! как тяжело отражалось на моральном состоянии солдат и офицеров изредка проявлявшееся бездушие и невнимание к их семьям.
Парторг роты старший сержант Телегин оказался на редкость активным и деловым коммунистом. Партийная организация под его руководством жила полнокровной жизнью. Все коммунисты имели те или иные партийные поручения. Боевой листок роты здесь выходил часто, хотя и нерегулярно. В нем можно было прочесть и о личном счете снайперов, и о ночной работе пулеметчиков, увидеть смешную карикатуру на завшивевшего немецкого вояку, и советы, когда лучше чистить оружие, и многое другое. Словом, рота не скучала, а партийная организация не бездействовала. Обходя боевые посты и огневые точки, я вдруг заметил, что на каждой из них висели либо у входа, либо просто укрепленные на стене окопа, или прикрепленные на двух палках – различные политические призывы и разного рода военные афоризмы, аккуратно выжженные на небольших дощечках, вытесанных топором из полена. Меня это сильно заинтересовало, и я попросил парторга рассказать, как они это делают.
– Да вот, как-то сидим в дождь, – начал парторг, – кто дремлет, кто тяжко вздыхает или задумался. Но нам-то, коммунистам, вешать головы и почивать на лаврах не положено! Думаю, чем бы занять людей? Говорю:
– Вот живем мы хотя и на передовой, а неплохо было бы и нам иметь в блиндажах, на постах и огневых точках настоящие лозунги и всякие там призывы, чтобы они всегда напоминали нам о наших задачах и обязанностях, о долге воина и тому подобное.
Ну, меня поддержали.
Но где их достать, эти лозунги? А кроме того, бумажные тут не годятся, они тут сразу раскиснут. Вот коммунист, товарищ Завсеголова, и говорит:
– А ежели написать лозунги на дощечках?
– Опять же, красок у нас нет никаких.
Так мы в тот раз ни к чему и не пришли. Долго я ломал голову над этим вопросом. Потом обозлился и говорю:
– А почему это я один должен думать? У нас в роте одиннадцать коммунистов.
И я тут же раздал партийные поручения всем коммунистам. Товарищу Завсеголова поручил натесать дощечек, товарищу Корнееву подобрать лозунги и призывы, а товарищу Пушталову написать лозунги. Пушталов сначала запротивился, говорит:
– Чем я буду тебе писать, гвоздем, что ли?
Я ему в шутку и сказал:
– Ну, если ты мастер писать гвоздями, так и напиши ими.
Он вдруг задумался, а потом и говорит:
– А знаешь что, парторг? Можно писать и гвоздем. На дереве-то ведь можно выжечь буквы?
– Можно, – говорю.
И Пушталов охотно взялся за это дело. Потом ему стали помогать другие, в том числе и беспартийные товарищи, и вот так у нас появились лозунги, призывы и всевозможные военные афоризмы. Как я уже сказал, в этой работе активное участие принимали и многие беспартийные товарищи. Среди них оказалось очень много энтузиастов, эрудитов и просто широко образованных людей, которые сами приходили нам на помощь.
– Это хорошее начинание у вас. Его следует передать и в другие роты, – поддержал я.
«Кто здесь командует?»
Закончив работу в ротах, я зашел на командный пункт батальона. Заместитель командира батальона по политической части Блохин встретил меня как-то недружелюбно. Он был почему-то мрачным и, кажется, на кого-то зол. На мои вопросы отвечал нервно, отрывисто. По всему было видно, что он чем-то недоволен, хотя, правду говоря, его редко можно было видеть довольным, вечно он на что-то брюзжал.
Правда, когда он был комиссаром, выглядел он совсем иначе, куда более бодро и даже заносчиво, а в батальоне – так просто «царь и бог»; на совещаниях или семинарах в полку, а тем более в дивизии – всегда ведущий оратор. Теперь же его словно подменили.
Осторожно, чтобы не задеть самолюбия и властолюбия Блохина, я стал выяснять причину такого его пасмурного состояния, но Блохин подчеркнуто делал вид, что он вообще ни с кем не хочет разговаривать, только изредка, отвернувшись и безнадежно махнув рукой, тянул:
– Э-э, да что тут говорить... – опускал голову и, уставив глаза в точку, сидел молча.
Разговор явно не клеился и, чтобы не стеснять раздосадованного замполита, я собрался уходить.
– Уйду я с этой работы! – неожиданно проговорил Блохин. – Подам рапорт и буду просить командную должность. Что я хуже буду командовать, что ли?! – Встал и вопросительно посмотрел на меня.
– Да, пожалуй, роль командующего для вас более подходит, а в политработники вы явно не годитесь, – иронически заметил я.
Блохин вспыхнул, но тут же смутился. Посмотрел мне в глаза, отвернулся и тихо сказал:
– Не могу я, понимаете, не могу! – Смолк ненадолго, резко вдруг повернулся и чуть не во все горло закричал: – Я имею образование не меньшее, чем любой командир! И командовать могу не хуже любого из них! Не хватало еще, чтобы мне заявляли: «Кто здесь командует?»
Только теперь я понял, что Блохин все еще никак не может поделить власть с комбатом.
Немало появилось подобных комиссаров и отдельных командиров, которые после Указа о единоначалии не могли поделить между собой власть, нанося определенный вред делу. Политотделам пришлось потратить немало труда, прежде чем удалось донести до каждого понимание Указа и воспитать правильные взаимоотношения между командиром и его заместителем по политической части.
Новая присяга
На командный пункт полка я вернулся утром, когда солнце уже выглядывало из-за вершин леса, плавя легкий иней утреннего заморозка, припудривший деревья. Небо очистилось от свинцовых туч, северо-восточный ветер почти затих, напоминая о себе лишь легким покачиванием вершин.
В полку готовились к торжественной церемонии по случаю принятия Боевого Красного Знамени полка и нового текста военной присяги. Оркестра в полку тогда не было. В первый год войны было не до оркестров. Напрягая все силы, мы тогда еле сдерживали бешеный натиск врага, и я даже не помню, когда и где были сданы на хранение музыкальные инструменты полков и дивизии, или, быть может, они так же, как и множество защитников Родины, погибли.
Из штабного блиндажа на поляну был вынесен большой, на крестовинах, стол, затянутый алой скатертью. На столе поставили массивный чернильный прибор из хрустально-чистого небьющегося стекла; этот брус стекла, подобранный возле разбитого самолета, был сделан каким-то искусным фронтовым мастером, который изобразил в нем крепость с двумя башнями. Тут же лежала и ручка с пером, сделанная, очевидно, тем же мастером и из того же материала. А рядом с чернильным прибором возвышалась стопка бумаг с текстами присяги.
Через всю поляну в четыре шеренги выстроились свободные от дежурства солдаты и офицеры полка. Командир полка и его заместитель по политчасти стояли возле стола, группа штабных офицеров сразу за ними.
Поднявшееся выше солнце стало ласково пригревать, залив своим ярким светом поляну, на которой готовилась торжественная церемония. Аккуратно одетые в добротную полевую форму, подтянутые и гордые, стояли солдаты и офицеры, ожидая начала церемонии. Впереди шеренги стояли разведчики и автоматчики с автоматами на шее.
Начальник штаба, выскочив из блиндажа, о чем-то тихо доложил командиру полка, а тот, склонившись к своему заместителю по политчасти, тоже о чем-то сообщил ему, и они тут же, отступив влево, оба вышли из-за стола вперед. В это же самое время из штаба вынесли Красное Знамя полка.
– Товарищи офицеры! Под знамя, смирно! – скомандовал командир и, не отнимая правой руки от головного убора, строевым шагом пошел навстречу знамени.
Встретив знамя, командир, преклонив правое колено, взял свисавший перед ним конец знамени и поцеловал его. Встав рядом со знаменем, он вернулся к столу. Знаменосец, увешанный орденами, с двумя ассистентами, подойдя к столу, сделал поворот кругом и встал лицом к строю. Все замерли в торжественном молчании.
Заместитель командира полка по политической части произнес краткую речь, разъяснив при этом положение о Боевом Красном Знамени полка и значение нового текста присяги. После этого командир полка подошел к столу, взял текст присяги и громким голосом перед лицом всех солдат и офицеров прочитал: «Я, сын трудового народа...»
Прочитав до конца весь текст, он взял ручку, осторожно обмакнул перо и подписал присягу. То же повторили замполит полка и все офицеры штаба. Затем начали по порядку подходить строевые офицеры, старшины, сержанты, а за ними и все солдаты. Они так же брали со стола листочек с текстом присяги, громко читали его. Затем подписывали и, гордые, возвращались в строй.
Я стоял в группе штабных офицеров и с приподнятым настроением смотрел на эту торжественную церемонию осени 1942 года, а в моей памяти возникла такая же церемония осени двадцать четвертого.
Мы тогда не читали и не подписывали текста присяги, потому что эту процедуру тогда могли бы выполнить не более 20—30% из всего числа солдат. Остальные были еще неграмотными. Их только начинали обучать грамоте, тут же в полку, на вечерних курсах ликбеза.
В седьмую годовщину Октябрьской революции, получив зимние буденовки, новые японские ботинки с обмотками, новые шинели и все прочее обмундирование, мы стояли в торжественном строю на тогда еще неблагоустроенной площади Хабаровска и смотрели на трибуну, где находились руководители Дальбюро ЦК РКП(б), Дальревкома, Дальбюро ВЦСПС.
Председатель Дальревкома Я. Б. Гамарник с бумажно-белым лицом и черной, как смоль, бородой и усами, громко читал текст присяги, а мы хором, как ученики мусульманской школы, повторяли за ним каждое слово присяги. Этим и заканчивалась вся церемония по принятию военной присяги, и, поскольку присягу не подписывали, то, естественно, она лишь морально накладывала ответственность на воинов. Теперь присяга обязывала нас и морально, и юридически.
Сила и значение военной присяги теперь возросли так же, как возросли общая культура, сила и боевая мощь нашей Красной Армии.
Партизаны
Вернувшись на командный пункт дивизии, к своему удивлению, я встретил здесь четырех молодых партизан, только что перебравшихся к нам через линию фронта. Они сообщили командованию очень важные сведения и рассказали:
– Между двумя фронтами – Волховским и Ленинградским – нам становится все труднее и труднее работать. В этом «мешке» немцы чувствуют себя очень плохо, поэтому они разорили здесь почти все села, деревни и многие города, а жителей угнали в Германию. В каждом оставленном в целости городе, селе или деревне теперь размещаются большие немецкие гарнизоны. Фактически мы лишены своей базы – народа, который нас питал, поддерживал и воодушевлял. Все леса и дороги заняты и сильно охраняются захватчиками. Нам, партизанам, укрыться фактически уже негде, поэтому принято решение: податься на юг области, куда-нибудь поближе к Пскову и Новгороду.
Слушая рассказ молодых партизан, мы с трудом верили, что в этом действительном мешке между нашими двумя фронтами, заполненном до предела войсками противника, могли еще жить и действовать партизаны. Объективные условия здесь прямо-таки были противопоказаны для партизан. И вот тебе – сами живые свидетели!
Что нас особенно поражало, так это чарующее спокойствие, мужество и деловитость молодых партизан. Они с олимпийским спокойствием рассказывали нам о своих действиях в гуще врагов и с таким же хладнокровием собирались в обратный путь, причем они наметили переправу через Волхов в таком месте, где, нам казалось, из-за немецких солдат – яблоку упасть негде.
– Верно, – поддержали партизаны. – Полтора-два месяца назад здесь действительно было такое положение, но сейчас оно резко изменилось. Гитлеровское командование забрало отсюда много солдат и офицеров, на их место доставили власовцев, и придвинули туда концлагеря военнопленных и гражданского населения. Власовцы теперь обслуживают все тылы и несут охрану дорог и прочих коммуникаций. Вот под их видом и при их помощи мы и пробрались к вам и таким же путем думаем вернуться обратно. В устье Тигоды нас ждут наши люди, а вот – немецкие пропуска, которыми снабжены все власовцы. Кроме того, мы все уже хорошо освоились с немецким языком, манерами и многими бытовыми традициями немцев, что они особенно уважают и поэтому охотно, без подозрения, вступают с нами в разговор, считая, очевидно, что им все же удалось нас онемечить, – со смехом говорили партизаны.
В штрафном батальоне
Обратный путь в политотдел армии был труден. Необходимо было пройти по бездорожью пешком десять-пятнадцать километров, а затем на попутной автомашине или повозке добираться до Будогощи. Не всегда удавалось подъехать. Приходилось часто преодолевать весь пятидесятикилометровый путь пешком, независимо от того, лето это или зима, осень или весна, ночь или день, сухо ли или грязь, по которой иногда приходится брести по колено. Война требует силы, несгибаемой воли, закалки и мужества от всех – солдат, офицеров, генералов и маршалов. Она не считается ни с чинами, ни с рангами: Не умей, например, бегать как хороший стайер командир нашей дивизии генерал-майор Замировский, он мог погибнуть в самом начале войны, его тогда спасли ноги.
Политотдел армии размещался в небольшой деревушке. Всего одна улица, и та кривая. Жителей в деревне было очень мало, большинство успели вовремя эвакуироваться в тыл, а часть была захвачена немцами, трудоспособных фашисты поспешили угнать в свою «цивилизованную» Германию. По этим причинам большинство изб в деревушке пустовало, они и пригодились нам для размещения политотдела.
При входе в деревню в двух или трех домах, отрезанных речкой, разместились редакция армейской газеты, типография и весь их персонал. За речкой, возле болотистой поляны стояла на отшибе большая изба офицерской столовой. И на противоположном конце деревни размещался наш дом Красной Армии – ДК, вместимостью пятьдесят-семьдесят зрителей.
Впоследствии мы вырыли клуб в земле – в центре деревни, на самом высоком месте. Его вместимость была в два-три раза больше и полностью обеспечивала не только нас, но и местное население. Здесь часто давались хорошие концерты и показывались кинокартины. Словом, ДК был настоящий. Его коллектив значительно пополнился ленинградскими профессионалами и участниками художественной самодеятельности.
В политотделе я встретил своего земляка, майора Цымбыла, которого знал по Петропавловску, где до войны он работал председателем Горпромсовета, а сейчас служил у нас начальником снабжения ПОАРМа[17] 17
ПОАРМ – политотдел Армии.
[Закрыть]. Секретарем армейской партийной комиссии прибыл подполковник Абишев – высокий, худощавый казанский татарин с добродушным лицом и вечной улыбкой.
Пополнившись всеми штатными единицами, коллектив политотдела армии мужал, набирался сил, крепчал и закалялся в работе. В целом это был коллектив немаленький, да и по характеру своей деятельности он представлял собой штаб всей партийно-политической жизни армии. Отсюда направлялась вся многосложная партийно-политическая работа каждой части и соединений армии.
Вскоре мне пришлось вновь побывать на плацдарме. Теперь он расширился почти до деревни Зеленцы и речки Тигоды. Немцы были зажаты в тесном клину у Киришского моста через Волхов, укрепились за высокой насыпью и удерживали пока предмостное укрепление.
У железнодорожного моста через Тигоду, на самом опасном месте стоял фронтовой штрафной батальон, который, очистив от гитлеровцев все устье Тигоды, укрепился под самой насыпью железной дороги, наверху которой еще гнездились огневые точки противника.
Линия фронта здесь шла по железной дороге Чудово – Кириши, от деревни Зеленцы до реки Тигоды. С северной стороны насыпи были немцы, с южной – наши. Наверху же насыпи контроль пока сохраняли за собой немцы, так как у них там еще с конца 1941 года существовали укрепленные огневые точки.
Штрафной батальон представлял собой довольно активную боевую единицу. Он не сидел без дела. Каждый день чем-то досаждал врагу. Состав батальона не шел ни в какое сравнение с составом штрафной роты. Здесь находились только бывшие офицеры всех рангов. Это грамотный и более культурный народ, но допустивший в свое время трусость и неустойчивость в бою или совершивший то или иное преступление, осужденное народным судом или военным трибуналом, и теперь они искупали тут свою вину кровью. Здесь так же, как в штрафной роте, раненые и погибшие в бою полностью реабилитировались. Им возвращалось прежнее воинское звание, ордена и все привилегии, которыми они пользовались до суда, а проявившие храбрость и отвагу в бою награждались орденами на общих основаниях.
Сознавая справедливость наказания, люди здесь сражались с полным сознанием долга и воинской чести. С тем же сознанием они готовы были искупить свою вину кровью, даже ценой собственной жизни. С таким составом батальона командирам и политработникам работать было куда легче, чем в штрафной роте, где на одного штрафника из числа солдат, сержантов и старшин приходилось десять рецидивистов уголовного мира.
Обмундирован батальон был по-разному. Были одетые в солдатские шинели и кирзовые сапоги, положенные в батальоне по форме, другие – в офицерских шинелях со споротыми знаками различия, в хромовых или яловых офицерских сапогах, на головах – солдатские шапки-ушанки, офицерские шапки, папахи, даже фуражки. Все зависело от того, кто когда прибыл в батальон. А так как состав его то и дело менялся, то и пестрота в обмундировании оставалась постоянной.
Интересное зрелище представлял собой батальон и по личному составу. Тут были и бывшие молоденькие худощавые лейтенанты, и покладистые майоры и подполковники, солидные полковники и толстопузые интенданты-снабженцы.
Характерная особенность. В штрафной роте люди охотно рассказывали о себе, как правило, нещадно перевирая и стремясь доказать, что попали сюда ни за что ни про что; в штрафбате об этом никто не заикался, и приказания здесь выполнялись по-уставному быстро, точно и четко, умело и грамотно.
Обходя огневые точки, я заметил увесистого солдата, пудов на десять, как Черчилль. Несмотря на такую свою тяжеловесную комплекцию, он энергично выпрыгнул из дзота, вытянулся и четко доложил:
– Товарищ майор! На огневой точке все спокойно. За время дежурства – никаких происшествий. Докладывает командир расчета солдат Барыгин!
Меня поразила эта недопустимая «дисциплинированность» на передовой. И как бы в подтверждение, сидевший где-то на насыпи замаскированный немец ударил по нас из пулемета. Барыгин кубарем скатился в дзот, я следом и, увидев его перепуганное лицо, в шутку спросил:
– Ну что, товарищ командир, может, еще вылезем – поговорим по-уставному?
Сконфуженный, он криво усмехнулся.
– У вас что, командиры ввели такой порядок? – спросил я.
– Никак нет, товарищ майор! – выпрямившись на коленях, возразил командир расчета. – Привычка военного, товарищ майор!
– Ну и привычка! Хорошо, что немец оказался мазилой и пули рассеялись.
Адъютант комбата капитан Файсман
Перебрался за штрафной батальон вдоль линии железной дороги и направился в соседнюю часть.
Более полугода я не видел места плацдарма, не знал, кто его теперь охраняет, какие там дислоцируются части. Меня необоримо тянуло на это место.
И вот я здесь: границей между штрафбатом и его левым соседом служила бывшая наша линия обороны, когда плацдарм был еще сравнительно небольшим клочком земли за Волховом. Сейчас, проходя этот участок, я внимательно вглядывался в землю, чтобы случайно не набрести на свои же противопехотные мины, расставленные нами в начале сорок второго... и неожиданно встретил старого друга товарища Гайворонского! Он обходил с двумя автоматчиками свой правый фланг, примыкавший к штрафному батальону.
Ни о чем не спрашивая, он подхватил меня под руку и потащил к себе на КП. По пути я поинтересовался, жив-здоров ли его комиссар Осадчий, ведь мы не виделись уже больше года. Он удивленно взглянул:
– А вы не знаете? Погиб он, под Киришами, еще в январе.
– И кто же теперь заворачивает у вас политикой?
– Теперь у меня замполитом капитан Магзумов.
– Магзумов? – удивленно переспросил я.
– Да, Магзумов, – подтвердил Гайворонский.
– Вот неожиданная встреча! – обрадовался я.
– А вы разве его знаете?
– Знаю и, кажется, больше вашего.
В блиндаже я сразу оказался в крепких объятиях Магзумова. Он трепал меня, вертел, разглядывая со всех сторон, словно стремясь открыть во мне что-то новое, ему неизвестное. Засыпал вопросами, стараясь поскорее узнать обо всем: об изменениях в дивизии, о родном Казахстане и о Балкашке, где остались его старики и любимая девушка. Рассказывая, я тоже внимательно его рассматривал. Он сильно возмужал, культурно вырос, окреп идейно, довольно свободно разбирался в политике, а звание капитана просто вросло в него. Одно ему мешало – казахский акцент; как ни старался он яснее, четче выговаривать русские слова, ему это не всегда удавалось; например, он никак не мог выговорить «Николай Иванович» – обязательно скажет «Мекаляй Ибаныш», зато «Шустиков» – выговаривал точно, «Борис» или «Петя» – тоже правильно.
Гайворонский сидел сбоку, внимательно наблюдал за нашей встречей, не вмешиваясь и не перебивая. Не знаю, сколько времени мы проболтали с Магзумовым, только вдруг распахнулась дверь, и в блиндаж вошел... Файсман.
– О, кого я вижу! – воскликнул я. И вдруг вырвалось: – И сам не рад...
– Нет, зачем же?! Наоборот, очень рад вас видеть, – возразил Файсман. – Вы знаете, с тех пор как ушел из саперного батальона, кроме вас, никого еще не встречал ни из батальона, ни из штаба дивизии, ни даже из политотдела дивизии. Вот, оказывается, как до нас далеко.
– Да нет, не так уж и далеко, если я за шестьдесят километров до вас добрался.
Все удивились и чуть ли не разом спросили:
– Как? Почему за шестьдесят километров? Разве тут будет шестьдесят?
– Куда?
– Ну, до Киришей.
– Так ведь я давно Кириши оставил.
– Как оставил?!
– Так и оставил! Бросил их и ушел в Будогощь!
Все с недоумением и интересом ждали моего откровения, и я коротко рассказал, что уже более трех месяцев работаю в политотделе армии, а со своей дивизией имею лишь периодическую связь. После такого известия прежний интерес ко мне заметно упал, мое сообщение для них оказалось неожиданными и каким-то далеким.
– А какая же теперь наша армия? – вдруг спросил меня Гайворонский.
– А вы что, не знаете? – удивился я.
– Представьте себе, не слыхал. Знаю, что фронт у нас Волховский, а в какую армию входим, не знаю, – откровенно признался он. – Знаю, что в сорок первом под Волховом воевали в 54-й армии, а вот после этого... В какой армии брали Кириши, Черницы и этот плацдарм? Сами знаете, какие бои шли, не до того было. Да и на что они нам, эти армии? Мы с ними дела не имеем. Полк, дивизия – вот наше начальство, этих мы знаем.
И действительно, об армии на передовой часто знали меньше, чем о фронте. На передовой почти каждый солдат хорошо знал, что он находится на Волховском фронте, но в составе какой армии, мало знали даже из числа офицеров. Зато свой полк и дивизию каждый знал хорошо. Это объясняется тем, что полки и отдельные части дивизий никогда не меняются – это постоянные единицы. Фронт – тоже более стабильное соединение. Что же касается армий и корпусов, то они подвергаются более частой передислокации, переходят из фронта во фронт. Кроме того, армейские работники редко доходят до передовой, большинство их заканчивают свои командировки дивизией или, в лучшем случае, полком, особенно те, кто пришел в армейский аппарат сверху.
Беседа наша теперь приняла совершенно иной характер. Если прежде меня все спрашивали, то теперь уже я расспрашивал своих собеседников и друзей:
– Ну, а вы, товарищ Файсман, как попали в первый батальон?
– Да, собственно, в третьем батальоне, куда меня назначили, мне не пришлось работать, я там пробыл всего несколько дней, и меня перевели сюда, с тех пор здесь и работаю. Но знаете, товарищ майор, если бы сейчас предложили вернуться в саперный батальон – ни за что не согласился! Вы знаете, какая здесь интересная работа? Трудная, опасная, но живая, боевая – здесь видишь войну в глаза, чувствуешь себя непосредственным ее участником и понимаешь, что от тебя зависит успех или провал боя, всей операции, стараешься отдать делу не только самого себя, но и направить на его успех все, что тебе подчинено и что поручено. И вот представьте, я не только привык к этой работе, но, откровенно говоря, полюбил ее; кажется, если бы меня вернули обратно в батальон, я бы оттуда либо сбежал, либо заплесневел там. – И, усмехнувшись, спросил меня: – А, когда меня переводили в стрелковый батальон, я ведь тогда струсил, помните?








