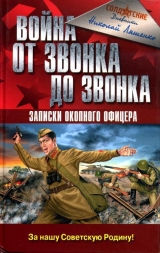
Текст книги "Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера"
Автор книги: Николай Ляшенко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
БОИ ПОД ТУКУМСОМ. КУРЛЯНДСКАЯ ГРУППИРОВКА ВРАГА
Все советские острова в Балтийском море и Рижском заливе были полностью очищены наконец от немецко-фашистской нечисти, и наш корпус, передав побережье под охрану морской бригады, развернулся на юг и юго-восток в направлении Талей – Кандава – Тукумс. Войдя в состав Первой Ударной армии, мы вели здесь бои вплоть до Дня Победы и даже после него.
В Курляндии, на этом сравнительно небольшом клочке латвийской земли, оказалась сконцентрирована огромная армия немецко-фашистских захватчиков, разгромленных и изгнанных из-под Ленинграда и Новгорода, Старой Руссы и Великих Лук, из-под Пскова и Нарвы, из всей Эстонии и почти всей Латвии. Здесь скопилось более четырехсот тридцати тысяч завоевателей и огромное количество боевой военной техники, немалое количество военных и транспортных морских судов. Кроме того, имея в своем распоряжении два незамерзающих порта – Либаву и Вентспилс, немцы в Курляндии долгое время получали значительную поддержку морем.
Зажатая почти со всех сторон, эта военная группировка гитлеровской армии тем не менее сопротивлялась очень упорно. Зарывшись глубоко в землю и одевшись в железобетон, она чего-то ждала. Уже пал Кенигсберг, эта цитадель милитаристского пруссачества, взят Данциг, освобождена Варшава, наши войска вступили в Померанию и уже форсировали Одер, а Курляндская группировка, оказавшаяся в глубоком тылу, все продолжала упорно сопротивляться. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что ни на одном из фронтов советско-германской войны не было более упорного и более длительного сопротивления фашистов, чем в Курляндии.
Если в начале войны основным двигателем для фашистской армии была идея захвата и грабежа чужих земель, то теперь, в конце войны, двигателем этой армии стал страх.
Заняв Тукумсские возвышенности, немцы сильно укрепили их, создав глубокоэшелонированные укрепления, заминировав все возможные проходы; кроме того, огневая насыщенность здесь была очень велика, а запасы боеприпасов, кажется, неограниченные. Это было видно по тому, что во все время своего окружения гитлеровская группировка снарядов не жалела. Обладая большим количеством тяжелой и дальнобойной артиллерии, фашисты иногда устраивали внезапные огневые налеты на наши коммуникации, штабы и районы сосредоточения. Всю осень и зиму 1944—1945 годов здесь шли непрекращающиеся бои и днем и ночью. Кольцо окружения сжималось все теснее.
К весне сорок пятого фашистская группировка в Курляндии без нужды уже не стреляла, а мы свободно ходили и ездили по всем рокадам, не опасаясь внезапных налетов. Участились и случаи перехода к нам немецких солдат и даже офицеров.
Официальная фашистская пропаганда тщательно скрывала от своих войск действительное положение на Восточном фронте, сложившееся к весне 1945 года. Когда в конце марта мы взяли в плен группу фашистских офицеров и солдат под Тукумсом, стоило большого труда убедить их, что наши войска ведут бои уже на территории Германии. Их, оказывается, все еще убеждали в том, что «ост-фронт» стоит непоколебимо и что с наступление весны и лета они вновь пойдут на Москву. Узнавая правду, они сами изъявляли желание выступить через громкоговорящую установку со своими обращениями к немецким солдатам и офицерам, призывая их не умножать жертвы и прекратить уже бессмысленное сопротивление.
ГРОЗНЫЙ ГЕНЕРАЛ КОЛЕСНИКОВ
С наступлением весенней распутицы бои случались реже и свободного времени становилось больше. На передовой установилось «перемирие» – не стреляли ни наши, ни немцы. Военных занятий, как прежде, больше не проводилось, к тому же мы размещались по мелким хуторам, разбросанным по лесам и заболоченным местам, центром которых была школа-интернат, располагавшаяся в густом девственном лесу. Да и жили мы среди населения. Все это, а также возрастающее чувство приближения победы неизбежно и как-то незаметно отражалось на морально-этическом состоянии войск, особенно в их штабной и тыловой среде, да и в сопредельных с нею. Нельзя сказать, что это состояние доходило до степени морально-бытового разложения или нарушения этики, тем не менее оно снижало в известной мере боеспособность корпуса. Война еще не была окончена, и предупредить симптомы разложения мы были обязаны.
Разумеется, как могли, мы боролись с донжуанством, аморальными проявлениями и другими симптомами разложения, но наших усилий явно не хватало. Наша работа была скорее профилактической. Да, собственно, мы, работники политотдела корпуса, и не могли доводить ее до логического конца, для этого у нас не хватало власти.
Самым грозным, последовательным и, я бы сказал, бескомпромиссным и решительным борцом в этом деле у нас всегда выступал член Военного совета Первой Ударной армии генерал-майор Колесников. Он так умело и искусно собирал информацию о политико-моральном состоянии войск, что точно знал об интимных отношениях и их конкретных носителях в каждой дивизии, полку и даже в отдельных частях и подразделениях армии. За это я был буквально влюблен в него. За всю войну, а прошли мы через множество фронтов и армий, я не встречал такого энергичного, такого вездесущего, справедливого и легко доступного генерала, такого умного политического деятеля, каким был член Военного совета Первой Ударной армии генерал-майор Колесников.
Штаб дивизии. Здесь была не одна машинистка и много телефонисток, телеграфисток, другого женского персонала, но генерал подходил только к тем из них, кто был замечен в любовных романах. Однажды, он быстро подошел к белокурой машинистке и строго спросил:
– Фамилия? Имя? Отчество? – И после неохотного ответа ехидно протянул: – А-а-а! Та самая, знаменитая Зиночка! – Тут же повернулся к своему адъютанту и приказал: – Перевести в другую дивизию.
В другой раз, подойдя к телефонистке оперативного отдела, спросил:
– Кто такая?
Та тяжело поднялась со стула и доложила о себе. Последовали вопросы:
– Фамилия? Имя? Отчество?
Обращаясь к адъютанту, генерал на этот раз приказал:
– Демобилизовать!
Но бывало и по-другому. Зайдя в общежитие девушек батальона связи, генерал долгое время расхаживал, бессистемно беседуя, улыбаясь девушкам. Затем, насупив брови, строго спросил у старшины общежития:
– А где же ваша «маленькая Валя»?
Было впечатление, что генерал здесь бывает каждый день и знает в лицо каждую из девушек. Между тем он был здесь впервые. Смутившись, старшина как-то неуверенно доложила:
– Она на линии.
– Вызвать ее сюда немедленно! – приказал генерал и, повернувшись к столу, уселся на стул, явно намереваясь ждать «маленькую Валю».
Необдуманно сказав генералу неправду, старшина растерялась и не знала, что делать. Как теперь вызвать «маленькую Валю», которая только что убежала к своему, такому же маленькому, как она сама, капитану.
– Что же вы медлите, товарищ старшина? У меня не столь уж много времени, чтобы его тратить на каждую Валю, – улыбнувшись, сказал генерал. – Кроме того, вы напрасно волнуетесь. До капитана Устинова здесь совсем недалеко, и вы бы уже давно были там, если бы не раздумывали, как еще раз обмануть меня.
Поняв, что генерал все знает, старшина залилась краской и, схватившись за голову, воскликнула:
– Ой! Я сейчас, товарищ генерал! – И тут же скрылась за дверью.
Через несколько минут она ввела побледневшую «маленькую Валю». Валя действительно была небольшого роста, но звали ее «маленькой» потому, что среди нескольких Валь батальона она была моложе всех. Красивая сама по себе, она выделялась среди девушек батальона великолепным, хорошо развитым бюстом.
Крепко сложенная, аккуратная и подтянутая, дисциплинированная, вежливая – она нравилась многим, но сама полюбила одного – капитана Устинова, который тоже души в ней не чаял. Все это генерал уже давно и хорошо знал из беседы с самим капитаном Устиновым, и теперь он просто хотел познакомиться с самой «маленькой Валей» и ее подругами.
Опустив глаза, старшина и «маленькая Валя» неподвижно стояли перед генералом.
– Садитесь, – приказал генерал и спросил Валю: – У вас родители есть?
– Есть, – тихо ответила та, не поднимая головы. И так же тихо добавила: – У меня одна мать.
– А у капитана Устинова есть родители? – неожиданно спросил генерал.
Бледное до этого лицо Вали вдруг вспыхнуло и залилось всеми красками. Подняв голову, она схватилась рукой за горло, будто высвобождая его от чего-то душившего и чуть слышно проговорила:
– Не знаю.
– А капитан Устинов знает, что у вас есть мать? – снова спросил генерал.
– Я ему еще не говорила, – несколько осмелев, ответила девушка.
– Что ж так? Пора бы уже пошире объясняться, да и о своем капитане надо бы знать все. Ведь вы уже давно с ним знакомы, не правда ли?
Голова Вали снова упала на грудь. Опустив руки на колени, она перебирала пальцами и молчала. Лицо ее мигало, как светофор, то краснея, то теряя всякую окраску. Девушки, сидевшие на койках и редких стульях, тоже молчали, уставившись на Валю, и, наверно, думали: «Что-то теперь будет с нашей «маленькой Валей»?» – Генерал слыл строгим и беспощадным судьей.
– Ну вот что, – после строгого допроса Вали, глядя на часы, сказал генерал. – Времени у меня осталось маловато, на длительную беседу не рассчитывайте, мы сейчас уезжаем. Но должен вам сказать, что мы, то есть партия и государство, а в данном случае командование армии не осуждает вас за вашу искреннюю и горячую любовь к капитану Устинову, тем более, как нам известно, он парень холостой и образованный, честный, воспитанный человек и, кажется, так же горячо вас любит, как вы его. Все это хорошо и естественно. Каждая девушка и каждый молодой парень несомненно стремятся создать семью, это общечеловеческое стремление, заложенное самой природой, и препятствовать ему было бы дико и недостойно.
Но беда состоит в том, что некоторые молодые люди несерьезно относятся к этому очень серьезному делу. Вот, к примеру, пришлось демобилизовать по беременности вашу подругу Любовь Ветрову, которая очень легкомысленно доверилась лейтенанту Губанову и явно поторопилась удовлетворить свои половые потребности, не задумываясь о последствиях. Правда, и лейтенант Губанов оказался низким, бессовестным подлецом, скрывавшим от девушки, что женат и имеет двух детей. Но все это вовсе не оправдывает Ветрову. Прежде чем отдаваться мужчине, девушка должна знать о нем все, быть уверенной в искренности его любви, в его честности, порядочности и рыцарских достоинствах.
Как вы понимаете, – генерал окинул взглядом девушек, – узнать человека с первого взгляда невозможно. Хотя первый взгляд подает кое-какие надежды и уверенность, все же этого недостаточно для более полного знания о полюбившемся вам человеке. На это иногда уходят долгие месяцы и даже годы. Поэтому-то и не следует слишком торопиться в таких делах. Кроме того, в судьбе молодой четы немаловажную роль играют и родители. Знать их тоже необходимо. Вот почему, между прочим, я спросил вас о родителях. – Генерал глянул на часы: – Ну-с, вот, пожалуй, и все, что я успеваю вам сказать. Через двадцать пять минут у меня заседание Военного совета, и времени осталось только доехать. До свидания! – Быстро встал и направился к входу.
– До свидания! Спасибо, товарищ генерал! – хором прокричали девушки.
– Не стоит благодарности, – обернувшись, произнес генерал. – Это моя профессия и обязанность.
Своей беседой генерал задел в их душе самую звонкую струну, она продолжала звенеть, и, не зная, чем ее заглушить, они вдруг набросились на Валю, стали обнимать ее, целовать:
– Ой, Валечка, какая же ты счастливая! А мы думали, генерал и тебя демобилизует.
– Ой, девочки! Если бы вы знали, как я перепугалась, когда Вера сказала, что меня ожидает в общежитии член Военного совета армии! Честное слово, если бы не Вера, я бы, наверно, не нашла общежития. Какой-то туман затянул глаза, а в голове – настоящий сумбур! Я первое время даже плохо видела и чуть слышала, что он говорит.
В общежитии стоял не то визг, не то смех, не то плач. Шум за дверью становился похожим на ярмарочный.
Сделав таким путем основательную чистку штабов, отделов и служб тыла, генерал-майор затем задал хороший нагоняй замполиту и начальнику политотдела дивизии за их антипартийное отношение к этому важному морально-политическому делу.
Откровенно говоря, мы, рядовые работники политорганов армии, часто восхищались этой бескомпромиссной работой генерал-майора Колесникова и помогали ему как могли. Деятельность генерала в значительной мере облегчала наш труд, ибо как бы принципиально и настойчиво мы ни работали, без такой энергичной и решительной поддержки со стороны члена Военного совета армии одним нам бороться было бы трудно.
МОЛОДЕЖЬ ПОЛИТОТДЕЛА
Еще зимой от нас перевели майора Звонкова, Сашу Лебедева, капитана Воробьева и некоторых других работников политотдела корпуса. На их место пришли новые, по преимуществу молодые работники. Среди них спокойный и рассудительный сибиряк капитан Кузнецов из далекой Ермаковки Красноярского края, комсомольский вожак капитан Кравцов, ленинградец Петя Калашников и капитан-украинец, не помню его имени. Все они с ходу включались в боевую работу политотдела, и нам приходилось знакомиться друг с другом лишь в часы коротких пауз между боями.
Бывало, придешь из дивизии или отдельной части, а в политотделе какие-то новые люди. Не успел с ними познакомиться, как вызывает начальник и говорит, что в такой-то дивизии произошло ЧП, и тебя срочно направляют для расследования, а вернувшись, часто уже не находишь на прежнем месте ни штаба, ни политотдела корпуса – передислоцированы на другое место. В такой обстановке, чтобы обстоятельно познакомиться с товарищами по работе, требовались иногда месяцы.
И все-таки проходило какое-то время, и мы не только знакомились, но и свыкались, как родные, даже ближе. Наибольшим доверием и уважением из молодых работников у нас пользовался мой земляк, сибиряк капитан Кузнецов. Это был молодой по возрасту и по стажу в нашей работе человек, выросший в комсомоле. Хорошо воспитанный, честный и прямой, с бесхитростной открытой душой. Ему совершенно не свойственно было лгать, обманывать, скрывать свои мысли, заискивать перед кем бы то ни было, изменять своим убеждениям. Казалось бы, и внешне такой человек должен быть несколько угловатым, неподатливым, грубоватым, резко выделяющимся, однако ни один из этих эпитетов к капитану Кузнецову не подходил. Напротив, это был редкой доброты человек с приятным, мягким, я бы сказал, эластичным характером; из его правил: работать – так работать, отдыхать – так весело. Сдружились мы с ним как-то незаметно, постепенно, но эта дружба переросла в настоящую привязанность.
Новый наш комсомольский вожак, помощник начальника политотдела корпуса по комсомолу капитан Кузьма Кравцов, был несколько слабее Саши Лебедева. Он был и моложе его, и менее опытен, да и ростом невелик, но все же парень он был хороший и, безусловно, на своем месте. Круглолицый весельчак, он пользовался уважением и авторитетом среди комсомольцев, а особенно – среди комсомолок, одна из которых впоследствии и стала его женой. А когда мы шутили по этому поводу, он, улыбаясь, отвечал: «А как же: ходить по воде и не замочиться?»
Петя Калашников, как мы его нежно называли за его моложавый и молодецкий вид, был из Ленинграда. Архитектор по образованию, он до войны почему-то работал в аппарате городского райкома партии, будто у нас в стране к тому времени архитекторов было уже видимо-невидимо.
Капитан-украинец прибыл к нам последним, был он тоже молод и с образованием, но о нем пока мы не знали подробностей. Внешне он был похож не на украинца, скорее на типично русского из Смоленской или Орловской губернии, но говорил по-украински, как, впрочем и по-русски, отлично.
НЕПРИЯТНЫЙ СЛУЧАЙ В ОПЕРЕ
В дни длительных затиший между боями, которые теперь зависели только от нас, мы посещали Ригу, знакомились с ее достопримечательностями, интересовались ходом восстановительных работ, в частности, строительством большого деревянного моста через Даугаву в центре Риги. Это уникальное сооружение было спроектировано нашими инженерами и построено нашими военными саперами в рекордно короткие сроки. С открытием движения по этому мосту была восстановлена регулярная связь между Старой и новой Ригой, прерванная немцами, которые взорвали все мосты через реку.
В один из зимних вечеров 1945 года мы посетили знаменитый Рижский театр оперы и балета. Шла опера «Евгений Онегин» на русском языке; какой театральный коллектив ее ставил, я уже не помню, но музыка и исполнение ролей были прекрасны.
Театр этот стоит в самом, что называется, бурлящем центре Старой Риги, но стоит своеобразно, обособленно и красиво – как монумент культуры и просвещения. Его не оскверняют своим соседством ни церкви, ни соборы, ни кирки, ни костелы, ни синагоги, ни мечети – эти очаги рабства, невежества, темноты и мракобесия. Он гордо высится посередине центральной площади Риги. К нему не примыкают даже парки и скверы, лишь цветочные газоны окружают его со всех сторон. Так же замечательно расположены только Драматический театр имени А. М. Горького в Ростове-на-Дону и Театр оперы и балета имени А. С. Пушкина в Евпатории, с той лишь разницей, что к этим последним примыкают тенистые парки.
Однако, не столько опера, сколько одно неприятное происшествие, случившееся со мной в этом театре, врезалось мне в память. На спектакле, разумеется, большинство присутствующих составляло гражданское население, но немало было и нас, военных, мы занимали правую ложу во втором ярусе. Не знаю, там ли, или еще в гардеробной, а может быть, на пути из раздевалки к ложе это и произошло.
За всю мою жизнь я помню только один случай, когда меня обворовали в моем присутствии, и то лишь потому, что я спал. Но здесь! Во время войны! Да еще в театре!? Такого позора до сих пор не могу себе простить. А было так.
На поясном ремне, рядом с пистолетом, у меня всегда висела красивая финка в изящном футляре и в красивой пластиковой оправе. Финку эту подарила мне ленинградская делегация трудящихся, посетившая свою подшефную 44-ю стрелковую дивизию на Волховском фронте, где летом 1942 года я находился в командировке в качестве представителя политотдела 4-й армии. С тех пор я никогда с ней не расставался и хранил, как зеницу ока, наравне с пистолетом и важнейшими личными документами. В сочетании с револьвером и двумя-тремя ручными гранатами «Милс» она составляла мое постоянное личное вооружение, с которым я чувствовал себя настолько уверенно, что почти всегда ходил на передовую один в любое время дня и ночи, даже в самой опасной обстановке не опасаясь за свою жизнь. С таким оружием я ни за что не отдал бы свою жизнь даром никакой, даже самой дерзкой и смелой разведке врага.
Но вот, увлекшись спектаклем, я на какое-то время забыл, что нахожусь все-таки на фронте, что не только терять, но даже снижать свою бдительность еще рано, что враг еще вертится вокруг нас, выискивая малейшую возможность вновь вцепится тебе в горло. Словом, спохватившись в ложе, когда уже шла опера, – я обнаружил пустой футляр!
Знаменитый финский нож, необходимый на фронте, как воздух, какой-то негодяй незаметно у меня вытащил! Но если это сделал замаскировавшийся враг, то почему он тут же не всадил его мне в спину? По всей вероятности, эту «шутку» проделал надо мной обыкновенный, но ловкий в этом деле мелкий базарный воришка, который, даже находясь в театре, продолжал заниматься своим грязным делом.
Как бы то ни было, но это происшествие меня сильно задело и крайне разволновало. Обидно было сознавать, что оказался размазней – потерял бдительность! Ведь война – это прежде всего бдительность, бдительность и еще раз бдительность! Бдительность во всем, всюду и всегда! И вот, офицер Советской армии, увлекшись оперой, на какое-то мгновение теряет бдительность – за что может поплатиться жизнью! Это ли не безобразие?! Отдать жизнь даром – без борьбы, без пользы для Родины?! Такой оплошности я простить себе не мог и, оторвав со злостью пустой футляр с пояса, я швырнул его в урну.
Негодование, злость на самого себя за такое недопустимое для советского офицера разгильдяйство, возросли настолько, что я уже не мог ни слушать, ни смотреть оперу. Раздосадованный, я порывисто встал с места и вышел из театра. Уличного освещения в Риге пока не было, как прифронтовой город она была затемнена. Вся освобожденная Россия, вся Украина и Белоруссия, Эстония и Литва, даже сама Латвия уже сверкали огнями новостроек и восстановления, а Рига все еще вынуждена была ждать – фронт, да еще такой яростный, находился от нее всего в ста километрах. На улице было темно, сыро и холодно, моросил дождь, с моря дул холодный, порывистый ветер; завихряясь среди высоких многоэтажных домов, он, словно по заданию управдома, старался вымести весь мусор из всех закоулков. Укрыться от такого ветра невозможно нигде, он всюду меня преследовал, будто хотел вымести из города вместе с мусором.
Возвращаться в театр не хотелось, а провести время до конца оперы было негде. Прохаживаясь по площади, я незаметно для себя оказался в здании железнодорожного вокзала, который, к моему удивлению, находился в центре города и замечательно вписывался в него. Пассажирские поезда тут заходили прямо в вокзал, как во двор, а доставив пассажиров, пятились назад, разворачивались где-то на стрелках и уходили на места стоянки. Не знаю, хорошо ли, удобно ли это для железнодорожников, но для пассажиров, приезжающих в Ригу, это очень удобно: выйдя из поезда, они сразу оказываются в центре города; такое встретишь не везде.
Когда я вернулся в театр, было около двадцати четырех часов. Опера закончилась, и шумливая публика густыми толпами растекалась во все концы. Солдаты и офицеры торопливо и весело занимали места на скамейках открытых кузовов грузовых автомобилей, раскрывали свои плащ-палатки, стараясь полностью завернуться в них, особенно укрывая голову, затем хорошенько умащивались на скамейках, плотнее прижимаясь друг к другу, ведь ехать предстояло почти два часа под дождем и ветром, умноженных быстрым движением. Офицеры проверяли солдат и приказывали укрываться получше.
Наша знаменитая плащ-палатка! Она под стать русскому советскому солдату! Она крепка и вынослива, не пропускает ни воды, ни ветра, а в сочетании с шинелью или ватной курткой хорошо согревает в осенне-зимнюю стужу. И при все этом – легка и малогабаритна! За время войны к плащ-палатке мы так привыкли, что и потом не хотелось с ней расставаться.
Усевшись, солдаты затянули веселую песню, и под ее аккомпанемент мы тронулись в обратный путь.
Но я, несмотря ни на что, не мог успокоиться и в тяжелом самобичевании проехал всю дорогу молча.








