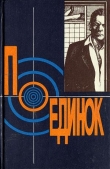Текст книги "Поединок. Выпуск 14"
Автор книги: Николай Леонов
Соавторы: Николай Шпанов,Леонид Млечин,Аркадий Ваксберг,Петр Алешкин,Виктор Пшеничников,Евгений Богданов,И. Скорин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
– Что стряслось-то? – сочувственно спросила его соседка.
– Ничего, все в порядке! – поспешно ответил Лемке. Поспешность скрыла акцент.
Автобус шел по Кутузовскому проспекту. У арки победы над французскими оккупантами водитель объявил, что в связи с ремонтными работами на шоссе поведет автобус параллельными улицами. Кого не устраивает, могут слезть. Ответом был возмущенный гвалт.
– И не забудьте своевременно оплатить свой проезд, – прибавил он, – стоимость одного билета пять копеек, бесплатный проезд дороже на три рубля.
– Юморист, – проворчала соседка. – Лучше бы ездил вовремя. А то станут у кожзавода и ну в домино биться. Зла не хватает.
Кожзавод, отметил про себя Лемке. До войны на Сколковском шоссе была дубильная мастерская. В ней работал двоюродный брат Пауля.
Автобус вильнул влево и въехал в узкую улицу. Потянулись трехэтажные и двухэтажные дома с удивительно знакомыми очертаниями. Бог мой, откуда здесь эти фахверки и круглые слуховые окна?
Соседка, проследив направление его взгляда, равнодушно проговорила:
– Пленные немцы строили. Техники-то никакой не было, все вручную. Вот и понатыкали уродов этих. Дома не дома, бараки не бараки, черт знает что.
Лемке почувствовал неприязнь к ней и острую жалость к безымянным соотечественникам, выстроившим эти дома вручную.
– ...Помню, ведут их на работу, ну, пленных этих, а они худущие, кожа да кости, глядеть страшно! А я как раз хлеб получила, буханочку такую круглую и довесочек с пол-ладошки. Идем это с Вовчиком, с сынишкой значит, я ему, Вовчику-то, и говорю, подойди, говорю, сынок, отдай им хлебушек, господь с ними...
Лемке коротко, смято глянул на соседку: рыхлое лицо ее затуманилось, у переносицы скопилась влага.
– Не бойся, говорю, Вовчик, чего их теперь бояться, их теперь и пожалеть можно...
– Извините, – Лемке сделал попытку встать. Женщина молча развернулась – ногами в проход, – выпустила его.
– Школа, – объявил водитель.
Спрыгнув с подножки, Лемке очутился перед кафе. «Мцхета» – с трудом разобрал он вывеску. Не раздумывая толкнул тяжелую стеклянную дверь. В кафе было пусто, сумрачно, пластиковые столы отдавали влажной прохладой. Лемке огляделся и обнаружил крошечный бар. За круглой стойкой, как соломинка из бокала, торчала длинная человеческая фигура.
Лемке поздоровался.
– Сто грамм и конфетку? – скучно спросил бармен.
– Сто пятьдесят, – поправил его Лемке.
Бармен налил до половины в фужер, придвинул вазу с конфетами.
Медленно выпив, Лемке зажмурился, подождал, пока горячая волна разойдется по пищеводу, и открыл глаза.
– Вы, как немец, пьете! – заметил бармен.
– Что поделаешь, – сказал Лемке, – я и есть немец. Это нехорошо?
– Ну зачем же... – смутился бармен. – Я, знаете, час назад негра обслуживал.
– Вот как?..
Негр-капрал, продержав его тогда взаперти восемнадцать часов, утром выпустил вместе с прочими фольксштурмистами. На прощание дал кусок жевательной резинки и легкого подзатыльника: «Эй, бэби! Нах хауз!» И погрозил черным, будто обугленным, кулаком.
– В молодости я знавал одного негра, – зачем-то сказал Лемке. – У него был кулак размером с вашу голову.
– К нам всякие ходят, – сказал бармен. – Между прочим, вы здорово шпрехаете по-русски.
– Вы тоже.
– Я говорю по-русски получше любого русского. Хотя я и латыш, – не без самодовольства сказал бармен.
– Тогда повторяйте быстро за мной: шла Саша по шоссе и сосала сушку!
– Шла Шаша по шаше, – повторил бармен, – и сашала шуску...
Лемке улыбнулся:
– Это вам не у Пронькиных!
...«Это вам не у Пронькиных», – пробормотал Пауль. Колонна грязно-зеленых «фердинандов», сотрясая землю, с ревом ползла на северо-запад, в направлении деревни Большой Хартман, и Хельмут с Паулем, еще не остывшие от пальбы на стрельбище, стояли у балюстрады. «Ты не видел еще наши «тигры», – хвастливо заметил Хельмут. Как он презирал себя впоследствии за этот высокомерный тон! А тогда он потребовал у Пауля точного объяснения, кто такие Пронькины. В ответ Пауль пожал плечами. Хельмут доложил начальству. В досье никаких Пронькиных, само собой, не значилось. Вечером на занятиях по русскому языку Пауль давал объяснение: просто такое выражение, говорят же: тришкин кафтан – теперь никто не знает, кто такой Тришка... Преподаватель успокоил Хельмута: «Это одна из бессмысленных русских идиом, сынок. Вовсе не обязательно ими пользоваться». Фукс возразил в том смысле, что знать их надо, и как можно больше. И тогда фразеологизмы буквально посыпались из уст Пауля. Если в кальках с латинских языков Хельмут ориентировался неплохо, то сугубо русские выражения, нарицательные имена и расхожие словечки приводили его в отчаяние. Тут он оказывался у конца латыни [2]2
В тупике.
[Закрыть]. Только позже Хельмуту стало ясно, что его мучения продлевали жизнь Паулю; зная, что обречен, Пауль возводил из синонимов настоящие крепостные стены.
За три года в упряжке с ним Хельмут в совершенстве изучил русский. Более того, он и по-немецки заговорил с русским акцентом. И частенько дурачил персонал школы, притворяясь Паулем. О, это было совсем нетрудно. Одного роста, оба курносые и веснушчатые, они носили одинаковые полувоенные бриджи, одинаковые рубашки и куртки из эрзац-кожи. Для персонала школы они были братья, выходцы из Ингерманландии. Эту легенду всячески укрепляли Фукс и дядюшка Руди. Об истинном положении вещей больше никто не знал; в списках учащихся Хельмут Лемке значился как выбывший по нездоровью. Их пара фигурировала под шифром «Пауль-дубль-Пауль». Может быть, это обстоятельство и спасло Хельмута в хаосе первых послевоенных лет. Из X. он пробрался в Бауцен к родственникам по матери: дед его, старый сорб, стал доверником местного отделения Домовины [3]3
Национальная организация лужицких сорбов. Основана в 1912 году. В период 1937-1945 годов была запрещена.
[Закрыть]. Его слова оказалось достаточно, чтобы советская военная администрация выдала документы внуку. Пребывание в абверштелле не было, да и не могло быть зафиксировано. Хельмут был слишком молод, чтобы подобное могло прийти кому-нибудь в голову. К тому же он здорово отощал и выглядел совсем мальчишкой...
3
– Что это – не у Пронькиных? – озадаченно спросил бармен.
– Это не переводится, – ответил Лемке. – Я могу приобрести бутылку?
– Найн, – покачал головой бармен.
– Жаль, – сказал Лемке. – А вы здорово шпарите по-немецки.
– Тут рядом гастроном, – посоветовал бармен. – Две остановки на автобусе. Приобретете по себестоимости.
Лемке рассчитался и вышел на улицу.
Мир был прекрасен. В синем небе сияло солнце, промытый дождем асфальт дымился высыхающей влагой. Лемке глубоко вдохнул чистый воздух предместья, поправил на плече ремень сумки и шагнул с крыльца.
Гастроном оказался в десяти минутах ходьбы по Сколковскому шоссе, напротив кожевенного завода. Предприятие расширялось, сборка нового корпуса велась на уровне четвертого этажа.
У винного отдела парень в монтажной каске сунул ему испачканную гипсом трешницу и попросил взять бормоты. Лемке не понял, что от чего хотят. Парень показал на объявление: лица в прозодежде здесь не обслуживались.
– О! – сказал Лемке.
Продавщица дернулась накрашенным ртом, когда он попросил бормоты, сунула лежмя бутылку с темно-красной жидкостью, шлепнула свободной рукой по прилавку и выкрикнула:
– Следующий!
– Мне еще водку, – сказал Лемке.
– Ну?
– Что?
– Одну, две, ящик? – подсказали из очереди. – Ты телись быстрее, счас на перерыв закроют!
– Мне одну! Извините.
Потный, распаренный, он вытолкался из очереди. Малый в каске благодарно тиснул ему руку:
– Спасибо, отец!
– Всегда пожалуйста, – отдуваясь, улыбнулся Лемке.
Остановка оказалась рядом, и вскоре подошел автобус. Лемке решил, что автобус развернется на противоположной стороне, где скопилось уже дюжины две других, и на этом путешествие кончится, и, пожалуй, так будет лучше. Однако автобус пошел прямо, в направлении окружной дороги. «А, будь что будет!» – сказал он себе, неожиданно легко восстанавливая способность думать по-русски.
Он сел поудобнее, приник к окну. Справа по трассе посреди поля показался островок деревьев и цветников.
– Это кладбище? – спросил он, обращаясь к сидевшим впереди него женщинам.
– Видать, не бывал, коли спрашиваешь, – ответила одна из них. – И слава богу. А у меня тут, почитай, полсемьи лежит.
«Все верно, – подумал Лемке, – это кладбище деревни Марфино. Но как оно разрослось...» Теперь он узнавал эти места. Вон лес с еловой опушкой вдоль старицы речки Сетунь, вон поле, простроченное стерней до самого горизонта, вон и старая роща с черными шапками грачиных гнезд. Отчего это березы как поэтический символ стали прерогативой русских? А наши германские березы? Не те стройные ряды березовых штамбов с аккуратно подстриженными кронами вдоль автобанов, а вольно растущие плакучие лужицкие березы! Впрочем, лужицкие культы есть славянские, так что все правильно, уважаемый герр Лемке, истинно немецкое дерево – липа. И Унтер-ден-Линден – национальная липовая аллея; что из того, что некогда она была вырублена для нацпарадов?..
Снова потянулось поле на взгорье. Оно должно быть круче, с большим углом относительно горизонта. Но, видимо, во время вспашек (пахот?) его ровняли, планировали... нет, как это?.. выполаживали– вспомнил он наконец и обрадовался. Ну да, выполаживали? («Управление суффиксами, – вспомнилось следом поучение преподавателя русского языка, – есть начальный этап, и он несложен. Вы сможете с уверенностью сказать о себе, что овладели русским, лишь тогда, когда научитесь оперировать префиксами. Это высший пилотаж, дети мои!»)
Он узнавал эти места глазами Пауля. Точно тогда, в школе, Паулю сделали пункцию памяти и впрыснули ему, Лемке.
Тогда, в сорок пятом, Хельмут не знал, да и не мог знать, каким конкретно образом его намеревались натурализировать. Но он знал, что рано или поздно окажется под Москвой, в этой деревне с загадочным названием – Немчиново.
А в самом деле, почему Немчиново?.. Тот же преподаватель-русист высказал предположение, что деревня названа по прозвищу первых поселенцев, покинувших фатерланд по приглашению Петра Великого. «В таком случае, – заметил дядюшка Руди, – очень возможно, что у Пауля и Хельмута имеется общий предок и по германской линии. Именно этим следует объяснять их феномен». «В Барселоне я однажды расстреливал двух парашютистов, – желчно заметил Фукс, – один из них был томми, другой – француз, и они были похожи Друг на друга даже больше, чем Хельмут с Паулем».
– Немчиново, – объявил водитель. – Конечная!
Лемке сошел последним.
Странное чувство, тотчас охватившее его, было точно волнение человека, вернувшегося домой после долгих странствий.
От въездной площадки уходила вниз главная улица, два ряда разномастных крыш, оправленных в зелень кленов и тополей. Крыши топорщились телеантеннами, это было новшество, и, кажется, не единственное. Вдоль улицы на тонких ножках стояли газораспределительные шкафы. Кроме того, в ночное время улица освещалась, о чем свидетельствовали фонарные столбы с змееподобными головами. Так, какие еще эволюции произошли здесь за сорок лет? Стало просторней? А, вот оно что: у плетней и заборов не громоздились дровяные поленницы. Собственно, и плетней не было, а был штакетник, крашенный в стандартный голубой цвет. В сущности, это было уже другое Немчиново, другими – добротней и глазастей – были дома, мощней и гуще приусадебные деревья, и проезжая часть была уже не грунтовая, в извечных колеях и ухабах, а приподнятая на щебеночную подушку, заасфальтированная и снабженная водостоком.
Лемке потоптался, не решаясь двинуться в глубину деревни и оторваться от спасительной стоянки автобуса. Водитель на сей раз был пожилой толстяк; улегшись на сиденье, высунул наружу ноги в кожимитовых сандалетах. Лемке взглянул на расписание: интервал движения в эти часы составлял семнадцать минут. Семнадцати минут было вполне достаточно, чтобы дойти до домика Пауля и вернуться, тридцати четырех хватало с лихвой. Сделав шаг вперед, он не подозревал, что в обратном направлении сделает этот шаг лишь на другой день.
У дороги стоял серый каменный обелиск. Ничего особенного: жестяная звезда, две даты и длинный столбец имен. Лемке подошел вплотную. Списки погибших на войне немчиновцев, сплошные однофамильцы.
И вдруг ударило по глазам: Ледков П. У.
Только один Ледков П. У. проживал в этой деревне до октября сорок первого, и этим человеком был Пауль.
Значит, здесь как-то дознались о его смерти! Но как, каким образом?
В свое время Лемке рассказал о себе все. О матери, погибшей в тридцать седьмом, – она участвовала в демонстрации за права сербов и умерла от побоев. Об отце, убитом два года спустя в Праге чешскими террористами. О дядюшке Руди, взявшем его на воспитание и устроившем в разведшколу. В школе он провел четыре года, и его показания едва поместились на сорока страницах. И лишь о Пауле он не проронил ни слова. Это была его благодарность Паулю. О том, как суровы русские к своим соотечественникам, попавшим к немцам, он был наслышан. Пауль был мертв и не мог защитить себя; значит, это должен был сделать он, Хельмут Лемке. Хельмут избрал молчание – пусть русские считают, что Павел Ледков пропал без вести; когда-нибудь он расскажет правду. Кто такие «Пауль-дубль-Пауль»? Он так долго ждал этого вопроса, что даже не ощутил страха, когда его наконец задали. Спрашивал русский майор, скуластый и узкоглазый, похожий на Чингисхана из хрестоматии по истории. «Два брата-близнеца из Ингерманландии», – без запинки ответил Хельмут. «Откуда?» – «Из Ингерманландии, герр официр. Это Псковская, Новгородская и Ленинградская области». Майор сплюнул и замысловато выругался. «Что вам еще известно?» – «Они погибли во время бомбежки». – «Оба?» – «Так точно, герр официр, их накрыло осколками одной бомбы».
И вот оказывалось, что он молчал слишком долго и опоздал. Имя Павла Ледкова высечено на скорбном камне, а это значит, что русские сами установили его невиновность и воздали должное его памяти.
Пассажиры уже разошлись. Лемке брел по опустевшей улице, ощущая щиколотками горячее дыхание мостовой.
В деревне действовал водопровод. Лемке обнаружил уже вторую водоразборную колонку. Она стояла на бетонном фундаменте. Напротив дома Ледковых.
Все сошлось: таким он и представлял себе этот дом. Пятистенник. Крыт по-амбарному, рублен в лапу. С тремя окошками по фасаду. Описывая свое жилище, Пауль был по-плотницки обстоятелен. Они срубили его с отцом за два лета, в два топора. А до влазин, то есть до новоселья, ютились в лаубе, избушке, впоследствии служившей им летней кухней. Все обветшало тут, в ряду новейших построек домик Ледковых, глубоко осевший, с моховой прозеленью на дощатой кровле, с подслеповатыми окнами, выглядел как старенький, согбенный гном.
4
Из калитки с ведрами в руках вышла сухощавая женщина в ситцевом халатике и шлепанцах на босу ногу. Подставила под кран ведро, пустила воду. Лемке почувствовал толчок в сердце.
– Надя? – вырвалось у него.
Эту состарившуюся, седую женщину отделяли от той девчонки с крохотной фотографии, найденной за подкладкой ватника Пауля, долгие сорок лет, и все же ошибки не было, это была она, Надейка, Надежда... Ивановна?.. Имя вспоминалось не сразу, память выдала его по частям. Надежда Ивановна Фомичева.
Он произнес «Надья», но за шумом воды это смягченное «дья» она не услышала, не разобрала. Сердце ее, должно быть, метнулось на звук ее имени; вздрогнув и подавшись к Лемке, женщина приложила ладонь козырьком к глазам и проговорила с торопливой тревогой:
– Господи, голос вроде знакомый...
– Вы – Надя? – полувопросительно-полуутвердительно сказал Лемке. – Я не ошибся?
Женщина убрала руку, и он опять увидел ее лицо, безжалостно высвеченное все еще высоким солнцем.
– Это я, – проговорила она. – Откуда вы меня знаете?..
Пауза затягивалась, пора уж было и ответить, а он не знал, что и как ответить. Я изучал вашу фотографию, которую изъяли у Павла Ледкова в немецкой шпионской школе, – такой ответ, при всей его абсолютной точности, был невозможен. Лемке заставил себя улыбнуться:
– Мы могли бы немножко поговорить. Если вы закроете кран и отнесете ведра. Смотрите, вода уже льется через край.
Нади охнула и отпустила рычаг.
– Идемте! – сказала она.
– Вы живете здесь? – спросил он, отнимая у нее ведра.
– Да-а.
– Вы имеете семью?
– Вроде того, – усмехнулась Надя, а глаза были испуганные, прыгающие. – Устин Васильич да мы с кошкой.
Лемке чуть было не расплескал воду:
– Устин Васильич жив?
– Какое там... Не жилец наш Устин Васильич.
По сведениям, которыми располагало руководство школы, старший Ледков погиб в том же бою, в котором был контужен и пленен младший. В последний раз их дом проверялся в декабре сорок третьего: дверь и окна были заколочены досками, двор заметен снегом, следов присутствия людей не наблюдалось.
– Я подожду, хорошо? – сказал Лемке, опуская ведра перед калиткой.
– А вы не...
– Нет, я не исчезну, – заверил он. На сей раз улыбка получилась сама собой.
– Ну, хорошо...
Выходило так, что старик выжил. Нонсенс! А почему бы и нет? После ранения он мог попасть в госпиталь, из госпиталя – в регулярную армию, таков был путь немногих уцелевших под Москвой ополченцев. И до конца войны не появлялся дома. Да и нечего ему было делать дома, никто не ждал его, сын пропал без вести, жена умерла от тифа.
Может быть, когда Пауль предупреждал о разоблачении, он имел в виду неминуемую встречу с отцом, который легко отличит родного сына от подставного лица? Нет, такое вряд ли возможно. Пауль был убежден, что отец погиб. Значит, была еще какая-то тайная ловушка, которую он готовил все годы пребывания в абверштелле.
Надя появилась через несколько минут. Теперь на ней было синее шерстяное платье, не новое, но опрятное, на ногах – белые туфли-лодочки. Фрау Лемке носила такие лет тридцать назад, когда была еще фройлен Курц.
– Идемте, – сказала Надя и решительно взяла Лемке за руку.
Она успела даже подкрасить губы и прибрать голову – в волосах торчала гребенка. Косясь на нее и подчиняясь, Лемке поражался будничности происходящего: вот сейчас он переступит порог, который должен был переступить в юношеском своем прошлом, сейчас он войдет в дом Пауля. И тем не менее он спокоен. Но прошлое-то возвращалось, приближалось к нему нарастающим звоном в черепе. Сообразив, однако, что это есть всего лишь симптом повышающегося давления и что пора принять гипотензив, он еще раз удивился прозаичности своих ощущений. Они вошли в темные сени. Надя привычно поймала дверную скобу и отворила дверь. И Лемке сразу шагнул к припечью, где на лавке полагалось стоять питьевой воде. Он увидел кадку с плавающим на поверхности воды ковшом, зачерпнул и поднес ко рту. Надя пристально следила за его действиями. Он взглянул на нее поверх ковша и, поперхнувшись под ее взглядом, пролил воду на подбородок. Затем прицепил ковш к краю кадки, вытащил из нагрудного кармана бумажный пакетик с лекарством, высыпал на язык.
– Давление, – сказал он извиняющимся тоном.
– Вон как, – сказала Надя. – Сперва воду, а порошок после. Так надо?
– О нет, – смутился он.
Он снова зачерпнул воды и запил снадобье.
Из горницы, из-за дощатой выгородки послышался слабый старческий голос:
– Надейка, кто там пришел?
– Это ко мне! Отдыхай! – крикнула Надя, приоткрыв дверь.
У глухой стены этого пустоватого помещения, служившего столовой, гостиной и кухней одновременно, стоял большой стол под старой клеенкой с приставленными к нему стулом и двумя табуретами, у другой стены – сундук и в простенке – тумбочка. Лемке сел слева от окошка, где обычно садился Павел. Он мог бы сесть и на другое место, но сел именно сюда, это вышло непроизвольно.
– Кто вы? – шепотом спросила Надя.
– Моя фамилия Лемке. Зовут Хельмут. Хельмут Иоганн Лемке.
– Вы... немец? – что-то дрогнуло в ее лице и выпрямилось.
– Да, – ответил он, мгновенно затосковав по гостинице, где можно было бы сейчас принять душ, поставить водку в шкаф охлаждения и, остудив, потягивать из высокого гостиничного стакана.
Надя медленно опустилась напротив него на стул, не глядя сняла с полки надорванную пачку «Беломорканала».
– Разрешите? – Лемке потянулся к пачке.
Надя кивнула.
– Откровенно говоря, я не курю, хотя знаю, как это делать, – Лемке дунул в мундштук, закусил и смял его гармошкой. – Я приехал из ГДР. Но вообще-то я немец только наполовину. Моя мама была сорбка, это такая славянская разновидность на юге Германии. А отец был прусский барон. Но это не суть важно.
Надя зажгла для него спичку и прикурила сама, по-мужски укрывая огонек в ладонях.
– Турист, значит? – растерянно спросила она и выпустила дым через нос. – Я извиняюсь, конечно.
– Не совсем так, не совсем так. Меня пригласили советские коллеги. На конференцию по голографии.
«Черт возьми, – озадаченно подумал он, – ни на один вопрос невозможно дать прямого ответа». На вопрос, немец ли он, пришлось объяснять про сорбов, на вопрос, турист ли, рассказывать о цели визита в СССР. Этот ответ неизбежно вызовет вопрос о профессии, и тогда придется объяснять, что голография не основное его занятие, а основное – преподавание математики. Еще в X. он часами возился с оптикой, после войны работал ассистентом в фотоателье и одновременно учился в университете. Увлечение цветным фотографированием привело его к увлечению голографией, которое с годами переросло в страсть, а с изобретением лазера стало второй профессией.
Надя внимала ему с жадным интересом и, казалось, не дышала при этом. Сидела напряженно, опершись локтями на стол, посунувшись вперед и не сводя глаз. И Лемке терпеливо стал объяснять ей, в чем отличие обыкновенного фото от голограммы и в чем отличие простой голографии от спектральной, в каковой он был заметный авторитет.
– Видите ли, спектральную, или трехмерную, голограмму, – объяснял он, удивляясь про себя ее интересу, – можно наблюдать в отраженном свете при дневном или искусственном освещении, в то время как обычную голограмму можно увидеть объемной лишь в проходящем свете. Луч расщепляется на сигнальные и опорные световые волны. Производится это с помощью зеркал и линз... Часть рассеянных линзами световых волн отбрасывается зеркалом на объект и попадает на фотопленку. Другая часть попадает на фотопленку, минуя объект. Таким образом создается интерференция и затем...
– Вы... вы знали Пашу? – выдохнула она.
– Знал... Мы повстречались зимой сорок второго.
В феврале. Одиннадцатого февраля, если быть точным.
– Он попал в плен?
– Но он не был изменником! Я догадывался, что он замышлял побег. И он сделал бы это. Но мы попали под бомбежку. И Пауль...
– Пауль? – переспросила она задрожавшим голосом, не дав ему закончить фразу.
– Так его называли.
– Боже мой, Пауль!..
Вдруг смяв папиросу, Надя резко повернулась к горнице. В дверном проеме стоял костлявый старик в кальсонах и нательной длинной рубахе.
– Пашка! – проговорил старик. – Пашка, сукин сын, объявился? – Должно быть, старику казалось, что голос его звучит звонко и насмешливо, но одеревеневшее горло пропускало лишь хриплый клекот. – Где тебя носило, окаянного? – с восторгом произнес он. – Ох, Пашка-а!..
Колени его подломились, и он стал сползать по косяку, хватая воздух трясущимися руками.
Лемке вскочил, чтобы поддержать его, чувствуя, как зашевелились волосы на голове. Что, если он и в самом деле сын этого полуживого старца, местный немчиновский уроженец Павел Ледков, что, если там, в школе, или еще раньше, в имении дядюшки Руди, произошла чудовищная подмена, и у него каким-то образом выпотрошили сознание, разрядили, как батареи, вложили новые элементы, и он, природный русский, до сего дня жил под чужим именем и под чужим небом?..
5
Уложив старика, они снова ушли на кухню. Первым желанием Лемке было достать бутылку и сделать пару добрых глотков прямо из горлышка. Но здесь такой способ утоления жажды считался предосудительным.
– Знаете, Надя, – сказал он, – у меня случайно завелась бутылочка. – Он аккуратно раскрыл молнию и извлек водку. – Что вы на это скажете?
– Так чего говорить? Дело хозяйское. Только, может, малость повременим? Я обед сготовлю.
– Лучше немного сейчас, – сказал Лемке, – и немного потом.
– Ну, так я сейчас грибков достану!
Она засуетилась у маленького обшарпанного шкафчика охлаждения, которому, оказывается, есть простое русское название холодильник.
– Спасибо, не нужно сильных хлопот.
– Да как без закуски-то?
Между тем на звук открываемого холодильника прибежала большая белая кошка, просительно замяукала.
– Миц-миц-миц! – поманил ее Лемке.
– Она по-вашему не понимает, – сказала Надя,
– А как надо? О да, кис-кис!
Кошка вспрыгнула ему на колени, не спуская, однако, глаз с хозяйки.
Надя вывалила на блюдо банку скользких толстомясых грибов, названия которых Лемке не смог вспомнить.
– Это какие грибы? – спросил он, напуганный их количеством.
– Да грузди! Кушайте на здоровье. Нынче лето худое, груздей совсем нет, одни грибы!
– Но где же ваша рюмочка?
– Так мне, поди, ни к чему.
Лемке запротестовал.
– Немного теплая, но, я думаю, сойдет? – с запозданием сказал он.
– Все полезно, что в рот полезло, – скупо улыбнулась Надя.
Водка сняла напряжение, и он с удовольствием выпил еще рюмку.
– Вы не берите в голову, – сказала Надя, и Лемке вздрогнул: эта женщина словно бы читала его мысли. – Старик в последнее время частенько заговаривается. Кто из мужиков ни зайдет, все ему кажется, что Паша. Который раз дак меня Пашей назовет. И смех и грех...
То, что она рассказала об Устине Васильевиче, в целом подтвердило предположение Лемке: после длительного лечения он служил в саперах, наводил мосты вплоть до Кенигсберга, а демобилизовался только в сорок восьмом, восстанавливал Ленинград.
О себе рассказывала с отмашкой:
– Всю жизнь в колхозе. Правда, последние годы на железной дороге вкалывала, но это для пенсии. Пенсию хорошую положили – сорок семь рублей тридцать копеечек. Кем работала-то? А кто куда пошлет. Где близко, сама сбегаю. Замуж не выходила. За кого? После войны женихи были нарасхват, да и кто б меня взял, кроме Паши! Кабы хоть красотка была или образованная. Так в вековушках и кувыркалась. Как дядя Устин слег, перебралась к нему. Тоже бобылем век прожил.
Она опять стала рассказывать об Устине Васильевиче, о тете Маше – матери Павла, тихой трудящейженщине, сгоревшей в тифозной горячке в сороковом году, о своих родителях; перескакивала с пятого на десятое и, наверное, не слышала себя, что и как говорит, потому что в глазах ее Лемке видел все то же неотступное ожидание.
– Вы, значит, Павлику-то другом были? – услышал он наконец.
И на сей раз он не мог ответить ей однозначно. Несмотря на некоторые привилегии, Пауль был все-таки кролик, модель, жизнь его представляла интерес только как составная легенды Хельмута. Разумеется, со временем они почувствовали симпатию друг к другу, если можно назвать так обоюдное молчаливое признание личных качеств. Скорей, это было взаимное уважение, которое испытывают равные по силе противники. Да, так будет правильней. При ночной стрельбе, например, у Пауля было больше попаданий на звук, у Хельмута – на вспышку. Пауль хорошо плавал, Хельмут хорошо бегал. Пауль лучше боксировал, Хельмут лучше владел боевой борьбой.
– Да, я был его другом, – ответил он. – Ведь если бы было наоборот, сказал он себе, разве стал бы Пауль предупреждать о провале за минуту до своей смерти? – Да, это так, – повторил он.
И Надя не заплакала, хотя слезы, он видел это, были близки.
– Мы вот как сделаем, – сказала она, – вы пока погуляйте с Муськой, ее Муська зовут, кошку-то, а я на стол соберу!
Лемке вздохнул и пошел во двор. Теперь, когда он назвался другом Пауля, он уже не мог уйти из его дома, не преломив хлеб. С кошкой на руках он обошел небольшой участок Ледковых. Несколько яблонь, вишен, смородина... К оврагу спускался огородик с отцветшим уже картофелем и черными шляпами подсолнечника. Ближе к дому располагались овощные грядки. Ни горизонтального, ни вертикального кордонов из кустов и деревьев тут не было, как у него в Берлине, их заменял плетень. Зато тут было много сорной травы, древесного мусора, поломанного инвентаря. У бочки с водой валялась ржавая гиесканне, по-русски – лейка. То же отсутствие порядка наблюдалось и на соседних участках. Двор слева вообще был загроможден какими-то разбитыми фурами, оглобли которых торчали в небо, как зенитные пушки.
У себя дома Лемке был владельцем не только прекрасно возделанного участка, но и превосходно оборудованного жилья. Предмет особой гордости составляла кухня – с грилем, моечной машиной и разнообразными агрегатами. И он, и фрау Лемке внимательно следили за рекламой новинок.
Поглядывая изредка на крылечко дома, Лемке заметил там какое-то оживление. Кроме синего платья Нади мелькали еще красное и зеленое; потом с электрическим самоваром в вытянутых руках появился низенький мужчина в черном.
– Надейка! Куда самовар-то ставить? – крикнул он в раскрытую дверь. В ожидании ответа встал на ступеньку, с интересом огляделся: – Здрасьте! Это вы будете из Германии?
Лемке отпустил кошку, стряхнул с брюк кошачий пух:
– По всей видимости, я.
– А не по всей? – хитро вглядываясь в его лицо, спросил мужчина.
– Не по всей – тоже я, – ответил Лемке.
– Ага! И как же вас звать-величать?
– Хельмут.
– А по батюшке?
– Иоганнович, – улыбнулся Лемке.
– Значит, Хельмут Иоганныч? Не слабо! А я, стало быть, Петр Михалыч. Приятно познакомиться с зарубежным гостем!
Из сеней выглянула Надя, отправила его в дом.
– Хельмут, вам руки сполоснуть не надо?
Лемке кивнул утвердительно.
– Я сейчас!
Надя исчезла и тотчас вернулась с ковшом, махровым полотенцем и нераспечатанной пачкой дорогого туалетного мыла:
– Я вам полью!
Она зачерпнула воды из бочки и стала лить ему на руки, приговаривая:
– Здесь у нас водичка дожжевая, мягкая!
– Благодарю, – сказал Лемке.
На крыльцо вышли обе дамы, в зеленом и красном. Из-под локтя одной из них выглянул Петр Михайлович.
– Прошу к столу! – пригласил он на правах мужчины.
– Милости просим! – поклонились дамы.
Стол был богат – не оттого, что богат был дом, а, надо полагать, стараниями Надиных подруг и ее стремлением угостить. В сущности, это были поминки по ее любви к Паулю, так Лемке и расценил; удовольствие от стола подтачивала только мысль о расходах, в которые вошла Надя. Икра, белая рыба и шампанское – все это было роскошью даже по его достатку. Надя между тем извинялась:
– Вы уж не обессудьте! Кабы загодя знать, мы б получше подготовились.
– Ну что вы, – сказал Лемке.
Ему представили дам. Одна была учительница на пенсии, другая – секретарь сельсовета. Учительнице Петр Михайлович приходился братом, секретарю – мужем. Сам он был бригадир.