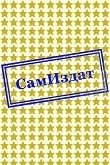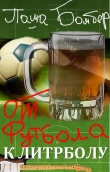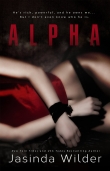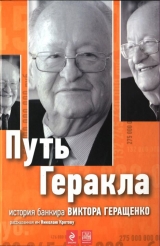
Текст книги "Путь Геракла (История банкира Виктора Геращенко, рассказанная им Николаю Кротову)"
Автор книги: Николай Кротов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Часть 7
Международный Московский банк
Они сказали насторожившую меня фразу: «Don't be bossy!»
Шел, вздыхал да охал, Не знал, куда шел. Ой, как было плохо, И вдруг хорошо!
А. Иващенко, Г. Васильев «Шел, вздыхал да охал…»
Международный Московский банк был банком интересным, и я туда шел с удовольствием. Перед назначением председателем в феврале 1996 года мне предложили съездить на смотрины в Милан. Буквально на один день. Их организовывал ставший в ноябре 1994 года председателем административного совета ММБ руководитель Banka Commerciale Italiana Риккардо Феррари. Участвовал в беседе и А. Пульманн из Баварии. Немца я знал хорошо, еще с того времени, когда был зампредом Внешэкономбанка СССР, а вот с итальянцем мы не были знакомы. Видимо, я произвел на акционеров благоприятное впечатление, мне пожелали успехов, но сказали насторожившую меня фразу: «Don't be bossy!» На это я объяснил коллегам, что мне приходилось всегда работать совместно с другими членами правлений, а в совзагранбанках в советы директоров и кредитные комитеты входили иностранные банкиры. При этом мы всегда находили общий язык, а если надо, вырабатывали компромиссные решения. Не собираюсь изменять этой практике я и на новом месте работы.
Я, в принципе, человек, как говорится, flexible (гибкий) и, несмотря на внешне удачную карьеру, постоянно, на любом месте, на любой работе, преодолевал определенные трудности. Я бы не сказал, что Международный Московский банк был для меня совершенным открытием. Людей, да и дело я знал, правда, без деталей, и поэтому я не нашел в ММБ каких-то удивительных для себя вещей. Тем более на первом этапе мне помогали, подсказывая, давая необходимую информацию, члены правления банка Юрий Кондратюк, Юрий Тверской, с которыми я работал еще во Внешторгбанке. Много лет мы были знакомы и с Илккой Салоненом, Олегом Можайсковым, Юлией Балашовой и многими другими.
В банке существовала хорошо выстроенная система работы. Еженедельно (а порой и чаще) заседал кредитный комитет. Практически не было проблемных кредитов. Помню только случай с «Дальлеспромом» – одним из крупнейших российских предприятий лесной промышленности из Хабаровского края. Это был первый кредит, выданный банком предприятию Дальнего Востока. Выделил ММБ его в 1994 году в размере 5,4 млн долларов сроком на 3 года для закупки оборудования, заготовки и транспортировки леса. Поставку лесообрабатывающего оборудования осуществляла финская компания. Обеспечением кредита должны были стать валютные поступления от экспорта леса. Однако изменилась конъюнктура: упали цены, японцы уменьшили объемы закупок…
Были и забавные случаи. Помню, как пришли к нам за помощью руководители известного автотранспортного предприятия «Совтрансавто», им требовалось заменить автопарк, но не было окончательного решения, что приобретать – Volvo, Man или Mercedes. Насколько же горячо и со знанием дела спорили наши немецкие и скандинавские члены правления, какие автомобили лучше!
Летом 1996 года мы всем правлением летали в Ульяновск в компанию «Авиастар», рассматривали вопрос кредитования запуска в серию пассажирского самолета ТУ-204. Самолет получился удачным и значительно более дешевым по сравнению с зарубежными аналогами. Он мог неплохо продаваться на Среднем и Ближнем Востоке, да и в Юго-Восточной Азии. Чтобы повысить успешность проекта, мы даже подобрали авиакомпанию в Египте, готовую приобретать новые самолеты. Проект был серьезный и выполнимый, следовало лишь решить вопрос с временным налоговым послаблением. Мы написали письмо нашему премьеру Черномырдину, но он отказал.
Вообще, у нас не было недостатка в предложениях по кредитованию. Помню, приходил молодой Дерипаска, делился планами развития алюминиевой промышленности…
Практически с самого учреждения банка потенциальным акционером был японский участник, однако власти этой страны шесть лет не давали ему разрешения на работу в России. При мне акционером банка наконец стал Industrial Bank of Japan, он, в отличие от других крупнейших японских банков (Bank of Tokyo-Mitsubishi, Mitsui Financial Group и др.), не был корпоративным. В административный совет ММБ тогда вошел молодой член руководства IBJ – К. Сейки – wise man (мудрец) и просто хороший мужик. Для взаимоотношения с банком мы тогда же открыли представительство во Владивостоке.
При мне из числа акционеров вышел Промстройбанк, российская часть уменьшилась до 25 %. Я уговаривал Сбербанк увеличить свою долю, объяснял председателю правления банка А.И. Казьмину плюсы такого участия: «У вас нет филиалов и подразделений, специализирующихся на иностранных операциях. Если ваш клиент будет совершать те или иные импортно-экспортные операции, мы всегда предложим удачную схему. Вы должны за нас держаться!» Однако Сбербанк все свои акции продал.
ММБ в целом успешно развивался, рос кредитный портфель, хотя были определенные проблемы с частью клиентуры, связанные в том числе с конъюнктурой рынка. Но в целом банк: и руководство банка, и кредитный комитет, и правление – подходил достаточно осторожно к подбору клиентов. И я бы сказал, даже иногда сверхосторожно, особенно наши иностранные участники, поскольку для них все-таки Россия была страной слегка неведомой и они привыкли к определенным стандартам деятельности на Западе, которые здесь не всегда имели место с точки зрения обеспечения.
В банке была сильная группа, занимающаяся валютными операциями. Во многом поэтому мы благополучно избежали кризиса 1998 года. В ГКО мы не лезли, понимая, что здесь что-то делается не так.
Кризис 1998 года был вполне объясним и понятен: поскольку положение бюджета страны было в целом очень сложным, приходилось изыскивать пути финансирования дефицита бюджета. И хотя система выпуска государственных казначейских обязательств была совершенно правильно придумана и первоначально Центральный банк обеспечивал обратные операции через форвардные операции с иностранными владельцами, все же были допущены две ошибки. Во-первых, не был установлен лимит на иностранные вложения, о чем, кстати, была дискуссия в Центральном банке, но новое руководство не посчитало нужным прислушаться к предупреждениям. Предложение такое делала Т.В. Парамонова. Но в начале 1996 года ее даже выселили на Житную улицу. Вопрос этот был поставлен в апреле, Татьяна Владимировна настаивала на том, чтобы на первом этапе выделить на всех нерезидентов определенный лимит и следить, чтобы он не превышался. Тем более что в то время все операции по покупке-продаже валюты проводил Центральный банк. Снять потолок можно было через пару лет. И вдобавок нужно было и из валютного коридора, который тогда устанавливался в течение 1995–1998 годов, уходить весной 98-го года, для того чтобы через, так сказать, девальвацию рубля уйти от кризиса. Этого тоже не было сделано, и итог ошибок выразился в том кризисе, который сильно ударил по банковской системе, хотя одновременно помог ее оздоровить, так как часть неспособных развиваться или зарвавшихся банков была вынуждена уйти с рынка.
На нас некому жаловаться. Мы закрыли все свои обязательства и помогли некоторым нашим партнерам. В частности, «Сургутнефтегаз» держал свои средства в трех или четырех банках (в том числе и «Онэксимбанке»), и только мы полностью выплатили ему все вклады.
Из ГКО, как я уже говорил, мы ушли как раз вовремя, настолько удачно, что меня некоторые борзописцы даже обвинили в получении инсайдерской информации.
Министр путей сообщения России Н.Е. Аксененко, отдавший распоряжение Желдорбанку продать ГКО за две недели до кризиса 17 августа, действительно был близок к «семье», и за него отвечать я не буду, но все, хоть чуточку помнящие те времена, должны знать мои отношения с тогдашней властью, в том числе и центробанковской. Мне бы они своих секретов не раскрыли! Любой опытный банкир должен был понимать, что при таких высоких процентных ставках пирамида долго не просуществует. Осторожные иностранцы уходили с рынка.
Я знаю, что в прокуратуре есть список госчиновников, игравших гособлигациями и продавших их прямо перед объявлением дефолта. Меня среди них нет!
Тем временем С.К. Дубинин написал полуторастраничное письмо Ельцину, в котором заявил, что, в связи с тем что Черномырдин обвиняет его во всех грехах, он подает в отставку. Президент собрал банкиров, чтобы посоветоваться, кому доверить Центральный банк в этот раз. И якобы руководители ряда банков назвали мою фамилию. В конце августа по поручению Бориса Николаевича меня вызвал заместитель главы Администрации президента РФ Руслан Орехов. Я ответил, что, если Черномырдин будет премьером, я не пойду, Черномырдин свое слово никогда не держит! Дней через пять на новой встрече к Орехову присоединился Волошин. Черномырдина к тому моменту Госдума первый раз не утвердила[23]23
Государственная дума отклонила кандидатуру Черномырдина первый раз 31 августа и повторно 7 сентября 1999 года. – Примеч. Н. Кратова.
[Закрыть]. Я вновь отказался, зная, что будет новое выдвижение. После повторного провала экс-премьера мне сказали, что последней попытки президент делать не будет, так как это грозит роспуском Думы. В верхах было принято решение провести переговоры с Е.С. Строевым и Е.М. Примаковым. Мне порекомендовали не выкобениваться.
10 сентября в четверг мне позвонил Евгений Максимович: «Приезжай ко мне в МИД». Там он сказал, что дал согласие стать премьером. В ответ я признался, что тоже дал согласие на ЦБ. 11 сентября Дума меня утвердила.
Я написал заявление правлению ММБ с просьбой приостановить трудовое соглашение со мною. Из Международного Московского банка я уходил с сожалением, так как работа здесь мне нравилась, да и платили неплохо. Чувствовал я себя в ММБ комфортно с точки зрения бизнеса; хорошие отношения сложились и с коллегами.
Но вернуться в Центральный банк меня заставили не только и не столько уговоры со стороны руководства страны, но в какой-то степени корпоративная этика, товарищество. Руководители ряда банков, с которыми я давно работал и к которым я относился с уважением, уговаривали меня принять предложение. «А то опять придет какой-нибудь «любитель» из Минфина» (такая традиция существует еще со времен Советского Союза и частенько плохо сказывается на нашей банковской системе).
Перед приходом в Центральный банк я поставил условие, что все правление банка подаст в отставку, так как единогласно голосовало за объявление дефолта. У меня должны были быть развязаны руки, я хотел набирать людей, а не заниматься их увольнением. Времени было мало. Так и сделали, однако меня предупредили, чтобы я не создавал правление больше семи человек. А то, если я не справлюсь, опять придется всех увольнять, платить выходные пособия!
Дубинин иногда говорит, что я натравливал на бывшее руководство ЦБ прокуратуру, так вот он ошибается. Когда Генпрокуратура стала искать виновных в августовском кризисе, я Ю.И. Скуратову сказал одно: «Вы можете доказывать все что хотите. Единственная просьба: не пачкайте всю организацию».
В Международном Московском банке я преемников не назначал, всем в сентябре занималось правление. И делало это хорошо. Банк и в дальнейшем совершенно адекватно ощущал себя на рынке. Связи с ММБ (теперь – ЮниКредит Банком) я не разрывал, каждую осень, 19 октября, меня приглашают на день рождения банка.
Часть 8
Центральный Банк. Дежавю
Дефолт
Мы всем банкирам откровенно говорим: мужики, договаривайтесь о реструктуризации долгов. Употреблю новомодное словечко, вырванное из лексикона Чубайса: кидать западных партнеров нельзя. Сие чревато.
В.В. Геращенко по поводу дефолта
Рубль будет стоять как и подобает существительному с мужским именем.
В.В. Геращенко по другому поводу
Как все, о дефолте я узнал из сообщений наших СМИ. Позже стало известно, что в понедельник, 17 августа, прошло заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором выступили все члены совета в поддержку заявления правительства РФ и ЦБ РФ о мерах по обеспечению экономической стабильности и устойчивости финансовой системы в стране. Вел заседание председатель ЦБ РФ С.К. Дубинин. Кто и что там умного говорил, я не знаю, так как, слава богу, в этом деле не участвовал. Однако я слышал, что обсуждения в правительстве начались еще в субботу, 15 августа. Собрались С.В. Кириенко, А.Б. Чубайс, Е.Т. Гайдар, С.В. Алексашенко, зампред ЦБ, отвечавший за ГКО. Вызвали из отпуска С.К. Дубинина. На совещание пригласили и министра финансов М.М. Задорнова. Сразу стали звонить коллегам, главным образом из «большой семерки»: министрам, замминистрам финансов, – просили оказать давление на МВФ, чтобы фонд дал денег. А там выходные – кто в гольф играет, кто на ранчо уехал. Так что, как мне кажется, везде были получены отказы. И поэтому в понедельник пришлось объявить дефолт.
История развития заимствований ГКО начиналась абсолютно правильно: нашли цивилизованный способ выпускать государственные обязательства, чтобы финансировать дефицит госбюджета.
В 1996 году, когда стали происходить улучшения в экономике и снизилась инфляция, у иностранных инвесторов стал появляться интерес к вложениям в реальную российскую экономику, а впоследствии и к вложениям в ГКО. Возник вопрос, пускать или не пускать иностранных инвесторов на рынок ГКО, а если пускать, то устанавливать или нет ограничения. Зампред ЦБ Т.В. Парамонова выступала на совете директоров ЦБ и сказала, что следует установить лимит, ведь наш рынок еще не сформировался, а спекулятивные деньги, которые свободно переходят с одного рынка на другой, очень подвижны. С ней не согласились, понадеявшись на введенный валютный коридор. Превалировало мнение, что не надо ничего делать, так как у нас все и так прекрасно.
Первоначально было принято решение, что если иностранный инвестор хочет вложить деньги в ГКО, то он покупает бумагу, которая выражена в рублях, через российский банк-корреспондент, для чего продает валюту. А чтобы вновь получить валюту при наступлении срока выкупа облигации, заключался форвардный валютный контракт на три месяца.
Вначале эти контракты заключал ЦБ. Он заключал форвардные контракты для того, чтобы придать больше уверенности иностранному инвестору. Затем в 1996 году, рассуждая разумно, решили, что ЦБ должен гарантировать не контракты, а рамки введенного тогда же валютного коридора. Сначала на полгода, а потом на год. Форвардные контракты переложили на коммерческие банки.
Но вот осенью 1997 года произошел кризис на рынках Юго-Восточной Азии, и этот регион стали покидать инвесторы. Все понимали, что отток иностранного капитала начнется и у нас, что и произошло в 1998 году. Для того чтобы его как-то удержать, по ГКО были установлены огромные ставки (по-моему, самые высокие были 120 %), но инвесторы все равно стали уходить с рынка. А Центральный банк, поддерживая курс рубля к доллару в рамках валютного коридора, продавал и продавал валюту, чтобы поддерживать курс в рамках коридора. Только за июль – август ЦБ потратил на это 10,8 млрд долларов из своих валютных резервов – громадную сумму. Однако правительство и ЦБ охватила эйфория, они считали, что справятся с «временными» трудностями, что инфляция находится под контролем. Вполне вероятно, что повлияла и смена в апреле председателя правительства. Назначили человека явно неопытного, молодого, возможно, способного, но без своего, я бы сказал, станового хребта: Кириенко не Черномырдин, это совершенно разные люди, не только по комплекции, но и по характеру.
ГРИГОРЬЕВ А.В. (тогда президент Межкомбанка): 2 февраля 1998 года прошло знаменитое закрытое совещание двадцати «великих» банкиров вместе с ЦБ и правительством, где состоялась острейшая дискуссия. Виктор Геращенко (тогда он работал в Международном Московском банке), Наталья Раевская (Автобанк) и я выступали одним фронтом за то, чтобы объявить девальвацию, в противном случае мы были убеждены, власть не потянет бюджет. […] Мы тогда посчитали – девальвация до 9 рублей, то есть на 2,5–5 рублей, позволила бы вообще избежать кризиса. Кстати, уже через две недели после отмены валютного коридора доллар стоил 11 рублей. Кириенко и Дубинин нам ответили: мы сами знаем, что делать, не надо нас учить. Минфин их тогда поддержал. Кризис становился неизбежным. Для меня это стало сигналом, Межкомбанк вышел из ГКО.
9 августа я приехал из отпуска, рынок бурлил, 10 августа мы с Александром Зурабовым из Конверсбанка собрали 20 крупнейших банкиров, чтобы обсудить, что делать. все приехали. Предлагаем заморозить ГКО и отпустить курс рубля. Вдруг Раевская высказывается за объявление моратория платежей зарубежным банкам. Этого от Натальи Алексеевны я никак не ожидал! Мы с Геращенко одновременно вскочили даже.
К тому же велись переговоры с МВФ и Мировым банком, ждали финансовой помощи в размере аж 22 млрд долларов. И действительно, первые 4,8 млрд долларов во второй декаде июля были получены. Часть из них (1 млрд) пошла на финансирование дефицита бюджета, 30 % которого уже в первом квартале 1998 года было потрачено на операции, связанные с госдолгом.
Естественно, дефолт сказался на банках. Поскольку банк, получая заказ, продавал рубли, за которые покупал ГКО, и одновременно заключал форвардный валютный контракт, по истечении срока он должен был купить облигации и продать валюту. Таким образом, все валютные контракты оказались у коммерческих банков. И когда на три месяца был объявлен мораторий этих платежей, крайними оказались коммерческие банки.
Это было глупостью. Когда банк не выполняет обязательств, связанных с ГКО, это одно: он просто не выполняет форвардный контракт. Но ведь банкам вообще запретили выполнять свои обязательства перед любыми клиентами! И они не могли, в частности, возвращать депозиты, даже когда могли их вернуть. А это никак не связано с ГКО!
На Западе наши банки перестали кредитовать. Но если ты все время искал и находил средства за рубежом, привлекал их ранее от иностранных партнеров, у тебя сразу возникает дырка в пассиве.
Но еще более страшным было то, что в этом кризисном состоянии стало изымать деньги из банков население. У Сбербанка образовались очереди. Этот банк был одним из крупнейших игроков на рынке ГКО. Пришлось ЦБ, как главному акционеру, ГКО, находившиеся у Сбербанка, выкупать. Только благодаря этому банк продолжал платить по всем депозитам.
А вот 16 других ведущих российских банков прошли некий тест-мониторинг Мирового банка, насколько они способны выжить. Резюме было такое: если правительство хочет оздоравливать банковскую систему, то почти все, а точнее 14 банков, надо пустить под нож. Пару из них (Межкомбанк и Мосбизнесбанк) незаслуженно – они вполне могли выкарабкаться, может быть, с небольшой помощью ЦБ.
Наши банкиры быстро учатся. Когда поняли, что запахло жареным, и почувствовали такое отношение со стороны Мирового банка, они стали идти на вполне понятные и в общем-то законные, хотя и неэтичные вещи. Они стали в небольшие банки, являющиеся их собственностью, переводить хорошие активы своих клиентов, а плохие кредиты оставлять в старом с дыркой в балансе. Потом банк-банкрот ликвидировался. По существу, массово создались параллельные так называемые бридж-банки. Повторяю: формально законы при этом не нарушались… Хотя случалось, конечно, как в банке «Менатеп»: уже внешнее управление было введено, а они вывезли два грузовика документов и утопили их в водохранилище. Так что было много забавного и печального.
Еще когда председателем Центрального банка был С.К. Дубинин, приняли решение, что вклады частных лиц из крупнейших банков могут быть переведены в Сбербанк. Естественно, встал вопрос, что будет обеспечением для Сбербанка по этим обязательствам. Предполагалось, что в Сбербанк будут переданы из коммерческих банков имеющиеся у них ГКО, а потом и другие активы, которые должны были быть направлены на погашение вкладов.
Кстати, МВФ, обещавший финансовую помощь, поддержку стал оказывать только с середины 1999 года, причем в несерьезных размерах – дал примерно 250 млн долларов, которые нам были как мертвому припарки. Да и они пошли на выплаты иностранцам. То есть нам предоставили возможность выкарабкиваться самостоятельно. Получи мы большую сумму, то они могли бы оказать какое-то психологическое влияние на ситуацию, хотя и в этом случае не решили бы все проблемы.
Мне кажется, еще в апреле нужно было отказываться от валютного коридора и в какой-то степени девальвировать рубль или пустить его в свободное плавание. И конечно, после азиатского кризиса 1997–1998 годов следовало вводить лимит на привлечение средств от иностранцев.
Вообще помощь МВФ в то время в основном состояла в болтовне. В последнюю декаду июня 1998 года они дали ЦБ кредит 4,8 млрд на поддержание курсовой политики, при этом отказались выделять деньги Минфину, заявив, что он их бестолково растратит. Тем не менее 1 млрд из предоставленной суммы все равно пошел на закрывание срочных социально значимых платежей в бюджете.
Потом появились обвинения в нецелевом использовании этих денег, вспомнили FIMACO. Начались проверки, мы предоставили необходимые данные, a Price Waterhous провел аудит. Для этого мы даже получили разрешение всех стран нахождения совзагранбанков на проверку средств, размещаемых у них ЦБ. В результате доклад был представлен в Фонд. Противозаконного ничего не оказалось. За 2 месяца, с 1 июля до 1 сентября, ЦБ на поддержание курса рубля в рамках заявленного на 1998 год коридора были потрачены 10,8 млрд долларов, в том числе предоставленные МВФ.
И вот через три или четыре месяца, когда я уже работал в ЦБ, появилась новая идиотская идея о том, что был якобы еще один кредит на такую же сумму в 4,8 млрд долларов и вот он точно был разворован. Упоминали даже три банка, через которые они уходили: United Bank of Switzerland, наш банк в Германии – Ost-West Handelsbank и какой-то третий, совсем неизвестный. Особенно старался депутат В.И. Илюхин, он даже об этом написал письмо двум американским конгрессменам. Началась буча, американские парламентарии выдвинули претензии Фонду, основным спонсором которого является США.
В это время сменился руководитель миссии Фонда. Им стал некий Жерар Беланже. И вот он меня спрашивает: «Вы можете свои банки спросить о кредите?» Я отвечаю: «Во-первых, я уже это сделал, но главное, вам-то проще спросить своего казначея – платил он или нет!» Ничего они, видимо, не понимают в бухгалтерии, одни общие рассуждения. Макроэкономисты!
Кстати, долго иностранные консультанты пытались нас вытолкнуть и из акционерного капитала банка ВТБ. Мы объясняли, что не много в России структур с деньгами, которые могли бы внести деньги в капитал такого банка, имеющего большой авторитет за рубежом, выполняющего важные государственные функции. Потом пристали: почему вы участвуете в капитале загранбанков. Мы отвечали: Банк Франции еще 15 лет назад владел долями в своих зарубежных банках и Внешторгбанке Франции. И в Германии такие банки есть. У каждого своя специфика. Не все же нам сразу сделать, нужно время, процесс должен быть эволюционным, а не революционным.
Роль Международного валютного фонда ясна, ведь даже Анатолий Чубайс после дефолта заявил, что дефолта бы не случилось, если бы МВФ своевременно предоставил стабилизационный кредит.
А вот с точки зрения опыта кризис 1998 года стал и для банков, и для экономики России в целом большим плюсом. Кто помнит полученную «пятерку»? А вот если «двойку» по математике влепили, ты, глядишь, ту пресловутую теорему наизусть и выучишь.
Новое возвращение в Центральный банк
Постучали в дверь,
Открывать не стал,
Я с людьми не зверь,
Просто я устал.
Николай Рубцов «Зимняя ночь»
В пятницу вечером, 11 сентября, 315 депутатов проголосовали за мое избрание председателем Банка России, 63 были против и 15 воздержались.
В коридоре Думы меня встретил депутат Н.И. Рыжков и сказал: «Нечего тебе предлагать список членов совета директоров банка в 16 человек. Давай вначале утвердим минимум, необходимый для принятия решений, в семь человек. А если не справитесь, мы вас всех через три месяца снимем».
Меня это устраивало. Предстояла сложная, но интересная работа, ведь когда все размеренно – неинтересно.
Мораторий был чистой воды глупостью. Ситуацией можно было овладеть и без драконовских мер. но сейчас уже, как говорится, ребенок упал в колодец, – я не вижу пока выхода из создавшегося положения. Я, в конце концов, не фокусник, который достает кролика из рукава.
Лапский В. Геращенко В. О банках, фокуснике и христианстве // Российская газета. 15 сент. 1998.
Моим условием был уход в отставку всего состава совета директоров Центрального банка. Из старого совета я оставил пятерых: главного бухгалтера Л.И. Гуденко, начальника сводно-экономического департамента Н.Ю. Иванову, руководителя ГУ ЦБ по Москве К.Б. Шора, первых зампредов ЦБ А.А. Козлова и А.В. Войлукова. Среди новых лиц, которых мне хотелось видеть в совете, были: В.Н. Мельников, в разное время занимавший посты начальника управления валютного регулирования Центробанка, первого вице-президента «Токобанка», а тогда – замсекретаря Совета безопасности РФ; глава ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу Н. А.Савинская и работавший со мной во Внешторгбанке и дочернем ему Донау-банке (Вена, Австрия) А.Е. Четыркин. В результате не прошел только последний. Также не была утверждена кандидатура, предложенная Администрацией Президента, некоего советника Государственно-правового управления (ГПУ) Вячеслава Прозорова. Он как для меня, так и для большинства депутатов оказался темной лошадкой. Его рекомендовал руководитель Администрации Валентин Юмашев, в то время не очень популярная фигура. Тем не менее на меня почему-то долго был обижен начальник ГПУ Р.Г. Орехов.
Однако следовало оперативно приниматься за работу. Уже 15–18 сентября подходил срок возврата коммерческими банками России кредитов почти на 20 млрд долларов, которые они взяли в сотне банков 15 стран мира. Особенно много в Германии. Наши банкиры рассчитывали на то, что к концу 1998 года доллар будет стоить не более 7,5 рубля. Но грянул кризис, и он стоил почти в три раза дороже[24]24
29 августа доллар стоил 7 рублей 86 копеек. С 31 августа начался бурный рост курса американской валюты. 1 сентября он вырос до 9,33 рубля, а 9 сентября достиг отметки 20,82 рубля. – Примеч. Н. Кратова.
[Закрыть]. Еще столько же мы должны были выплатить в сентябре западным банкам, вложившим средства в наши ГКО. Надо сказать, что разрешение иностранцам покупать ГКО было порождено вопиющей некомпетентностью прежнего состава совета директоров банка, которым в последнее время заправлял не Дубинин, а некое отнюдь не «святое семейство» – первый зампред Д.Г. Киселев со своей женой И.Е. Ясиной.
При этом следует отметить, что к августу 1998 года цена на нефть снизилась до 10 долларов за баррель. В начале 1999 года она упала до 7,5–8 долларов. И лишь весной 1999 года пошла вверх, преодолев в апреле 11-долларовый рубеж. Так что атмосфера, в которой я приступил к работе, была, мягко говоря, непростой.
Уже 15 сентября я восстановил справедливость и подписал приказ о передаче ОПЕРУ-2, занимавшегося надзором за деятельностью крупнейших (системообразующих) банков страны, в подчинение ГУ ЦБ по Москве.
В тот же день я сподобился в Кремле личной встречи с президентом Ельциным. Мы обсуждали стратегические и тактические направления работы Банка России. Борис Николаевич поддержал мое предложение о необходимости возврата к контролируемому эмиссионному кредитованию бюджета взамен выпуска госбумаг.
Я тогда спросил у него: «Борис Николаевич, нельзя ли издать указ, чтобы в сутках было 25 часов, потому что не хватает времени справиться со всеми проблемами?» Очень быстро он ответил: «Эту проблему вы сами сможете в Центральном банке решить без моего указа». Я обрадовался, что у человека быстрая реакция и чувство юмора.
Первые назначения в правительстве России повергли американских политиков в откровенное уныние. «Тройка Примакова» (как окрестили в спортивном духе местные комментаторы команду нового премьера России с участием Ю. Маслюкова и В. Геращенко) в американских СМИ персонифицируется чуть ли не с «секретным оружием Кремля в борьбе с реформами».
Подливают масла в огонь и наши «вчерашние реформаторы». Газеты в США ссылаются на слова Е.Гайдара об «угрозе красного реванша», а «самый прогрессивный реформатор» по американской градации Б. Немцов обильно цитируется в новостях каналов телевидения с характеристиками В. Геращенко как «могильщика реформ» и чуть ли не «красного палача»…
О каких реформах и «стабилизации экономики» с ними можно говорить, сказал мне один из представителей МВФ, работавший «на Россию» и регулярно высказывавший восторженные отзывы о Чубайсе и Дубинине. Ведь они же «коммунисты».
Сигов Ю. В Америке в эти дни вспомнили о Горбачеве // Новые известия. 17 сент. 1998.
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ: Я не хочу вдаваться в детали экономической программы Примакова, тем более что он пока ее и не провозгласил, но назначения, которые уже сделаны – Маслюков, Геращенко, – свидетельствуют, что он не чувствует, в каком направлении надо двигаться вперед. Татьяна Дьяченко все понимает. Но она дочь… // Вечерняя Казань. 18 сент. 1998.
Итак, потери капитала в банковской системе России в период кризиса превысили 100 млрд рублей, курс рубля плавающий, резервов никаких, долгов до черта, хотя это была и не моя забота. Такова картина начала сентября, когда я вернулся в Центральный банк.
Мы оперативно (еще в сентябре) подготовили отчет-программу «О состоянии денежного обращения, системы расчетов и преодолении кризиса в финансово-банковской системе» – жесткий, небольшой по объему и детально проработанный документ. В первую очередь следовало вывести из комы рынок ценных бумаг, для этого мы уже в сентябре запустили в оборот облигации ЦБ, названные в народе «бобры» (прежние облигации всегда выпускал Минфин). Банкам, взамен ГКО, был предложен достаточно надежный инструмент для работы. Тогда же провели взаимозачет банковских долгов, пробив тем самым тромбы неплатежей. Нажимал на эмиссионную педаль я осторожно, мне не хотелось выпускать из бутылки джинна инфляции. Тем более что в свое время Государственная дума приняла закон, запрещающий Центральному банку кредитовать бюджет. И я не настолько сумасшедший, чтобы пойти на прямое нарушение закона, в то время как Генеральная прокуратура только и искала повод, чтобы обнаружить нарушения закона в ЦБ. Я заявил, что решение о возможной эмиссии должна принимать Дума, которой в этом случае придется нести всю политическую ответственность за последствия.
Операцию зачета ограничили для начала пятью регионами (Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Самарской и Свердловской областями). В акции 18 сентября приняли участие все желающие банки, испытывающие трудности с проведением расчетов. Через неделю мы эту операцию сделали обязательной. Деньги, переданные банкам, были частично изъяты из фонда обязательного резервирования «экстремальных» запасов Банка России, частично даны в долг (невозвратный) под залог ГКО. Через некоторое время прошел третий этап зачета. В результате из общего объема застрявших в комбанках 40 млрд рублей было проведено 30,3 млрд. В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды по другим обязательствам перечислено 20,6 млрд рублей, в том числе в федеральную казну – 3 млрд рублей. При этом мы контролировали, чтобы освободившиеся деньги не попали напрямую через банки на валютный рынок, а шли в промышленность и сельское хозяйство. Никакого обвала рубля не случилось.