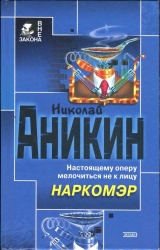
Текст книги "Наркомэр"
Автор книги: Николай Аникин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– К столу, гости дорогие! – воевода вращается на высоких каблуках. – Чем бог послал…
Гости, эуштинские татары, робко входят в воеводскую избу, толпятся у дверей: не робость высказывают – уважение. Часто кланяются. Непривычно сидеть за таким столом, но чего не сделаешь ради своего же блага.
Заходят чинно в воеводскую избу русские люди. Размашисто крестятся на передний угол, где едва заметно теплится лампадка. Жуть берет: куда занесло суровых магометан.
Сухонький голова, Гаврила Иванович Писемский, козлинобородый и плешивый (волосы выпали уже в Сургуте), топал половицами, помогая рассаживаться.
– Места всем хватит, – повторял он то и дело. – Хорошее дело свершилось…
Воевода позвал помощника и послал того прислать каких ни есть дудошников. Тот понял по-своему: помчался и притащил жившего за большим ручьем Ивана Еремина, ярого плясуна и задиру. Иван вначале заупрямился: поставил в лесу-де петли на зайцев. Но, услышав воеводин приказ, быстро собрался. Притащились и дудошники – два казака-старожила.
На столах у воеводы стояло и лежало «чего бог послал». Копченые ельчики, осетры в больших деревянных корытах, вареные, большие хлебы, белые и ржаные, паленые глухари с обрубленными лапами и печенные в золе, туеса с медовухой. Стояли большие гнутые бутылки с вином, вынутые из погребов Писемского (голова был запасливый). На сосновых досках разложены копченые языки. В глубоких ставцах таяла капуста, квашенная с брусникой. Еды было много, и все давно проголодались. Наконец все было приготовлено. И воевода, наложив крест, сказал: «С богом!» – и опрокинул в большой рот оловянный стакан с анисовой водкой. Крякнул.
Закрякали и остальные, потянулись каждый за своим куском. Поднесли Ивану-плясуну – отдельно, в уголке, – знай свой шесток…
…Дудошники надрывались у двери. Иван потел, который раз выходя на середку избы. Потно в избе, чад стоит. Надышали, что лампада едва теплится, подергиваясь пламенем.
Тоян шепнул своим, те перемигнулись. Из-за стола полез татарин, молодой, сероглазый, в сапогах под вид бескаблучных – катаных. Повел смуглой головой вправо, влево и пошел плясать татарин. Сородичи его подыгрывали. Музыка, то заунывная, то быстрая, гремела.
Иван поясно поклонился воеводе:
– Дозволь отлучиться… до ветру, что ли, воевода…
– А мы все вместе, – вскочил воевода. – Айда, люди добрые, из избы… Двери не закрывать – пусть выхолаживает…
У отца Евдокима волосы коровьим маслом мазаны, от жары длинные патлы взъерошились. Батюшка с томлением икал, жуя губами и шмыгая обветренным носом. В бороде у него застряли хлебные крошки, и он выбирал их оттуда скрюченными пальцами…
Зимний день короток. Солнце задевало о верхушки пихт. По-прежнему морозно и безветренно. Служилые устроили борьбу – кто кого! Сначала между собой, а потом пошло-поехало.
Иван-плясун – грудь колесом, ходил по кругу, подначивая на борьбу. Тоян и на этот раз шепнул что-то соплеменнику. Тот выскочил на середину двора против Ивана. Началась борьба.
– A-а! Не кароший делашшь! (Это был князькин переводчик.). Зачем хватать… А?! – И стал торопливо вырываться из Ереминых лап. Но тот не пускал, пыхтя, как бык.
– Моя взяла… Я его все равно… Не бывать тому, чтобы нам…
– Пускать надо!.. Не надо держать!..
– Нетто так можно, – поморщился воевода и велел растащить драчунов.
Трое казаков кинулись разнимать, но Иван так ухватил татарина за опояску, что не могли оторвать. Подняли, растаскивая за ноги, над истоптанным и занавоженным снегом, раскачали и махнули обоих в сугроб, к заплоту.
– И-их! – татарин было бросился на Ивана драться, но тот ловко увернулся.
– Тих-ха! Это уже не порядок! – крикнул кто-то из казаков.
Толпа сдвинулась. Стрельцы зашевелили кулаками. Воевода нахмурил кустистые брови.
– Закон божеский мы знаем и чтим… Воевода раздосадован. Довольно баловства, в избу идите… А тебя, Иван Еремин, прикажу пороть завтра… у съезжей избы… Ишь, расходился!
– В твоих руках я, воевода, – отряхнулся плясун от снега. – Но только послушай: с чего это он, а? Взбесился будто…
– А то и не знаешь…
Воевода махнул на него рукой. Придавил лапищами нижнюю часть и не знает, прикидывается.
Тояну торопливо толмачил обиженный переводчик, сердито нахлобучив по самые брови пушистую шапку. Тоян замахал руками.
– Не надо, – скривил губы толмач, – просит не хлестать Ванюшка…
Воевода и так понял, без толмача, что погорячился. Откуда знать, что так получится… В ботовых руках когда все…
Тоян, стоя рядом, напрямую спросил воеводу:
– Можем ли мы надеяться на помощь и защиту?
Воевода ничего не ответил: самому трудно знать сие, он сам в руках господних. Лишь тихо кивнул и позвал гостей в порядком остывшую избу…
С крыльца, держась обеими руками за перила и постукивая о дерево медным крестом, тихо блевал отец Евдоким…
…Тихо замерли дерева под снегом. Дымы столбом ползут из печных труб. Галки, вороны, сороки, не шевелясь, сидят по заплотам. На уезженной дороге на конских яблоках пасутся воробьи.
Тишина. От мороза щелкает временами в углах воеводской избы. Тоскует воевода: зима тянется долго, а воеводин век короток. Направлена вверх по Оби разведка, – ни ответа, ни привета… Живы ли? Не живы ли? Кто их знает! Этот татарин еще… Клялся, божился, что проведет казаков куда надо, покажет места добрые… Хитрый! Свое наперед видит… Мудрен. К самому царю в ножки кинулся…
Скрипнула маленькая дверца, ведущая из покоев супруги, – женушка вышла, заботливо взглядывая на мужа.
– Поел бы, Феденька…
Воеводиха проплыла мимо стола, уселась напротив мужа, стараясь все заглянуть в глаза.
– Поел бы, милостивый… Глухарики, в тесте печенные… Сама доглядывала…
– Уйди, брось, Настасья. С души воротит…
– Да что ты, батюшка? – обиделась супруга. – Чем прогневила?
Вскочила. Вновь пошла вдоль стола. Круглощекая. Румяная. Брови вскинуты вверх, отчего казалось всегда, что она чем-то удивлена.
– Ну что ты, родимая… Кто тебе говорит, что ты виновата…
– Хоть бы закусил чего-нибудь… А хоть бы и рюмочку выпил – полегчает…
– Неси! – воевода словно отмахнулся от нее.
– Я сейчас, – засуетилась жена. – Живой рукой…
Воевода выпил рюмку, захрустел огурчиком, капая рассол на нечесаную бороду. Воевода встал с постели рано, однако мысли по-прежнему шли вразброд, и он пытался с ними собраться, а до бороды руки так и не дошли. Сидел, чесал под лавкой нога о ногу, думал. В последнее время он особенно любил так сидеть и мечтать. В голове маячили разные мысли. Короток воеводский век. Как деньгами разжиться, чтоб уж потом ни о чем не думать? Как и что там, в далеком верховье?
Позвал слугу – прилизанного, стриженного под горшок малого, в рубашке с тонким ремешком по талии. Велел нести всю «оружию». Велел точить на круге свою любимую кривую саблю, с которой бывал в прошлых походах. Пистолетами занялся сам – чистил, ковырял запальное отверстие, мазал маслом. Пистолетами остался доволен и велел отнести на место. А вот саблю приказал снова точить. Двое мужиков вращали круг. Водица сбегала с шершавой поверхности, опадая в корытце. Воевода не выдержал, вырвал саблю.
– Как вот дам! – закричал на слугу, тоже стриженного под горшок. – Ишь ты, растяпы… Вот как надо! – и принялся водить тусклым лезвием по кругу – туда и обратно, туда и обратно. А про себя все ворчал: «Ничего им не надо, ничего… Хоть иди все синим огнем!» – Поди! – прогнал малого. Эти два хороши, зато малый – отпетый дурак. «Не дай бог, дойдет до царевых ушей, чем я тут занимаюсь, – ужаснулся, – не сносить башки!» И тут же решил: завтра слать следом в верховье Оби людей – ждать невмочь более.
А в вечер созвал воевода в свои хоромы сургутских богатеньких. Пришли все, кого приглашал. Из погреба выкатили дубовую бочку хмельного пива. Пиво было на меду. Мочили пивом бороды, жрали окорока. Один за другим ходили на двор – помочиться с высокого воеводского крыльца. Батюшка Евдоким тоже пришел: волосы, как всегда, маслом коровьим намазаны – все жалуется, головушка болит у него. А бражку трескать – не болит.
Как и в прошлый раз – на проводы Тояна, – накушались все крепко. А батюшка – до упора…
Поздней ночью воеводиха (время ее настало) пилила воеводу:
– Нет бы как-нибудь чинно, по-хорошему, так нет… Батюшка, бедненький, в штаны начурил… У него же недержание.
– Кто виноват, если он страдает, – пытался оправдываться воевода, щекоча Настасью бородой по надломленным бровям…
А назавтра, ближе к полудню, когда воевода вовсю был занят снаряжением в поход небольшого обоза (с утра выехать не получилось), в Сургут вернулась разведка…
Ехали на конях, запряженных в расписные кошевы с ковровыми задниками – подарки Тояновы.
Косматые кони втянули на берег с реки повозки, остановились возле воеводской избы, морозно поскрипывая нахолодавшей упряжью. От коней шел пар – устали лошаденки, водили мокрыми боками. Привычно тянулись мордами к саням, ища в них корм…»
Шура Хромовый удивлялся: интересно люди жили. Почти что, можно сказать, на всем готовом – природа-то не надорванная была. Он отложил книгу, надеясь в будущем непременно дочитать ее.
Жена говорила по телефону:
– Что ты, Олечка! Да разве же так можно! Не торопись, прошу тебя… Обдумай свой шаг, прежде чем так уж решаться.
И мужу, зажав трубку ладонью:
– Разводиться надумала…
Шура Хромовый кивнул и повернулся на другой бок. Дремота наваливалась на него всей тяжестью. Окончен непростой день градоначальника. Он пытался сегодня решить людские проблемы, но не смог. Зато участвовал в их решении. И если не смог, то не он в том виноват. Ему бы свои вопросы как следует кончить…
Глава 4
Рябоконь рыл рогами землю. Требовалось устранить всего лишь одного мента. И то бывшего. Без лишних сантиментов. Мент жил себе, не тужил и не представлял опасности, пока находился в Москве. Но потом он занялся фермерством, и это было уже опасным шагом. Для местных бизнесменов. Требовалось принимать срочные меры. Однако вместо срочных мер ему позволили уйти. Мало того что он сам ушел, он еще и мать свою освободил и перепрятал. Теперь его практически зацепить будет нечем.
– Где его теперь искать? – буйствовал завбазой, сидя в кресле и обдирая исподлобья людей.
Те мялись у порога, не поднимая глаз.
– Расскажите хотя бы, как дело было…
Один из молодых людей блеснул глазами на шефа и вновь опустил голову. На лбу, до самого переносья вспухла широкая чугунного цвета подушка.
– Ты в состоянии, Мишенька, рассказать, как дело было? Можешь или нет, скажи? – продолжал допрос Рябоконь.
– Могу…
– Ну так поведай нам… Как на твоем лбу образовалось это?
Он ткнул пальцем в воздух.
– А чо такого-то. Подъехал какой-то. Как шибанет кулаком – я и с копыт. Подъехал как этот, как домовой. Я не возвидел даже.
– Как же он к вам подъехал туда, в баню? Я вам где сказал торчать?!
– Вышли маненько. Воздухом подышать…
– Надышались?
Мишенька не ответил. Только еще ниже голову опустил.
– Ну а ты чего нам расскажешь, гроза ментов?
У другого на темени возвышалась копна волос. Кожа поднялась, а с ней и волосяной покров.
– Я-то?
Гриша потрогал пальцами «копну» и в очередной раз остался доволен: черепок был цел.
– Не кулаком он его саданул, а прикладом, – вдруг вспомнил Гриша. – Кованым. Я сначала подумал, по зубам. Ну все, думаю, по зубам получил…
– Прикладом, говоришь? – заерзал в кресле Рябоконь. – Выходит, он вооружен?
– Не то слово!
– Что за оружие? «Калашников»?
Гриша вновь потрогал темя и покачал головой:
– Нет… Винтовка у него оказалась. Кажись, трехлинейка. Говорю, домовой…
– С вами не соскучишься. С чего ты взял, домовой и домовой.
– В шубе потому что был. В косматой. Мехом наружу. Я таких и шуб-то не видел никогда. И винтовкой как раз между глаз, прикладом…
– А тебя он как ухайдакал?
– Меня-то просто. Блеснуло что-то сначала. Я подумал – молния. И прямо по голове.
– А гром был?
Парень не ответил, опустил голову. Какой тут гром, когда без сознания лежишь.
– В шубе, значит… – Рябоконь отвалился на спинку кресла и задрал ноги на стол. Парни тупо смотрели в подошвы дорогих туфель.
– Садитесь пока. Чо стоите-то.
Парни с радостью опустились. Головы у обоих трещали. Не думали головы, что в переплет попадут, а следовало бы. Ничего не поделаешь, издержки производства. И бюллетень у этого Коня Рыжего не попросишь. И работы лишились. Теперь будет совать куда ни попадя и ноги о тебя вытирать. Вот попали…
Рябоконь продолжал словесные пытки и только после того, как выпытал, отпустил своих бандитов по домам – раны зализывать. Оба жили в Матросовке и числились вторым сортом.
Итоги расспроса оказались неутешительными: абсолютно не за что ухватиться – разве что за шубу косматую либо за холку кобылью. По всему выходило: одичал полковник, двинулся в лес, коли в шубе. Переполнен злости за все хорошее, что успели в отношении его совершить. Теперь жди от него страшного суда. Не зря про какой-то суд намеки делал мэр вчера. А и нужно-то было всего – кирпич на шею и в болото.
«Но может быть, домовой этот успокоится, – вдруг подумал недавний зэк. – С чего бы ему еще бушевать?! Старуха на свободе. Сам тоже. Живи и радуйся. Правда, он лишился дома, а заодно и покоя. Не может он успокоиться и просто так все позабыть. Черт дернул этого Тюменцева сообщить о его прибытии…»
Жизнь Рябоконю не то что с овчинку показалась, но словно бы дала едва видимую трещину. Трещина пробежала давно, в прошлом году, когда он, махая руками перед носом у губернатора Безгодова, доказывал тому: «Не спеши, Женя, с бизнесом своим. Широко шагать – это не быстро лететь. Штаны порвать можно…» Доказывал, а сам тем временем бизнес тот перехватил, переведя на себя потоки сырья. И все это потому, что другого такого случая в жизни не предвиделось. Кто он такой, Рябоконь? Мышь серая. Конь Рыжий. Заведующий овощной базой. Завхоз преступного сообщества – вот кто он. И он это отлично понимал. Потому и ступил на этот донельзя склизкий путь.
Не ступил бы, не будь он уверен: дует попутный ветер.
Несмотря на ветер, дувший все время в спину, Рябоконь совершал телодвижения, чтобы лететь столбовой дорогой еще стремительнее и при этом не шарахнуться плашмя об асфальт. Иногда он притормаживал и даже просил совета у других. Сегодня он решил поговорить с мэром, но Шура Хромовый оказался занят.
– Ты свои мэрские замашки брось, – бухнул второпях Рябоконь.
– Я в законе…
– Что ж, что в законе… Мы давно все перестроились. И у нас демократия. Тоже…
– Встретиться не могу… – отрезал мэр и положил трубку. Возможно, у него действительно не было свободного времени, либо решил вновь «задрать тарифы».
«Вот гад! – вслух выругался Рябоконь. – Прыгает, пока фарфоровые зубы не выбили…»
Однако вечером Шура Хромовый сам позвонил и тихо проговорил, словно прошипел:
– Подходи к речному вокзалу. Часикам к восьми. Говорят, там прекрасные раки подаются к пиву, – и отключился.
У Бори мороз пробежал по спине. Он думал импульсивно, и поступки у него выходили импульсивными. Теперь он пожинал плоды собственных импульсов. Не хотел бы он оказаться на дне в обществе тех же раков. Но делать нечего. Надо идти. Сам ведь напросился, крутой…
Народу в ресторанчике не было никого, не считая самого мэра и тройки самых ретивых – Раппа, Смаковского и Мальковского. Рябоконь был пятым. Для него было заказано, и стоял прибор. Одинокий официант, молодой человек с сумрачной физиономией, бродил от стола к кухне и обратно, наводя скуку. Наконец появились раки, и официант, слегка поклонившись, отошел к двери и стоял там, посматривая на блестевшую при закате солнца реку. Это был помощник у Шуры Хромового, который знал свое дело в совершенстве. Он охранял мэра.
Бизнесмены говорили. На внешней стороне двери висела скромная табличка: «Учет».
Мэр продолжал шипеть:
– Может, ты хочешь, чтобы я вместо тебя сел в лужу?
– Я поспешил и не отрицаю этого. Моя была инициатива со старухой. Но я хотел как лучше. Я его хорошо помню, хотя ни разу не видел. Конечно, я поторопился.
У него тряслись поджилки. Троица готова была откреститься от него.
– Знаешь, Боря, – произнес многозначительно мэр, – я хотел бы сейчас сказать одну вещь. Запомни это: лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду, – и впервые улыбнулся за весь вечер, поражаясь мудрости Цицерона Марка Туллия.
– Хочу вас также спросить, – продолжил мэр. – Как этот мент действовал в прошлом году? Помните?
– Он его провоцировал, губернатора, – принялся вспоминать Рябоконь. – Записочки подкидывал на дачу, и даже газета на его стороне выступала. Заставил тайгу чесать, банки ржавые собирать вокруг Дубровки. Все думали – шибанулся какой-то на почве охраны природы, потому что Лешим назывался… Но своего добился, спровоцировал. Затянул в дебри и там прикончил вместе с охраной… Так что ждите того же сценария.
Рябоконь замолчал. Слишком просто у него получалось. Леший – провокатор. Довели мужика до белого каления, и тот двинулся в партизаны. А если это не он? Если не тот это человек, о ком сейчас все думают? Если город тогда был все время под чьим-то неусыпным наблюдением и Леший – это только чья-то прихоть, чтобы глаза замазать?
Оказывается, все-таки нет! Ушайск не был под наблюдением. Сведения абсолютно точные, потому что исправно до последнего времени работал свой человек в Центре. Это вам не какой-нибудь РОВД. Это Учреждение. Агентство стратегических исследований. Теперь человека того нет. А когда-то было целых двое. Безгодов побеспокоился. В настоящее время можно надеяться лишь на себя и на помощь сообщества.
– А если нам самим его спровоцировать? – предложил Рябоконь. – Объявить, например, в средствах массовой информации, что в лесу завелся опасный клещ – разносчик заразной болезни – и государство проводит массовую обработку лесных массивов…
– Инсектикацию, что ли?
– Вот именно! С применением авиации. Он и выползет. В лесу он прячется. Я просто в этом уверен.
В этом что-то определенно есть. Они должны подумать. Они должны себя защитить. Просто обязаны. Здесь они выросли, здесь они поднимали детей, опускали взрослых… Им теперь есть что защищать. От беспощадного разграбления. Вот только как тот Леший узнает, что его намереваются травить с воздуха? Может, ему телеграмму послать?
– Я что еще хочу спросить, – вспомнил мэр. – Вы хорошо осмотрели место происшествия? – и уставился на присутствующих.
– Пожарище, что ли?
– Вы правильно поняли.
– А чо там искать! Там же менты все облазили, за нас рылись. Ничего не нашли.
– А вы им не верьте. Сходите и посмотрите. Может, что и найдете…
…И вновь рылись в остывшем пепелище неизвестные лица, но так ничего и не нашли. Остановились, глядя в лес. Тайга! Пойди найди там! Если сможешь! Но Гриша с Мишей все-таки были довольны. Их вновь взяли на дело. Хотя бы золу просеивать.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…
Не зря сказано. Так что, может, не надо в лес соваться? И, правда, не поехали туда. Сели по машинам – и дай бог ноги. Только пыль столбом по проселкам. В Матросовке Мишу с Гришей высадили, пообещав в скором времени обеспечить обоих транспортом – Матросовку курировать, «крышу» ей обеспечивать.
Парни довольны: это вам не бюллетень какой-то, а тачка крутая… На краю поселка забежали в магазин и не сдержались, купили на опохмел. Вернулись к родительскому подворью и, старательно обходя то место, где недавно лежали, вошли через узкую калитку в огород. Сели под навесом у бани. Потом встали, принесли огурчиков и помидоров и вновь сели. Как ни говори, тоже ведь рабочий день у людей закончился.
Глава 5
Резидент катался в пыли, задрав копыта. Наверно, он разминал затекшую спину. Она у него томилась от долгого безделья. Размяв ее, конь нехотя повалился на бок и встал, слабо дергая кожным покровом.
Полувоенный фермер стоял рядом, наблюдая за действиями движимого имущества. Придется фермеру вести это имущество к бочке с водой и полоскать там или к Оби. Он так и сделал. Взял Резидента за узду и отвел к пологому берегу. Вдвоем они вошли в воду, и хозяин принялся смывать со спины коня прилипшую пыль.
Почти что целую ночь Михалыч провел тогда в пути, следуя лесной дорогой. Он вел коня за узду. Мать дремала в седле и едва не свалилась с лошади. Пришлось меняться. Однако ходок из матери был не очень-то. Шла так себе, с трудом, лишь бы сон развеять, спотыкаясь на заросших травой колдобинах.
Летняя ночь коротка. Вскоре начало светать. С трудом они наконец подошли к Половинке: деревья вдруг сразу расступились, и впереди проступили огороды, бани и пологие крыши нескольких изб.
Пришли. Конечно, дядя их не ждал. Их вообще никто не ждал. Собака рвалась на дворе, таская цепь по натянутой проволоке. Наконец дядя подошел к зарешеченному оконцу. Кто? Куда? Проездом? Кто такие? узнавал спросонья, старый перец.
И вот уже несколько дней Кожемякин живет у него с матерью и пасет Резидента. И не может найти выход из сложившейся ситуации. Разве можно жить на Половинке? Прятаться можно. Это даже не Дубровка и, уж точно, не Матросовка. Потому что здесь: «Три деревни, два села, восемь девок – один я…» От селения осталось десяток домов, половина из которых стоит с заколоченными окнами. Зато в трех километрах, в березняке вполне современная богадельня – дом-интернат для престарелых и инвалидов. От нее ведет прямая асфальтовая дорога на Шегарский тракт, а оттуда, если повернуть налево, – до города.
– А что мне переживать? – кривил губы дядя. – Состарюсь – и в интернат. Он под рукой…
У дяди одна за другой умерли две жены. Третья просто ушла от него. Бездетной Ксении было невмоготу видеть, как приезжают из города две дочери и выгребают из погреба провиант. Ей этого было не понять, поэтому она и ушла. И теперь жила на другом краю деревни в собственном доме.
Полковнику никогда не нравилась Половинка. Еще с детства он любил лишь Дубровку. На высоком обрывистом берегу. С церковью на высоком косогоре. С лужайкой по Городищу – так почему-то называлось место рядом с церковью, хотя никаких строений, кроме церкви, там больше не было.
Полковник понимал: чтобы начать действовать, нужно выбираться из Половинки. В том, что он будет действовать, он нисколько не сомневался. Он просто обязан был совершать поступки, хотя бы для того, чтобы остаться в живых. Ему нужно было в город, но пока он не мог туда ехать: он растил бороду. Можно было бы обойтись искусственной и наложить грим – все это имелось в контейнере, но он считал, что настоящая лучше.
Через неделю рано утром он объявил:
– Все. Ухожу. Мне пора.
Дядя округлил губы, собираясь что-то сказать. Мать кинулась в слезы, вопя во весь дом.
– Свернут же ведь шею, – произнес наконец дядя.
– Точно! Свернут! – согласилась мать и еще громче заплакала.
– Волков бояться… – только и сказал сын.
– Тогда я тоже с тобой. – Мать встала.
– Я за тобой приеду. Туда нельзя пока. Ты же знаешь. А мне нужно. Здесь я ничего не высижу. Даже цыплят.
– Ну, тогда надо хоть что-то собрать…
Михалыч выехал рано и половину пути прошел рысью, рискуя свалиться и разбить голову о какой-нибудь пень. Резидент шел ровно, откинув хвост и далеко вынося ноги. Полковника в седле не трясло. Потом он перешел на шаг и к обеду уже был на месте. И чуть не нарвался на дозор ОМОНа, расположенный за последним логом. Далее уже находилась Матросовка. Бойцы сидели у костра – должно быть, их донимали комары, и за старой дорогой они не следили.
Михалыч остановил коня, спешился, пригибаясь, ухватил коня за узду и ушел с дороги. Вскоре он углубился в такие дебри, что едва ли там мог выдержать ОМОН. Потом вышел опять к логу и через час уже был на старом месте. Контейнер, полог и сухари, спрятанные под пихтовыми лапами, были на месте. Их даже с двух метров не было видно.
Спутал Резидента, достал из контейнера остатки долларовой и рублевой наличности и, еще раз осмотрев местность, отправился затравеневшим логом к реке. Вышел, ступая кочками, на обширную луговину, огляделся. Вдоль берега никого. Лишь одинокая лодочка с рыбаком у Сенной Курьи да пара теплоходов замерла в неподвижности в другой стороне.
Полковник повернул в сторону Матросовки, к теплоходам. Вдалеке виднелись крыши поселка.
«Только бы повезло», – думал полковник. Оба судна не подавали признаков жизни. Но сразу за ними оказалась дюралевая лодка, и в ней сидел мужик, копаясь в моторе.
– До города подвезешь? – спросил Кожемякин, стараясь поймать его взгляд.
Мужик отрицательно качнул головой. Для чего ему город, если ему туда не надо. Однако пачка купюр, поднятая над головой, подействовала положительно, и мужик кивнул. Сознательный попался человек.
Вскоре Кожемякин уже находился в городе. Перевозчик послушно поджидал его у речного порта – было уплачено в два конца. Михалыч спешил. Следовало успеть, как минимум, в три адреса: навестить Веру (у нее оставался полковничий мундир), увидеться с начальником РОВД Ивановым (на его территории находились Дубровка с Матросовкой). Кроме всего прочего, может быть, надо было также навестить сестру Бутылочкина – Любку-сопливку и рассказать ей о гибели брата. Настроение у Михалыча было отвратительное. Каждого из них Михалыч в прошлом знал, и каждому из них он был должен. По крайней мере у него было такое чувство.
Звонок Иванову оказался безрезультатным: начальник находился в отпуске. И хорошо. Меньше будет знать, лучше будет спать. И дольше при этом проживет.
Подошел трамвай, и Михалыч поспешно вошел в него. Позади себя слежки он не заметил. Не было слежки. На седьмой остановке он вышел. Тот же каменный собор на середине косогора – словно взбирался вверх, да передумал зодчий, остановил на полпути. Тот же домик Веры напротив, в низине. Та же у нее черемуха под окном. Одна лишь Вера не та: в домике, кроме Веры, сидел косой, со шрамом мужик и пялился Михалычу на бороду.
Михалыч вместо приветственных речей, скромно поздоровавшись, предъявил хозяйке прошлогоднее удостоверение. Конечно, Вера узнала его, но виду не подала и даже не покраснела. Зачем ей краснеть. Сам виноват. Уехал и за все время написал лишь два письма.
– Я сейчас, – обернулась к мужику Вера и первой взялась за дверную ручку.
Они вышли в палисадник и у крыльца сели. В прошлом году Михалыч неделю жил у Веры, прежде чем отъехать в Москву. Жил после того, как вся его неожиданная миссия завершилась. А чуть раньше Вера его спасла, выпустив через потайной ход из гостиницы у реки.
Целую неделю они были предоставлены себе. Вера говорила, что будет вспоминать Михалыча, глядя на оставленный в шкафу мундир. Потом она бежала за поездом. Теперь она сидела и молчала, поджав губы и гордо вскинув голову.
– Надолго? – спросила она.
Он пожал плечами. Конечно, он мог бы навестить ее сразу, по возвращении, однако откладывал, обустраиваясь на новом месте. Обустроился, кажись…
– Что за мужик? – спросил он.
– Муж, – ответила Вера. – Мы недавно поженились…
– Счастья вам…
Она кивнула и спросила:
– Китель заберешь?
– Потом когда-нибудь, – ответил он.
Жизнь подстроила ему шутку. А он так надеялся. Он только сейчас понял, для чего сюда ехал, в Сибирь. Ради этой встречи. Но Вера подвела. Не оправдала, в общем. Как и все остальные, не оправдавшие. Мало ли таких, как он… Не он первый, не он и последний…
Михалыч встал и пошел по тропинке к улице. Он позвонит как-нибудь Вере. Он помнит ее телефон.
Первый же трамвай унес его прочь от домика в низине. Позади ничего не осталось, кроме воспоминаний. «Я оказался нужен как прошлогодний снег, – говорил он про себя, и по лицу блуждала улыбка. – Вера, Вера! В тебя лишь можно только верить…»
Михалыч помнил еще один адрес, который произнес впопыхах Бутылочкин. Казалось, он не запомнил его, однако нет, запомнил. Он даже помнил и другие слова: «Живет в теткином доме на окраине города, а работает в железнодорожной кассе… Все ждет своего героя…»
Любки дома не оказалось. Она могла быть и на работе, и в магазине, и еще где-нибудь. В кассах круглосуточная работа. Он поймал себя на мысли, что стоит как пень посреди улицы. Совершенно позабыл, что такое конспирация. Какой же ты после этого специальный агент! Впал в столбняк и ни с места…
Он отошел к остановке и поехал в обратном направлении. Не может быть, чтобы Любка ездила на работу через весь город. Вокзал расположен на другом конце. Значит, и Сопливка работает там же. Поэтому придется проверить все кассы, какие в городе имеются.
Однако не проехал он и двух остановок, как взгляд его выхватил в пестром ряду бегущих витрин слово «Кассы». Он вышел на остановке и пошел в обратном направлении. Действительно, это оказались кассы по предварительной продаже билетов на все виды транспорта, кроме речного.
Михалыч пробежал вдоль оконцев, но не признал Любки. Не было ее среди кассиров. Да и кассиров самих было всего три. Михалыч вернулся к первой кассе и, продвинувшись сквозь толпу к окошечку, прочитал фамилию кассира на ее груди. Не та оказалась тетка. Она сразу не понравилась Михалычу. По возрасту не подходила. Вторая подходила, но имела другую фамилию. В третьем окне сидела та самая, с фамилией, именем и отчеством. Все совпадало. Однако она совершенно не была похожа на Любку-сопливку. И рот у нее был маленький, и губы слегка словно припухшие, и нос вовсе не курносый, а прямой.
Полковник занял очередь и, пока она двигалась, на клочке бумаги написал: «Здравствуйте, Любовь Григорьевна! Нам нужно поговорить, если вы тот самый человек, который жил в селе Нагорная Дубровка. Может быть, я ошибаюсь, но если у вас действительно брат Николай (Бутылочкин), в таком случае у нас есть о чем поговорить». И подписал послание, как это несколько раз делал в далеком прошлом, – Кожемякин. Коротко и сердито, хотя и довольно сухо. Он не мог по-другому. И подал записку с рук на руки.
Белокурая леди вскочила из-за стола. На лице играл румянец.
– Толька! Ты? Кожемяка…
И вновь села, ухватив щеки ладонями.
– У меня через полчаса окончание, – она показала пальцем вверх, на расписание. – Можешь подождать?
Конечно. Он мог.
Однако она думала, что Кожемяка может опять взять и просто так уйти, по-английски, даже не простившись. Тот еще тип. Но полковник никуда не спешил. Конечно, он будет ждать, потому он кивает и смотрит в глаза, так что жуть берет… Бородищу отрастил, кучерявую. Она бы все равно его признала, даже с бородой. Она его помнила. И знала. Потому что только от его касаний впервые в жизни, будучи девчонкой, испытала неописуемый оргазм. Чувство оказалось такой страшной силы, что Любка упала на Городище в траву и валялась, дрожа всем телом.
Потом это неоднократно повторялось, а еще позже вдруг прекратилось, потому что Кожемяка вскоре закончил школу и уехал на учебу. На этом закончился весь ее сексуальный опыт. Их отношения прекратились. Да он и не обещал ничего, этот парень.








