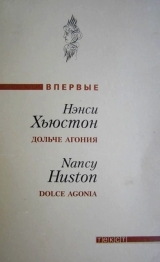
Текст книги "Дольче агония"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Арон одаривает его улыбкой. Он видит, как быстро утомило Дерека сидение на корточках; зулусы, даже самые старые и немощные, способны на долгие часы застывать в такой позе, а у белых она – признак юности, но Дерек уже не молод, повыпендриваться он может разве что минуту-другую, потом его бедренные мышцы затекают, пояс врезается в брюхо, и возникает острая нужда либо сесть на ковер, либо встать – все зависит от того, как Арон отреагирует на его комплименты, Арон же никак на них не отзывается, ограничившись улыбкой, он покачивается в своем кресле, будто постаревший мальчишка, получая несколько садистическое удовольствие при виде неудобства, коему подвергает себя присевший на корточки собеседник.
Наконец Дерек встает – с таким усилием, что Арону кажется, будто он слышит скрип его коленных суставов, – и повторяет: «Нет, серьезно, идея гениальная».
Старик еще более глух, чем я предполагал, говорит он себе, отворачиваясь от Арона. Или он забросил свой слуховой аппарат, чтобы всласть окунуться в тишину. Что ж, могу себе представить, он это заслужил, имеет право. Хотел бы я подарить своему отцу перед смертью несколько лет тишины. Один французский писатель – как его? Кено? или Киньяр? – сказал, что уши лишены век. Метко: глаза, если захочешь, можно и закрыть, а с ушами ничего не поделаешь. Уши нас делают уязвимыми, отдают во власть других, на милость их бесцеремонности и дурного вкуса. Бедняга Сидни. Если бы ты мог слышать что-то еще, кроме жужжания швейных машин с утра до вечера и Вайолет – с вечера до утра, что бы ты слушал? Музыку? Гм, это еще вопрос… Во всяком случае, не эту музыку. Джаза ты никогда не любил, находил его вульгарным. Смотри-ка, а у Шона его коллекция дисков – один сплошной джаз, их тут, похоже, добрая тысяча. Ирландцев ты тоже не очень жаловал, ведь так? Ты о них говорил, мол, шнорерс. «Ежели им охота день-деньской болтаться по пабам да песни орать, это их дело. А мне вкалывать надо». Впрочем, ты был прав, Шон и впрямь шнорер с головы до пят. Какое счастье, что он храпит по ночам, если б не это, у Рэйчел, может, и не хватило бы духу его бросить, а у меня бы не было второй жены. Она говорила, что готова была умереть за него, но только не слушать его храп в три часа ночи. Ужасная несправедливость, жаловалась она, полночи ссорились, потом он принимался храпеть, а она до утра не могла сомкнуть глаз. Продрав глаза, Шон был готов к примирению, а Рэйчел, измочаленная, разбитая, подумывала о самоубийстве.
– А тебе, Дерек? Тебе налить? – спрашивает Кэти.
С широкой ухмылкой он протягивает ей свой стакан.
– Как поживаешь, Кэти? У меня такое чувство, будто мы целый век не виделись… – И тотчас пугается: только бы не оказалось, что в последний раз они встречались на похоронах Дэвида. А и впрямь, когда это случилось? – спрашивает он себя. Уже давно, года два-три назад. (Дни над кампусом текут быстро, особенно с тех пор, как уехали дочки, их переход из класса в класс больше не задает ритм отсчета времени. Все годы на одно лицо, раз за разом то же календарное коловращение экзаменов и каникул, тупое, неумолимое, и сам двигаешься по кругу, будто хомяк в клетке; юные студенты накатывают, бушуя, волна за волной, они, что ни год, кажутся все белобрысее, все пресней, да, похоже, и бездумней, главное, все меньше расположены напрягаться, то есть понимать тексты. «В наши дни Спинозе пришлось бы отстаивать свое право на еврейство», – вот как они теперь говорят.)
– Да нет, – отзывается Кэти, – не так уж и давно. Помнишь, мы в прошлом году столкнулись на празднестве по случаю Четвертого июля?
– А, да, конечно, – бормочет Дерек.
– Ты даже со мной танцевал! – смеется Кэти.
Ну да, теперь вспомнил, но сколько бы он ни скалил зубы в улыбке, ни мотал головой, ему не совладать с приступом острой жалости к Коротковым. ( Самая ужасная, худшая из всех возможных бед– опять она всплывает в сознании, эта фраза, Дэвид Коротков учился вместе с его дочерью Анжелой, в том же лицее, даже играл на скрипке для какого-то их танцевального выступления… а потом… потом он умер.Дерек узнал об этом одним из первых, Тереза, приходящая домашняя работница, рассказала ему на следующий день после того, как Лео и Кэти обнаружили тело – «Дэвид Коротков умер», – его сразили эти слова, весть была как удар кулаком в живот, все в нем возмутилось, он был ошеломлен, сбит с ног, потрясен, тогда-то и сказал себе: это,потеря ребенка, – самое худшее, что может случиться с человеком, с каждым… И тотчас же безрассудно экстраполировал это на своих собственных детей: что, если его девочки ширяются, вдруг Марина в это самое мгновение впрыскивает себе в вену героин… «Дэвид Коротков умер»… но по мере того как он повторял эту фразу, распространяя новость среди своих приятелей, Дерек, поражаясь, замечал, что его волнение мало-помалу утихает, будто сам факт пересказывания лишал эту историю реальности; он продолжал твердить о «самой ужасной, худшей из всех мыслимых бед», но ощущение истинностиэтой мысли таяло, через несколько часов страшное известие уже не трогало его. Он смотрел, как на лицах собеседников проступал ужас, как под воздействием внезапного шока менялись их черты, и завидовал силе их чувств, стыдясь проворства, с каким его душа улизнула от правды случившегося, спряталась за словами; разве так можно? Вот и сейчас, в этот вечер, он не находит в себе даже следа прежней боли, ничего, кроме жалости.)
Кэти между тем отошла к своему супругу, склонилась над ним, мужчиной ее жизни, запечатлела поцелуй на седоватых завитках, сквозь которые просвечивает его розовый затылок:
– А тебе, мой ангел? Хочешь стаканчик пунша? Ах нет, у вас тут виски, лучше не смешивать.
Леонид поднимает руку и, не оглядываясь, уверенно нащупывает голову жены, его пальцы сперва охватывают ее подбородок, потом дотягиваются до лба, он запускает их в ее седые волосы, гладит, будто хочет сказать: все в порядке, я здесь.
– Да, я уже и так довольно хорош, – это он говорит вслух. – Тут у меня все, что нужно: музыка, Шива, искрящееся остроумие Шона…
– Не искрящееся, а блестящее, – поправляет Кэти.
– А по-моему, оно именно искрится, как шампанское, – настаивает Леонид, всегда готовый дать отпор любому там, где речь заходит о его владении английским. – А кстати, который час? Я умираю с голоду. Все уже в сборе?
Его густой, красивый бас, разносясь по квартире, достигает кухни и, следовательно, слуха Патриции, которая протестующе восклицает:
– Нет-нет, еще не все! Ничего не готово! Даже стол не накрыт!
Глава V. Чарльз
Чарльзу суждено уйти последним. У него впереди четыре десятка долгих лет. Деньги, известность und so weiter [14]14
И так далее (нем.).
[Закрыть] . Но его трое детей будут отходить от него все дальше и дальше, навещать отца только вынужденно, по возможности реже, при этих встречах всем будет не по себе, ведь у них уже не останется ни общего языка, ни общих понятий. Женится он еще дважды, но ребенка у него больше не будет. Живого ребенка, который делил бы с Чарльзом его кров, смеялся, плакал, играл, носился по лестницам, просыпался среди ночи с глазами, затуманенными жаром, уже не будет никогда… Быть может, для того, чтобы компенсировать эту обделенностъ, он опубликует несколько книг, великолепных книг об отношениях белых и черных, о возможности между ними любви, влечения и страсти, а не только сплошного насилия и господства, причем даже в минувшие века, даже под гнетом рабства. И станет доказывать, что кожа цвета кофе с молоком (как у его детей) порой может быть не залогом самоубийственной раздвоенности и ненависти к самому себе, а знаком наследственной одаренности двойным запасом любви.
В общем, несчастный человек.
Он ровным счетом ничего не успеет почувствовать. Всего за несколько секунд его третья жена станет вдовой, а наброски стихов, раскиданные по письменному столу, – посмертным сборником.
Большой шикарный дом в самом богатом квартале Нового Орлеана. (Да, вся штука в том, что факультет Тьюлейна в конце концов предложил ему весьма прибыльную работу.) Ах! Что ни говори, а он каждый день отнюдь не без приятности усаживался за письменный стол, готовился к лекциям, просматривал поэтические сборники и труды по истории, делал заметки, в раздумье глядя на маленькую хижинку, приют рабов, что виднелась в дальнем конце лужайки и не содержала более ничего, кроме садовой утвари… Смотрите, как все это славно: легкий ветерок, задувая в открытое окно, играет шторой, перебирает страницы книг на письменном столе… Изысканно-пышная зелень за окном еще трепещет и роняет капли после недавнего ливня… На веранде пара поношенных домашних туфель ждет, что Чарльз, вернувшись дамой, сунет в них ноги. Все осталось, как было, кроме одного: на сей раз он не вернется. Он лежит вниз лицом на раскаленном шоссе. Его очки отлетели на несколько метров от места столкновения, а мотоциклист, сбив прохожего, умчался, как вихрь. Ах, друг мой… что бы стоило не сходить с тротуара! Но его мозг даже не успел зарегистрировать происшедшее: вследствие внезапного выделения большого количества глютамата из памяти Чарльза бесследно испарились предыдущие десять минут, в течение которых он рассеянно уложил свой портфель и, завернув мимоходом в туалет, направился на улицу. Окажись там свидетели, они могли бы услышать, с каким треском раскололся его череп. Несколько туманных поэтических идей еще плавали там в ожидании, когда он займется ими вплотную и облечет в стихотворные строфы. Все это выплеснулось на горячий асфальт: образы его рожка для обуви, маминого пестрого фартука, желе из диких яблок, которое готовила бабушка, красная, в фантастических трещинах и складках, земля каньона Челли – образы, брошенные на произвол судьбы, испарились, растаяли в воздухе.
Глава VI. Опоздавшие
– Мы ждем еще Хэла и Хлою, – тотчас подхватил Шон.
– Хлоя? Кто это? – спросила Кэти. – О нет… Только не говори мне, что Хэл опять связался с нимфеткой!
– Я накрою на стол, – предложил Чарльз, ведь за десять лет их супружества Мирна приобщила его к радостям повседневной жизни: к хождению за покупками, стряпне… а главное, к заботам о маленьких детях, и все затем, чтобы отнять их у него, стоило ему один раз оступиться. – Скажите только, где тарелки. Мне будет приятно накрыть на стол. – Это напомнит ему прежние времена, ушедшую пору, когда у него еще была семья, которую он кормил, и любимая жена, и все то, что, как теперь стало понятно, он принимал бесконечно ближе к сердцу, чем свою должность, и цифры выручки от продажи своих книг, и свое имя в «Нью-Йорк таймс». К разговору он не прислушивался, поскольку не был знаком с Хэлом Хезерингтоном, так что любовные грешки последнего не могли его интересовать.
– То-то и оно, – хихикнул Шон, – то-то и оно, причем на сей раз он женился и наградил ее младенцем.
– Не может быть! – закричала Патриция. – Так это и есть тот малыш, о котором ты только что говорил? Ребенок Хэла Хезерингтона?Нет, я тебе не верю.
– Меня возмущает это выражение: «наградил ее младенцем», – сказала Бет. – Как будто младенец принадлежал ему и он передал эту собственность ей. Сначала поносил в себе, потом великодушно соблаговолил осчастливить жену…
– Сегодня – никаких споров, прелесть моя, – прервал Шон.
– Я не твоя прелесть. – Бет порозовела от гнева. – Я тебе запрещаю называть меня так!
– Вы там, оба-два, вы перестанете цапаться, наконец? – возмутилась Патриция. – Мы в самой сердцевине животрепещущей сплетни, и я горю желанием узнать больше. Ну, право же, Шон. Рассказывай!
– Он слишком стар, чтобы быть отцом, – проворчала Бет.
– Мне все это известно только в общих чертах, – сказал Шон. – Как вы помните, два года назад Хэл взял годичный отпуск и поехал в Ванкувер искать материал для нового романа. Ну вот, там-то судьба его и подстерегла, приняв, насколько я мог понять, обличье некоей обольстительной Хлои. Стало быть, он, испросив – и получив – от университета беспрецедентное продление отпуска, женился на ней и повез на Западное побережье в свадебное путешествие. Их сын появился на свет, кажется, в Санта-Барбаре.
– Ты еще не видел этой самой Хлои? – спросил Леонид.
– Э, нет. Он ее от меня прячет.
– Сколько ей лет? – полюбопытствовала Рэйчел.
– Двадцать три.
– Двадцать три года? – Бет всплеснула руками. – А Хэлу сколько, пятьдесят пять, кажется? Господи, он же ей в отцы годится!
– А я-то думал, он слишком стар, чтобы быть отцом, – съязвил Шон.
– Шел бы ты…! – еле слышно буркнула Бет.
Наступило недолгое молчание – все гости (за исключением Арона Жаботинского, который их не слышал, – он, сняв слуховой аппарат, загляделся на пламя в камине, вспоминая стихи Пушкина, которые ему читала мать, – он был малышом, она, присев у огня, качала его на коленях, напевая кошмарные пророчества так нежно, словно это была колыбельная:
О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена!
Сказал я, ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет, уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен,
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежища; а где? О горе, горе! [15]15
В оригинале стихи даны по-русски.
[Закрыть]—
значит, сказал себе Арон, она уже тогда знала, что бегства не миновать) пытались приноровиться, подготовиться к появлению юной особы. Смущенные, они спрашивали себя, как их воспримет эта Хлоя. И прекрасно знали ответ: как старичье. Даже Патриция, самая младшая в компании, в полтора раза старше новой супруги Хэла. А ведь на самом-то деле они, старики, таковыми не были, —здесь существовал своего рода молчаливый сговор. Из года в год каждый видел, как у других появляются морщины, жировые складки, круги и мешки под глазами, сутулость, двойные подбородки… но всякий раз, встречаясь, они великодушно игнорировали эти приметы, забывали, умудрялись проскальзывать мимо них или, точнее, под ними, сквозь них – к главному, к душе. И вот, оказывается, нынче вечером они осуждены поневоле выставить на суд свои тела – ничем не приукрашенные, объективно потрепанные. Черт побери, Шон. С твоей стороны не слишком красиво припасти для нас такой сюрприз.
(Но разве Шон мог не пригласить Хэла? Как один, так и другой принадлежали к числу самых заметных персон кампуса, двадцать лет они делили между собой и студентов, и литературные сборища, и роли в филологических дискуссиях, так что хрупкий, трепетный ирландский поэт-алкоголик и кипучий, дородный романист, уроженец Огайо, волей-неволей сделались большими друзьями. В глубине души каждый злился на другого, ибо за все эти годы собрату не раз случалось быть свидетелем его малодушия и пассивности, поскольку оба вместо того, чтобы жить подлинной жизнью, с открытым забралом принимая ее вызов, предпочитали прятаться, используя предоставленную факультетом шикарную синекуру, отсиживаться в своей норе. По временам тот или этот предпринимал отважную попытку заключить брачный союз, чтобы затем, потерпев прискорбное фиаско, возвратиться к своей писанине; впрочем, ни один из них не придавал особого значения творчеству другого: Шон находил романы Хэла многословными, напыщенными и безнадежно реалистическими, тогда как стихи Шона, на взгляд Хэла, являли собой нудную, чтобы не сказать болезненную невнятицу; еще того меньше впечатляли каждого из них любовные победы приятеля: Шон не мог без скуки смотреть на безмозглых блондинок, в которых систематически влюблялся Хэл, а на того наводили оторопь блистательные неврастенички, возбуждавшие интерес Шона… Тем не менее эти двое, пусть и с грехом пополам, оставались закадычными друзьями.)
Кэти со взмокшим от пота лбом уселась на ковер, прислонившись спиной к колену сидевшего Леонида, а тот гладил ее по волосам правой, шершавой и загрубелой рукой. Он знал, о чем она думает: двадцать три года – возраст нашей Элис, столько же было Дэвиду, когда он умер, будь он жив, ему сейчас стукнуло бы двадцать пять, но, погибнув, он на веки вечные остался двадцатитрехлетним, такова окончательная кривая его судьбы, от нуля до двадцати трех, коротенькая кривая, стиснутая длинными синусоидами жизненных путей его родителей, вместо того чтобы оплести их и вырваться за их пределы, как ей бы полагалось. И вот теперь сюда ворвется эта незнакомка, фальшивая нота в мелодии, так заботливо оркестрованной и направляемой дирижером – Шоном, пресловутая Хлоя с ее двадцатью тремя годами; ей одной не известно о нас ничего, она единственная понятия не имеет о том, что мать Шона прошлым летом скончалась от болезни Альцгеймера, что два года назад наркотики самым кошмарным образом отняли у нас сына, что дядья и тетки Рэйчел отравлены газом в Биркенау, что Джордан, приемный сын Брайана и Бет, сидит в тюрьме за кражу, что у Чарльза в разгаре бракоразводный процесс… А присутствие здесь юного, невинного созданья, полного надежд, неизбежно приведет к тому, что весь вечер придется поддерживать разговор на самом банальном уровне: погода, политика, да еще, на сладкое из области культуры, – парочка туманных замечаний по поводу фильмов. Ты совершил ошибку, Шон, думает Кэти, пригласив на вечеринку эту Хлою, или, вернее, ты ошибся, Хэл, что женился на ней и вздумал ввести ее в наш круг. Стоит ей войти в эту комнату, как женщины скукожатся и превратятся в стерв, а мужчины станут по-идиотски петушиться, наперебой стараясь ей понравиться… О Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы она не пришла, к примеру, пусть их ребенок захворает и они будут вынуждены остаться дома – нет, никогда не следует желать болезни детям, тогда пошли им какую-нибудь неотложную заботу, скажем, умирает отец Хлои, им приходится мчаться на самолет до Ванкувера – нет, нельзя желать смерти родителям, ладно. Боже, ты ведь знаешь, что я хочу сказать, сделай как-нибудь так, чтобы эта куколка не пришла.
– Уже почти семь, – говорит Рэйчел, не взглянув на часы. – Может быть, все-таки пора садиться за стол?
– Да, иначе индейка рискует пережариться, – отзывается Патриция. – И белое мясо, иокорочка потерпят ущерб. (Она смеется одна, потому что никто, кроме нее, не в курсе дилеммы, оговоренной в Кулинарной книге.)
В это самое мгновение пучки света от фар обметают окна, и клаксон звучно выкрикивает свое: «Та, та-та ТА-ТА – ТА-ТА».
– А вот и Хэл! – говорит Кэти.
– Это, должно быть, они, – бормочет Чарльз, обращаясь скорее к самому себе. Он старается закрыться, оградить себя от мучительного волнения при одной мысли, что весь вечер придется видеть перед собой ребенка, в то время как его собственные дети так далеко, что отныне они будут расти и меняться без него, «подлеца этакого», а ведь он клялся, что никогда не уподобится своему собственному родителю, вечно отсутствующему, в отъезде, занятому, работающему во имя Дела, составляющему речи для Кинга, «не уезжай, папа, пожалуйста, поиграй со мной, ну пожалуйста, папа»… каждый час, проведенный с Ральфом и Рэндалом, был драгоценен, незаменим, он постоянно ощущал это, и робкие вопросы в час, когда пора ложиться спать, «папа, а ты боялся темноты, когда был маленьким?»… и смешки поутру за завтраком… Тони, сующая соску своему плюшевому дельфину… проблемы, возникающие внезапно, кажущиеся им неразрешимыми, но уже назавтра тающие, словно по волшебству… Настает день, когда ты даешь маху, когда все вдет прахом; и того дня уже не воротишь.
Шон встал, и мир накренился вправо, чтобы стабилизировать его, пришлось ухватиться за спинку Леонидова кресла, потом он покосился на бутылку виски, опустевшую на три пятых, недурно, я ее откупорил в два часа пополудни и пня не один, что-то я плоховато вижу, зрение определенно ухудшилось… «Фу! – прикрикнул он. – Замолчи, Пачуль! Разве так надобно встречать нашу новую подружку Хлою? Ты ее напугаешь до полусмерти, если будешь так лаять!»
Все смеются, довольные, что тягостное молчание нарушено: худо ли, хорошо ли, а вечеринка должна идти своим чередом.
Проходя через кухню (не спотыкаясь, не пошатываясь, стульев не опрокидывая, нет, еще не время, скорее, напротив, гордясь тем, что шествует по достаточно прямой линии), Шон замечает на буфете нож для резки овощей, это Патриция положила его туда, предварительно помыв. Поблескивает. Скальпель. «Понадобится сделать надрез на груди сбоку», – сказал ему врач. Да, на его теле произведут длинный дугообразный разрез, рассекут межреберные мышцы и раздвинут ребра, чтобы добраться до плевры, затем расчленят и удалят часть левого легкого. Или, может быть, все легкое целиком. «Там видно будет. Нам предстоит еще произвести некоторые исследования. Но первое, что необходимо сделать, мистер Фаррелл, это бросить курить. Покончить с курением, хотя бы это вы можете сделать для собственного блага? Бросьте курить». Проходя мимо буфета, Шон хватает нож и зажимает его ручку зубами. Так, в обличье пирата с оскаленным в дурацкой ухмылке ртом, он и выходит на веранду встречать опоздавших.
Начинается снегопад. Первые хлопья, редкие, холодные, кружатся в луче желтого света лампы у входа. И кого же видит Хлоя, подойдя с закутанным от стужи малышом на руках к дому, где ее ждет встреча с друзьями мужа на вечеринке в честь Дня Благодарения: какого-то психа, хихикающего, малость сгорбленного субъекта, который поспешает к ней с громадным ножом в зубах. Что за шутки, Хэл? Это у твоих друзей юмор такой? Она останавливается.
– Вы Шон? – тихо спрашивает она.
– М-м-м-да.
– Ага… Да-да… Понятно… А не вернуться ли нам домой?
Одна мысль об этой вечеринке и без того уже внушала ей отвращение. Ее страшила надобность быть представленной этим людям, знающим Хэла как облупленного со всеми слабостями, ведь у них перед глазами прошли одна за другой его прежние подружки. Думала, что придется лицом к лицу встретить их снисходительную иронию, завуалированную вежливостью: «Итак, вот пассия номер 21…» но это… нет, такого она неожидала. Ока уже готова повернуться и твердым шагом двинуться обратно к машине, но тут раскатисто захохотал Хэл. Облапил Шона, придушил не в пример более хрупкого хозяина дома в своих объятиях и, давясь от хохота, прогудел: «Э, парень, брось эти фокусы, спятил ты, что ли? Хотя нет, вряд ли, но ты, видать, налакался еще до ужина? Ну же, Шон, соберись, я ведь хочу, чтобы Хлоя тебя полюбила, для меня это важно…» Он тараторит басом, с новым взрывом смеха оглядывается на жену и размашистым жестом подбадривает взойти на крыльцо веранды: «Входим, ну же, Хлоя, не дрейфь, это шутка, давай же, входи!» – и Хлоя неуверенно, опустив глаза, наконец поднимается по ступеням с ребенком на руках – его жена, его сын!О, неизреченная красота этих двоих! Представляя их, Хэл преисполняется ни с чем не сравнимой гордостью:
– Шон, это Хлоя! А вот наше чадо, Хэл Младший!
– Примите мои глубочайшие извинения. – Разом оставив пиратские ухватки, Шон с учтивостью принца берет обеими ладонями правую руку Хлои, склоняется, чтобы запечатлеть на ней галантный поцелуи. – Сам не знаю, что на меня нашло.
– Что это? Вы порезались ножом? – спрашивает Хлоя, в замешательстве глядя на перевязанный палец Шона.
– Ах, это? Нет, нет, – смущенно бормочет Шон, злясь на себя за недавнюю выходку: тут была необъяснимая связь с раком, но, кроме того, и другая, еще более туманная, с Филом Грином, его первым отчимом, когда он женился на Мэйзи, Шону было всего одиннадцать лет. Фил потрудился изгадить все праздники, которые они провели вместе (День Благодарения, Рождество, дни рождения): то он принимался поносить Мэйзи самыми площадными словами, то как следует врезал Шону по морде, а однажды дошел и до того, что вытащил из кармана револьвер и возвестил о своем намерении размозжить башку всем присутствующим, включая себя самого. Где ты теперь, Фил Грин? – думает Шон, касаясь губами нежной душистой кожи на правой Хлоиной ручке. Надеюсь, что ты гниешь в какой-нибудь тюряге, лучше всего в техасской, в камере смертников.
– Входите, прошу вас, – произносит он, глядя на Хлою так пристально, что ей не остается иного выбора, кроме как поднять на него глаза и уступить. – Всем гостям не терпится познакомиться с вами – отчасти потому, что вы жена Хэла, но также и потому, что они умирают от голода.
Хэлу кажется, что это мгновение он уже когда-то пережил. И не с другой женщиной, именно с Хлоей. Да, он вспоминает это, все в точности: они сбрасывают пальто и шарфы в коридоре Шона, и у него перехватывает горло при взгляде на красоту Хлои, такую нежную, в темно-алом платье до колен, плотно облегающем стан и открывающем шею, будто из кроваво-красного цветка ее тела выглядывает белый изящный пестик, увенчанный золотистой короной светлых коротких волос; и ее глаза, полные растерянности, неотрывно глядят на него, потом взгляд скользит вниз, к мягким складкам одеяльца, укрывающего дитя у нее на руках, да-да, все это с ним уже было, странное ощущение с каждой секундой усиливается, почти до боли, пока они не входят в гостиную, потом рассеивается без следа.
От внезапно нахлынувшего тепла, запахов и голосов малыш проснулся, заворочался в объятиях матери и тихонько, удивленно пискнул. Раздвинув пеленки, Хлоя высвободила наружу его большую светлую голову. Взрослые подступили ближе, образовали кольцо вокруг Хэла и Хлои, отталкивая друг друга локтями, чтобы получше рассмотреть крошку. Хэл Младший огляделся и, не обнаружив ничего знакомого, застыл, его глаза с длинными ресницами изумленно выпучились. Он повернулся к матери – Северному полюсу, потом, ободрившись, снова повернулся и стал созерцать остальной мир. Рот его приоткрылся с выражением такого бесконечного недоумения, что взрослые покатились со смеху. Напуганный этим грубым шумом, ребенок судорожно уцепился за мать, уткнувшись лицом ей в грудь, чем вызвал новый шквал хохота, заставивший его разреветься.
Он похож на человека так же, как на человека похож шимпанзе, сказал себе Шон. И поспешил проводить маленькое семейство на второй этаж, в комнату, где Тереза еще с утра приготовила крошечную постельку на уровне пола.
Это забывается, думает Патриция. Даже если тебе кажется, будто ты помнишь, все равно забывается, что это на самом деле такое – держать на коленях дитя, сжимать в объятиях, кормить, лелеять своего малыша. Ощущение, которое ни с чем не сравнить. (Самой-то ей не сладко приходилось на руках рассеянной, измученной матери. Она была младшей, последыш, постскриптум, и мать, имевшая уже восьмерых, изнуренная, не говоря о том, что она еще и в кормилицы нанялась, лишь бы свести концы с концами, никогда не находила для нее времени – ни времени, ни места, ни терпения, в доме царил полнейший кавардак… К счастью, у нее была пота [16]16
Бабушка (ит.).
[Закрыть], любившая ее – и Патриция об этом знала – больше всех… Это у бабушки она научилась готовить искусно, щедро и… «А еще? Ну-ка скажи, какая добавка в этом рецепте самая важная?» – «Соль?» – «Нет! Любовь! L’amore…»,рубить лук, перец и чеснок очень мелко, взяв mezzaluna [17]17
Кривой нож, сечка (ит.).
[Закрыть], понимать истинный смысл Иисусовой притчи: «Когда есть любовь, еды всегда вдоволь, это любовь умножает хлебы и рыбы, capito?» [18]18
Понятно? (ит.).
[Закрыть], отличать дрозда от воробья: « Venite, venite bellissimi, mangiate!» [19]19
Сюда, сюда, мои раскрасавицы, ешьте! (ит.).
[Закрыть] и гибискус от бегонии: «Ма si [20]20
Ну, да (ит.).
[Закрыть]ты и с цветами можешь говорить, всеблагой Господь создал их такими же прекрасными, как ты!» Это ее nonna, рожденная в Агриженте, на Сицилии, научила ее, крошку, грезить о стране предков, о городке с мощеной церковной piazza [21]21
Площадь (ит.).
[Закрыть], о старинных крепостях, где хорошо играть в прятки, о представлениях марионеток, о палящем зное, оливах и цикадах тех мест; и та же nonnaприохотила ее к опере, это благодаря ей она всякий раз, занимаясь хозяйством, ставила пластинку Пуччини или Верди, во все горло подпевала Каллас, не выпуская из рук пылесоса. Для сыновей она тоже постоянно пела старые сицилийские песни, само собой, она на них покрикивала, но главное, она им пела, таким образом, мальчикам досталась mamma, во всех ее ипостасях: от доброй феи до злой колдуньи, что ж, тем хуже, a cosi [22]22
И таким образом (ит.).
[Закрыть], ах, но как же ты меня избаловала, моя бесценная nonna!)
Вот и Кэти тоже с тоской и завистью смотрит на дитя в материнских объятиях. Какое непревзойденное эротическое наслаждение дрожать! Все четыре раза оно повторялось, это ощущение собственной силы в мгновение, когда извергаешь из себя ребенка, невероятная радость – вот! – новое человеческое существо, выходящее из меня! – достаточно сильна, чтобы совершить такое! —а в последующие дни на тебя нисходит необычайный мир и покой, ведь такое огромное дело сделано, и потом, еще несколько дней спустя, когда выйдешь из больницы, какое потрясение – смотреть на улицы Манхэттена, где теснятся людские толпы, и думать: Господи, возможно ли, что и вправду, каждый из этих живых когда-то… РОДИЛСЯ!!!?
Моя Тони, думает Чарльз, куда миниатюрнее, чем это подобие лысого, белесого карлика. О шелковистая нежность ее светло-коричневой кожи и темно-каштановых кудрей! (Конечно, «Black is beautiful [23]23
Черное красиво (англ.).
[Закрыть], – сказала ему однажды Мирна, их сыну Ральфу тогда едва годик исполнился, – но кофе с молоком вне сравнений!» – «Черным по белому», – проворковал Чарльз, накрывая ее своим телом, входя в нее, трудясь над нею с любовью и вдохновением. «Черным по белому», – шептал он ей, его жаркое дыхание касалось лица жены, и она смеялась, лизала ему шею, ее ноги скрещивались у него за спиной, ведь тогда это уже были не просто слова, а название его книги.)
В этом возрасте они еще симпатичны, говорит себе Леонид, а потом начинают пить скипидар, жевать твои кисти, а однажды в подражание тебе, изгваздают голубой гуашью диван в гостиной. Ах, все же я рад, что этот этап остался позади. (Нынче утром он позвонил Сельме, своей дочери от первого брака, и гомон детворы на заднем плане внезапно воскресил в памяти пору, когда он, молодой отец, боролся за то, чтобы обеспечить себе как живописцу признание в Южном Манхэттене. Слишком бедный, чтобы снимать мастерскую, он приглашал к себе домой более преуспевших художников, показывал им свои ра боты в туманной надежде через их посредничество выйти на контакт с галереей. Он варил им кофе в уголке гостиной, что служила ему мастерской, но не мог уследить за их разглагольствованиями о современном искусстве, поглощенный опасениями, как бы Сельма и Мелисса не опрокинули их чашки, не разбили себе голову о край стола или не полезли своими пыльными ручонками в сахарницу. «Те, кто презирает материальную жизнь, обречены погрузиться в нее с головой», – нравоучительно изрекала его тогдашняя супруга Биргит, то ли цитировала кого-то, то ли своим умом дошла? – и мало-помалу ему пришлось признать как очевидное, что он не подлинныйхудожник, для такой самореализации ему не хватает ни жестокости, ни упорства, ни эгоизма; потребности семьи в его глазах всегда выглядели более важными или, как бы то ни было, более законными, чем его собственные. Вот и Сельме сегодня утром в продолжение их пятиминутного разговора пришлось как минимум раз семь бросать трубку, чтобы вникнуть в микроскопические, сугубо неотложные проблемы: «Он меня дернул за волосы!» «Осторожно!» «Не делай так!» «Она написала на пол!» «Эй! Не трогай этого!» Грохот, рев. «Сколько раз тебе повторять?» «Ты не можешь хоть три секундыпосидеть спокойно?»)








