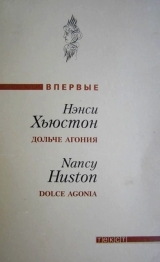
Текст книги "Дольче агония"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Глава XXIII. Леонид и Кэти
Смерть четы Коротковых будет не столь гармонична и опрятна, как та, что выпадет на долю Бет, но, по крайней мере, они уйдут вместе. Право же, для такой любящей пары, как эти двое, то, что я им припас, – конфетка, а не смерть. Ведь каждому из них тяжко было бы остаться на земле без другого. Стало быть, вот он, лучший исход: авиакатастрофа. Через шесть быстротечных лет.
По правде говоря, их затея слетать в Киев выглядела сущим безумием; деньги на билеты им пришлось занимать, однако повод у этого вояжа, как они считали, имелся достаточно веский, чтобы оправдать такие расходы: Светлана, юная племянница Леонида, собралась замуж! Ясно без слов, что Вадим, ее счастливый избранник, был тоже из «засвеченных», как там называют жертв облучения.
Когда случилась катастрофа, Светлана была совсем маленькой. Григорий, ее отец, работал в Чернобыле, там же семья и жила, совсем близко. Таким образом, когда загорелся четвертый реактор, он позвал свою жену Юлию, подхватил на руки Светлану, они все втроем вышли на балкон и стали смотреть. Зрелище-то и впрямь грандиозное! Это было ослепительнее, чем Четвертое июля на Манхэттене, завораживало сильнее, чем северное сияние за Полярным кругом. Фантастическое мерцание, раскаленный, слепящий малиновый свет. Чтобы поглядеть на это, люди сбегались со всей округи в радиусе нескольких километров, спешили туда на автомобилях, на велосипедах и пешком. Столпившись на балконах, они вовсю работали локтями, чтобы протолкнуться вперед, рассмотреть получше, и не уходили оттуда часами, застывали, широко раскрыв глаза и рты, глотая черную пыль и не обращая на это внимания. «Смотри! – шепнул Григорий на ухо дочурке. – Хорошенько смотри! Когда-нибудь ты будешь это вспоминать».
О, в тот день я развернулся на славу. Так дохнул, что всем и каждому просквозило шею, учинил знатный разгром в их хромосомах. За один вечер я устранил несколько миллионов потенциальных жителей Белоруссии и Украины. Назавтра Григория призвали на работы по рытью туннеля под реактором. Очень симпатичный малый этот Григорий. Я был доволен, что он и не подумал уклониться. Да уж, ликвидаторами я занялся, не откладывая это дело в долгий ящик. Что до прочих, им я дал возможность поползать по земле еще немного, исключительно ради новизны положения, желая посмотреть, что вытворит сотворенная мною радиоактивность с людской природой – тоже моим творением. Обожаю эксперименты подобного рода.
Светлана вскорости совсем облысела, ее пришлось положить в больницу; остаток своего детства она проводила попеременно то дома, то в клинике, но больше в клинике… Но, дожив до двадцати, решила выйти за Вадима и завести с ним детей, несмотря на всю рискованность этой затеи…
Так, стало быть, Кэти и Леонид Коротковы оказались на борту DC-10, в воздухе между Прагой и Киевом. В тот самый момент, когда старый тряский самолет приближается к Восточным Карпатам (он летает еще со времен чехословацкой «бархатной» революции, той давней поры, когда «Чехословакия» еще существовала), в его электросети происходит короткое замыкание, кабину пилота охватывает огонь, дым начинает медленно просачиваться в салон, самолет уже швыряет. А денек великолепный, солнечный, видимость превосходная, и значит, пассажиры получают возможность в полной мере осознать, что самолету не набрать достаточной высоты, чтобы перелететь через эту гряду Восточных Карпат. Внизу – сплошной сосновый лес: ничего похожего на посадочную площадку, годную для экстренного приземления. Сознание в таких случаях мечется в поисках спасительного выхода. Но спасения нет, это конец игры, как выразился бы Сэмюэль Беккет. М-м-м, да уж, отныне все эти человеческие особи у меня здесь, в ладони. Большинство из них, повскакав со своих мест, принимаются орать на несчастных, остолбеневших от ужаса стюардесс. Все в конце концов валятся на колени, просто потому, что слабеет мускулатура их ног, но едва дело доходит до коленопреклонения, как они, повинуясь рефлексу, тут же начинают молиться, извергая мне в уши бессвязный лепет, выпрашивая у меня чудо, которое вызволило бы их из этой скверной ситуации. Э, нет! Весьма сожалею! Этот самолет разобьется, друзья мои. Врежется в отвесный склон горы, к которой он неуклонно приближается. Если бы волосы Кэти уже не были седыми, сейчас им было бы отчего мгновенно побелеть. Но Коротковы не принимают никакого участия в окружающей суматохе. Они расстегнули свои пояса безопасности, повернулись друг к другу и крепко обнялись. Закрыв глаза, они переговариваются тихими голосами. Их слова предсказуемы и однообразны, но в них, по крайности, нет ничего истерического. «Я люблю тебя, Катя», – произносит Леонид. Он вспоминает, как ей нравилось заниматься любовью, когда она была беременна, она это просто обожала. Думает о каждой из ее четырех беременностей, Марти – Элис – Дэвид – Сильвия, в ту пору лишь крошечных безымянных головастиках, что плавали в заповедных глубинах ее тела, он прижимает к груди свою жену, припоминая все многочисленные позы, которые они тогда изобретали, сплетаясь в объятиях, ведь нельзя же было всей тяжестью наваливаться на это чрево, хранящее в себе жизнь… а Кэти, какую позицию ни выбери, обмирала от наслаждения, снова и снова радуясь плодоносности их любви. А сейчас она, прижимаясь к нему, вспоминает разные истории, которые муж так любил рассказывать в компании, она за без малого четыре десятилетия совместной жизни прослушала их все несчетное число раз, знает их наизусть, но ей никогда не надоедало слушать его. «Я люблю тебя, Лео, люблю тебя», – она твердит это сперва тихонько, потом все громче, громче, потому что шум и жара вокруг резко нарастают, стекла иллюминаторов там и сям начинают лопаться, самолет стонет, он больше не в силах удерживать в воздухе свой груз… Так на полпути между городами Тыргу-Муреш и Пьатро-Нямц эта парочка, уже, понятное дело, не слишком резвая, но умиляющая своей взаимной привязанностью, в клубах дыма отлетела ко мне, слившись в поцелуе; их мозг от недостатка кислорода отключился прежде, чем жар растопил их тела.
Глава XXIV. Воспоминания
– Что не забудется, как вы полагаете? – вопрошает Шон.
– Разве нам дано выбирать? – Дерек пожимает плечами.
– Я хочу сказать: считаете ли вы, что запоминается самое важное или мозг производит селекцию более или менее… гм… произвольную?
– Как я всегда говорю своим студентам, если хочешь писать, надобно смириться с погрешностями памяти, – изрекает Хэл.
– А я забываю своих студентов! – говорит Рэйчел. Порядком захмелевшая, она скидывает туфли и соскальзывает с кресла на ковер, усаживается между Шоном и Дереком – двумя мужчинами, которых любит. – Я забываю все, что касается их. Не только имена, лица, но и наши встречи, беседы, решительно все.Встретившись со мной несколько месяцев спустя, они ко мне разлетаются: «Послушайте, у меня возникла грандиозная идея для книги относительно Штукена Дурка на основе вашей лекции по поводу Штукена Дырка!» – а я даже не знаю, о чем они толкуют!
Чарльз смеется от всей души. Только что мысленно раздавив Рэйчел в лепешку, он теперь не испытывает к ней ничего, кроме самой искренней доброжелательности.
– Я, – признается он, – забывал дни рождения собственных детей. Прежде, когда мы еще жили вместе. Теперь-то я только о них и думаю. (До чего же ему хочется поиграть со своими мальчиками в бейсбол. Он судорожно сцепляет ладони, они так и чешутся от желания снова взять биту, ощутить удар по мячу – бац! – да, он и не глядя чувствует, что не промахнулся, все идет хорошо, просто отлично… И эта радость быстрого, долгого бега, когда он был мальчишкой, стремительная легкость его ног, взмахи локтей, такие резкие, что клапаны куртки подпрыгивали на боках, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, а дыхание оставалось ровным, неутомимым…)
– Я спрашивал не о том, что забудется, – настаивает Шон, – а о том, что, по-вашему, можно – или должно – не забыть никогда.
– Мне, – говорит Хэл, – запомнился один летний вечер в городе Бате. В Англии, – поясняет он, обращаясь к Хлое. – Тому уж, верно, лет тридцать, но это воспоминание, поди знай почему, неизгладимо отпечаталось в моей памяти. Ласточки кружили в темнеющем небе… За аббатством одинокий скрипач наигрывал ирландские мелодии, но звучали они замедленно, спотыкаясь, словно опьяненные печалью. Я так и вижу нежно-сиреневый небосвод, белые каменные стены аббатства, все явственнее принимавшие оттенок охры по мере наступления сумерек, и… несказанный покой, исходящий от всего этого.
– Вы поведали об этом в одном из ваших романов, – напоминает Брайан. – Разве нет? Там, где дело происходит в римских банях, встречаются двое пакистанских юношей… Как же это называлось?
– «Банный день», – ворчит Хэл, отчасти сконфуженный, отчасти польщенный.
– Точно! – восклицает Брайан. – Вы, наверное, потому и запомнили все так отчетливо, что написали об этом.
Присев на канапе, Патриция поджимает под себя ноги в нейлоновых чулках, открыв глазу еще несколько сантиметров прелестного бедра.
– Мне запомнилось, как я болела и бабушка приготовила мне горячую смесь лимонного сока с медом. Я уселась за кухонный стол и блаженствовала при мысли, что она это сделала для меня одной! Я смотрела, как она снует по кухне – дородная, легкая на ногу женщина, она готовила горячее питье для своей внучки, которая заболела ангиной, и было яснее ясного: ни за что на свете она бы не пожелала оказаться где-то в другом месте, заниматься чем-либо иным…
– Да, – сказал Дерек. – Мгновения– вот что нам остается. Я помню тот день, когда мне открылось понятие момента. Это был день моего рождения, мне исполнилось, должно быть, лет четырнадцать или пятнадцать, и родители повезли меня на ярмарку в Стейтен-Айленд. Была суббота, но отцу по известной ему одному причине после обеда пришлось отправиться к себе на завод что-то там проверять. Мы с матерью провожали его на паром и долго стояли на пирсе, махали ему. В толпе, окружавшей нас, все кому-нибудь из отплывающих махали, и я вдруг почувствовал: мы переживаем некое мгновение.Стоим здесь с поднятыми руками, мотаем ими в воздухе туда-сюда, хотим сказать: «Мы тебя любим! Мы еще с тобой! Тебя еще видно!» Паром отходил от пристани, потом разворачивался, набирал скорость, но мы всё махали. На отце в тот день был красный свитер, он выделялся среди пассажиров на борту, его можно было различить издали, он тоже махал своей маленькой красной рукой, а паром удалялся, и я смотрел, как отец становился все меньше… Мгновение длилось, тянулось… и вот ему пришел конец. Руки опустились; народ стал расходиться. Люди на пирсе сначала один за другим отворачивались от уходящего парома, потом отправлялись восвояси; те, что толпились на палубе, усаживались, разворачивали, как положено, газеты… Все было кончено. Тот момент нашего бытия, когда мы восемнадцатого августа тысяча девятьсот шестьдесят девятого года провожали отца на пирсе Стейтен-Айленда, отошел в прошлое.
Наступает долгое молчание; между тем диск «Лучших медленных фокстротов» подходит к концу, и Чарльз решает, что с него довольно, не станет он больше разыгрывать диск-жокея в угоду этим белым. Пусть выбирают себе музыку сами!
– С того дня… – продолжает Дерек, но для Кэти завершающая часть его повествования тонет в нежном мареве весеннего утра 1960-го… Небольшой городишко на западе Пенсильвании, ей тринадцать лет, она стоит посреди кладбища, рядом отец, он твердой рукой сжимает ей локоть, в самом буквальном смысле поддерживает ее; в настоящий момент они внимают молитве пастора, но вскоре придется приблизиться к могиле, им надо подойти первыми, остальные родственники и друзья последуют за ними, они пройдут перед могилой ее матери в ритме органной музыки, которую только что слушали в церкви, каждый поочередно остановится у ее гроба, наклонится, положит цветы, Кэти чувствует, как надвигается эта минута, по интонации пастора она догадывается, что проповедь близка к завершению, и после краткой паузы момент наступает, она идет к гробу с цветами в руках, пока цветы у нее, мама умерла еще не совсем, но вот она склоняется, протягивает руку, и в это самое мгновение, когда она вдыхает запах цветов и смотрит, как радужно переливаются от слез их краски, немыслимое совершается: ее пальцы, разжавшись, выпускают букет, их движение нежно, беззвучно, но его нельзя продлить, а как только цветы уронены, надо выпрямиться, отступить на шаг, отойти прочь от могилы, да, это она и делает сейчас, между тем как отец еще крепче сжимает ей локоть, шаг, второй, третий: ее мать мертва.
– Это было, когда я заканчивала лицей, – после новой паузы раздается голос Бет. – В те времена по радио часто передавали «Когда весна цвела», и, помню, я всякий раз слушала, как загипнотизированная. Дело в том… понимаете, я ведь думала, что еще не вошлав ту пору жизни, о которой говорится в песне. Мне казалось, я стою на пороге богемной свободы, о которой мне потом еще придется затосковать, и я тщетно старалась понять, откуда эта ирония в голосе певицы… Ты уж извини меня, Шон. – И она запела: – «Когда весна цвела, А мы не знали зла, Как сладко было ждать грядущих дней, Мы верили мечтам, И звонко пелось нам, Твоя рука была в руке моей!» Я поклялась себе, что меня-moне поймать в ловушку, не дамся, я предупреждена и сумею использовать свою молодость на все сто… а потом… что ж… похоже, это «старое доброе времечко» так никогда и не наступило! Не припомню никакой поры восторгов, обольщений и танцев до упаду… А, Брайан? Ну, разве что промелькнуло… Мне и теперь случается, бродя по супермаркету, услышать мелодию той песни на синтезаторе, и… знаете, меня это просто убивает.
– Да, – обронила Рэйчел.
– А мне, – заявил Брайан, теперь уже опьяневший настолько, что речь его звучит не совсем внятно, – мне вспоминается день, когда я развел костерок в гараже. Мой родитель снял ремень и отхлестал меня по голому заду, я потом целую неделю сесть не мог… Еще помню, как сдох мой хомяк: я расплакался, а папаша залепил мне пощечину и обозвал мокрой курицей…
– Ну, как всем известно, – усмехается Шон, – воспоминания негативного плана занимают в нашей памяти непропорционально большое место…
– Я помню ужас, который пережил, когда меня отправили в лагерь, – вставляет Чарльз.
Как всегда при этом слове, Рэйчел приходится, внутренне содрогнувшись, напомнить себе, что речь идет не о концентрационном лагере, нет, никто и в мыслях не имел ничего подобного; лагерь, куда попал Чарльз, был не из тех, где миллионам европейских евреев выжигали татуировки на предплечье, брили головы, нещадно избивали, морили голодом и душили газом, вешали и расстреливали; здесь, в Соединенных Штатах, лагеря предназначены исключительно для каникулярного досуга, развлечений, укрепления здоровья и занятий спортом, призванных развивать у юношества мускулатуру и чувство локтя; они с Шоном испытывали известное недоверие к мероприятиям подобного рода – Рэйчел потому, что они ей напоминали пропагандистские фильмы нацистов, где так и кишели молодые, полные сил арийские тела, рвущиеся покорять все вершины, выигрывать все эстафетные гонки, истреблять всех евреев; для Шона же все это служило лишним подтверждением его подозрения, что американцы склонны лелеять свою дикарскую суть: гордятся собой, перемалывая крепкими зубами кровавые бифштексы и сырые овощи, рыская пешком по лесам, кишащим голодными медведями и ядовитыми змеями, ночуя на голой земле наперекор полярной стуже или тучам мошкары, общаясь между собой посредством односложного рявканья… а ведь сколько уже воды утекло с тех пор, как человечество изобрело мягкие постели, автомобили, кулинарные изыски и утонченную поэзию! «Почему, – однажды спросил он Рэйчел, с озадаченным видом качая головой, – наши яппи на каникулах превращаются в пещерных людей?»
– Я хотел одного, – продолжает Чарльз, провести каникулы дома, болтаясь с приятелями где вздумается и объедаясь комиксами… Вместо этого меня под предлогом, будто мне нужны свежий воздух, физические упражнения и уж не знаю, что еще, загнали к черту на кулички коротать лето в компании совершенно незнакомых ребят.
– Со мной та же история, – вздыхает Хэл. – Эх, как же я ненавидел эти лагеря!
Летние лагеря, говорит себе Рэйчел. Не концентрационные, а просто летние.
– А я, – произносит Арон, – вспоминаю, какая грусть на меня напала, когда родилась моя первая дочь. Черри… Я вернулся из клиники, утром это было, послушал баховский «Магнификат», солнечный свет потоками врывался в дом…
– С чего ж вы тогда загрустили? – перебивает Хлоя, которая слушает разговор урывками, то и дело задремывая и связывая как придется мелькающие в полусне спутанные образы – какой-то перс или пирс, супермаркет, хомяки…
– Все было так прекрасно… и я вдруг осознал, что лучше не бывает, отныне все может только ухудшаться.
(Он еще припоминает летний день 1939 года, когда они с Николь, его в ту пору совсем еще новоиспеченной супругой, зачали Черри. Николь настояла, чтобы он отправился с ней в Бретань знакомиться с ее родителями: изнурительное свадебное путешествие, занявшее полтора месяца из-за транспортных ограничений, маниакальной бдительности пограничной охраны, обысков, допросов. В облаке счастья проплывая по миру, замершему на пороге Страшного Суда, они на пароходе, идущем из Лорьяна, причалили к дикому, скалистому острову Круа. Время перевалило за полдень; о, немыслимаякрасота мгновений нашего прибытия! Берег серой скалой врезался в море под серым небом, и чайка, стремглав снова и снова налетала на нас, оседлав ветер, то взмывая вверх, то камнем устремляясь вниз, этот ее полет, чудо бездумного инстинкта, меня аж до самых кишок пронял. Николь-то просто радовалась возвращению домой, но я… я был оглушен, этот пейзаж меня изумил, потряс… солнце, которое, пробиваясь сквозь нагромождения облаков, придавало напластованиям кристаллического сланца оттенок старого золота… а там, вдали, мириады звезд, вспыхивающих на колеблемой ветром морской глади… и такая замысловатая, упоительная для глаза и ума геометрия рыбьих скелетиков и перьев чаек, которые я собирал на пляже… Да, неутомимые, гениальные усилия жизни, жаждущей обновления, ее беспощадная формальная изобретательность, ее великолепное равнодушие к охраняемым территориям и перекраиваемым границам, шлагбаумам и колючке, к ручным пулеметам и личным досмотрам, к свободным и оккупированным зонам… Вскоре после этого обитатели Круа приступили к сооружению ужасного цементного бункера под той самой скалой, где мы стояли с Николь… но в тот день красота облекла нас и затопила: едва различимая линия горизонта, запах рыбы, крики чаек, улепетывающие через поляны зайцы, пьянящий дух вереска и жимолости, подмешанный к ароматам клевера, папоротника и дикорастущей шелковицы, и машинерия наших собственных тел, что стучала, разоргевалась и умащалась, пока мы шагали, обнявшись, на ветру, вздымавшем наши волосы и сердца, а после соскальзывали наземь, чтобы предаться любви посреди пустоши, где, насколько хватал глаз, вздувались и опадали заросли ярко-желтых ромашек.)
– Ну, а мне, – заявил Шон, – не забыть, как я провел шесть часов в аэропорту Сан-Диего, ожидая пересадки.
– Это кошмар, время убитое впустую, – с живостью подхватывает Рэйчел.
– Ох, – Шон вздыхает, – но ведь приходится его где-то убивать.
– Кэти! – восклицает Леонид. – Помнишь автостоянку аэропорта Дорваль, мы тогда отправились погостить к Элис? Место Си-пятьдесят два, я не ошибаюсь?
– Да разве это можно забыть! – отзывается Кэти. – А помнишь тот волшебный наклонный выезд над восемьдесят четвертом шоссе, ну, тот, когда едешь на Манхэттен и надо попасть на шестьсот восемьдесят четвертую автостраду?
– О несравненный наклонный выезд! – смеется Леонид. – Да-да, впервые мы его одолели в семьдесят втором году, потом в восемьдесят пятом, а начиная с девяностого приходилось иметь с ним дело не реже чем раз в год… А тот коридор, помнишь, в Центральной бостонской больнице… О-хо-хо, этот старый добрый коридор с его стенами цвета рыжей блевотины, где мы прождали больше четырех часов, это было, когда Марти защемил себе палец вафельницей?
– Ну да! – кивает Кэти. – А станция обслуживания… ты не забыл ту маленькую хорошенькую станцию Эксон на полпути между Метьюченом и Ньюарком?
– Надо же, я ее тоже знаю! – вставляет Дерек.
– Дорогой, а помнишь тот день, когда ты сел на семьдесят девятый автобус? – продолжает Кэти. – По-моему, это было в конце шестидесятых, мы жили возле остановки «Амстердам», а работал ты на Третьей авеню?
– Собственно… гм… не знаю, какойдень ты имеешь в виду. – Леонид пожимает плечами. Ведь я одиннадцать лет ежедневно пользовался одним и тем же автобусом.
– Нет ты не мог забыть! – горячится Кэти. – Это было в июне месяце, в час пик, автобус застрял в пробке, пассажиры, измученные, потные, толкались и наступали друг другу на ноги…
– Само собой, – ворчит Леонид, – припоминаю, я мог бы насчитать этак с полсотни подобных дней, так что продолжай…
– Ну, как тебе еще напомнить… Ах да, знаю! На обед я в тот вечер приготовила рыбные биточки!
– Ага, да, верно!Теперь у меня забрезжило… Ну да, ну да… Биточки с кетчупом, правильно?
– Точно! И я их подала с хлебцем «Вондер» и маргарином, вспоминаешь?
– Вспомнил! Уф… так это ж тот самый вечер, когда Элис обрезала себе ногти на больших пальцах ног, я не ошибся?
– Совершенно верно! – торжествуя, кричит Кэти.
– А зона отдыха? – спрашивает Леонид. – Эта дивная зона отдыха возле автострады два-А, ты ведь понимаешь, о чем я толкую? Мы там остановились с Марти, чтобы он пописал, ему тогда было года три.
– Не уверена, – бормочет Кэти. Она снова, в который раз, чувствует, как ее затопляет волна жара, подступая к шее, потом медленно, неумолимо поднимается, обдавая лицо… О, только бы другие подумали, что она краснеет от стыда за свою слабую память.
– Как же ты могла позабыть зону отдыха? Это в двух милях от «Бургер Кинга»… Помнишь? Чуть-чуть не доезжая магазина «Эймс»…
– Ах, этот «Эймс»! – восклицает Хэл, не желая оставаться в стороне. – Мы говорим об одном и том же «Эймсе», не правда ли? Там еще автомат с жевательной резинкой у самой кассы, верно? Когда попаду в рай, я рассчитываю приобретать себе трусы не иначе как в «Эймсе»!
– А я помню запястья Даниэлы Денарио, – севшим от вина голосом произносит Патриция. – А вы-то, вы помните, какие у нее были запястья?
– Ну конечно, – откликаются разом несколько голосов, – да-да, разумеется. С тех пор прошло уже… сколько?..
(Даниэла ей приснилась на днях, все же невероятно, как она, профессор, преподаватель классической итальянской литературы, уроженка Лукки, смогла вдруг заинтересоваться Патрицией, простой секретаршей кафедры, правда, отпрыском итальянского семейства, но американкой в третьем поколении, выросшей в бедном квартале Южного Бостона. Даниэла без устали расспрашивала Патрицию о ее житье, пригласила ее в «Стар-букс», где подавали скверную подделку под капучино, потом повела к себе домой, чтобы угостить капучино настоящим… Одним словом, она ее выбрала в подруги. Два года они виделись по нескольку раз в неделю: чирикали по-итальянски, дымили сигаретами, шили занавески, обменивались сплетнями и байками… а еще случился между ними однажды неловкий, но незабываемый, долгий, трепетный поцелуй. Даниэле, ей одной, Патриция призналась, что она подростком воровала деньги из церковной кружки для пожертвований, месяцами выуживала оттуда по нескольку медяков в неделю, и как потом, скопив внушительную сумму – пятнадцать долларов, – субботним вечером втихую ускользнула из дому, чтобы повидаться с Кончитой, своей закадычной подружкой из колледжа Небесных Врат. Девушки отправились на ближайшую дискотеку и там, взбудораженные оглушающей музыкой и ритмичным миганием стробоскопа, тряслись до зари не хуже самого Траволты. «Я так никогда и не осмелилась сознаться в этом священнику», – вздохнула Патриция. «Но это же сущие пустяки! – воскликнула Даниэла. – А уж в сравнении с моим преступлением это просто-напросто милый маленький грешок! Однажды, когда в честь дня Успения Богородицы по улицам Лукки носили статую Пресвятой Девы, я стянула несколько купюр по десять тысяч лир из тех, что были пришпилены к ее одеянию. Я притворялась, будто прикрепляю туда новые купюры, а сама вместо этого нагло обжуливала Богородицу, понимаешь?» Как это может быть, что ее больше нет? – спрашивает себя Патриция. Рак мозга. Под конец она уже не могла ориентироваться даже в собственном квартале… а потом потеряла зрение. О, Даниэла… Возможно ли, что ты умерла уже так давно? Что я помню, что мне осталось от тебя? Нежная кожа. Прихотливые, шикарные ухватки… До невозможности изысканная хрупкость запястий… Манера причесываться, стягивая волосы на затылке. И твоя любовь ко мне. Спасибо, Даниэла.)
Бедная Патриция, думает Шон. Похоже, Даниэла была для тебя одной из первых больших утрат. Она даже не подозревает, что ее еще ждет. Не знает, каково жить в окружении фантомов, смотреть, как твои родные и близкие один за другим на твоих глазах соскальзывают в бездну, а самому оставаться здесь, в бессильной оторопи… И тебе тудаже? О нет, нет).Всякий раз чувствуешь, что горе будет слишком огромным, что Земля перестанет вращаться или по меньшей мере ты сам спятишь… Но нет, все и дальше идет, как шло. От потерь опоминаешься, как от ударов ногой в живот: дыхание перехватывает, но пошевелиться не смеешь, вот и живешь дальше, занимаясь своими делами, стыдясь, что так сильна инерция, побуждающая продолжать жить, хотя ушли все те, чья любовь, как ты считал, только и удерживала тебя на этом свете…
– Я запомнила последние слова моего отца, – говорит Рэйчел. – Мне было тринадцать. Мы с матерью пришли в больницу проведать его, и он нам сказал: «Как там котельная, нормально работает?» Он пролежал четыре дня в коме, а когда очнулся, это была его первая мысль – хорошо ли работает котельная? Была середина зимы, на улице около минус пятнадцати, и в подвале только что установили новый котел. Тогда мать погладила его по волосам, вот так, и говорит: «Да, Борух. Тепло, просто чудесно». – «Ладно, – отвечает отец, – значит, все в порядке. Я хочу, чтобы вы никогда не мерзли». Тут я забеспокоилась, родители беседовали слишком ласково. Обычно-то они бранились с утра до ночи, чтобы затеять грызню, годился любой предлог, от Ясира Арафата до того, как лучше готовить яичницу-глазунью. Потом отец снова впал в кому. И когда назавтра мы снова пришли, его уже не было. Я взяла его руки в свои, они были как лед. (Поняли они или нет? – спрашивает себя Рэйчел. Я им разжевывать не стану… Он не хотел, чтобы мы мерзли, а потом сам…)
– А ты, Хлоя? – утомленный, Шон с тяжким вздохом оборачивается к ней. – Есть у тебя воспоминания, которые стоило бы хранить?
– Не бог весть что, – роняет Хлоя мечтательно. – Но я, помню, однажды переспала со своим старшим братом.
– С родным братом? – ошеломленно переспрашивает Хэл.
– О Господи! – выдохнула Бет. Ее истомленной душе в который раз представляется сцена в подвале с дядей Джимми, вспоминается одновременно и собственное желание выйти замуж за своего отца, и она ко всеобщему изумлению вдруг разражается слезами. Лицо ее мгновенно распухло, перекосилось, она икает…
С недобрым, хоть и без злого умысла, любопытством Рэйчел примечает, с какой поразительной быстротой плач обезобразил Бет: всего за несколько секунд побагровел нос, на щеках проступили пятна, в судорожно сведенных чертах изобразилась отталкивающая маска отчаяния.
Брайан в бессознательном порыве бросается ее утешать… но тут она, пытаясь встать, своим объемистым бедром задевает низенький стол, и тот опрокидывается: пошатнувшись, скользят и, разлетаясь со звонким стеклянным грохотом, рушатся на пол пепельницы, бутылки, фужеры.
– Ай-яй-яй-яй-яй! – восклицает Чарльз.
– Ах ты, черт! – не выдерживает Патриция, ее белый кружевной корсаж весь в частых брызгах шампанского. Не надевая туфель, она мчится на кухню за веником и совком.
– У меня складывается впечатление, что эта вечеринка подходит к концу, – замечает Рэйчел.
– Это неприятная случайность, – произносит Арон, не покидая кресла-качалки. – Я видел, как все произошло. Не было никакой преднамеренности, просто маленькая катастрофа.
Бет все еще плачет горючими слезами, уронив голову на плечо мужа, а Брайан тихонько баюкает ее, гладит по волосам, будто свою дочку.
– Я пошутила, – шепчет Хлоя Хэлу: он отвел ее в сторонку, под лестницу, и, заставляя смотреть ему в глаза, крепко держит за остренький подбородок, зажав его между большим пальцем и указательным.
– Так у тебя не было никакого брата? – допрашивает он.
– Ну само собой, не было. Мне просто захотелось их малость встряхнуть.
– Ладно, если ты этого добивалась, тут ты преуспела! – заключает Хэл со смешком, в котором слышится облегчение, но можно догадаться, что он еще и восхищен.
И в то время как Патриция сметает на совок окурки и осколки стекла, а Кэти, вооружась рулоном туалетной бумаги, с превеликим тщанием осушает пропитанный шампанским ковер, Шон закуривает свою последнюю на сегодня сигарету.
– Не пойти ли нам вздремнуть? – вопрошает Дерек.
– А все-таки, Шон, это был славный праздник, – говорит Патриция, снова влезая в свои лодочки. (Когда она приняла свое первое причастие, мать в кои-то веки купила ей те самые башмачки, о которых она мечтала: лакированные, из черной кожи, до того блестящие, что в них можно было смотреться, будто в зеркало; всякий раз, опуская глаза, она чувствовала прилив радости оттого, что они такие шикарные, ремешки и пряжки замечательно оттеняли белизну стопы в подъеме.) – Мы хорошо повеселились… даже если и перебрали малость.
– Давай-ка, приятель, обращается к Шону Чарльз, – ступай спать. Самое время отправиться баиньки. – И хлопает его по плечу, совершенно так же, как, бывало, трепал за плечо своего младшего брата Мартина, прежде, когда они оба были подростками и худшими бедами, что могли с ними приключиться, были плохая отметка по математике, проигрыш в бейсбольном матче или отказ родителей отпустить их в кино.
– Держите, – предлагает Рэйчел. Она выходила и теперь вернулась со стопкой одеял, подушек и спальных мешков, извлеченных ею из бельевого шкафа Шона. – Пусть каждый отхватит себе по одеялу и подыщет уголок, где можно поспать час-другой.
Но никто не спешит тотчас исполнить это, все на какое-то время застывают на прежних местах, недвижные, разобщенные, близкие лишь по видимости. Наступившее молчание продолжительнее, чем все паузы этого вечера. Их взгляды блуждают по ковру или останавливаются, зацепившись за какой-нибудь из окружающих предметов, между тем как мысли, слова, образы и воспоминания теснятся, перемешиваются в извилинах мозга… Три часа ночи, и они чувствуют, как гнетут их тяжесть съеденного, дрема, алкоголь и бремя лет…








