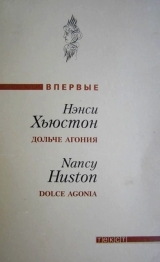
Текст книги "Дольче агония"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Нэнси Хьюстон
Издательство благодарит Канадский совет по искусству и Министерство иностранных дел и внешней торговли Канады за помощь в издании этой книги.
Впервые в России выходит новая книга Нэнси Хьюстон, признанная критиками вершиной творчества знаменитой канадской писательницы, живущей во Франции. В этом виртуозно выстроенном романе, который сравнивают по психологической насыщенности с фильмами Ингмара Бергмана, одним из рассказчиков выступает сам Господь Бог.
Дольче агония
Моим друзьям, живым и мертвым
Тебе, Ё.Т., только что одолевшему бездну
Это обычный воздух, омывающий мир.
Уолт Уитмен
Да будет, мой дружок, твоя агония сладка!
Печать неотвратимого уже доступна глазу!
Грег
«В последний раз, – промолвил Бог, —
берись, ЛЮБОВЬ, за дело».
Крылом задергал ворон, зевнул, рыгнул —
и тут
Лихая человечья Голова, совсем одна,
без тела,
Проклюнулась из недр, в кровавой пене вся,
И, выпучив глаза, пошла нести невнятицу.
Тед Хьюз
Да, я сделала Бога персонажем моего романа… Для меня Он подобен писателю, которому кажется, будто выдуманные им герои живут своей жизнью, не слушаясь его.
Нэнси Хьюстон
Глава I. Пролог на небесах
Я всегда стараюсь держаться скромно, когда встречаю создателей других миров. Восхищаюсь красотой и сложностью их творений, не хвалясь совершенством своих… Но, что до меня, не могу не признать, что мое создание превосходит все прочие, ибо лишь мне одному удалось измыслить нечто столь непредсказуемое, как человек.
Что за порода! Когда я смотрю, как человеческие существа проходят свой земной путь, это подчас так меня увлекает, что я почти готов в них уверовать. Меня одолевает невероятный соблазн предположить у них свободу воли, независимость суждения, автономность. Я прекрасно знаю: это всего лишь иллюзия, несуразное наваждение. Свободен только я один! Каждый поворот, изгиб их судьбы заранее предначертан, мне ведомо всё: цель, к которой они стремятся, пути, что они выберут ради ее достижения, их самые потаенные страхи и надежды, их прирожденные свойства, интимнейшие механизмы их сознания… И все же, все же… они не перестают меня изумлять.
Ах, мои бесценные человеки… Как они топчутся на месте, как увязают в грязи – загляденье! Слепцы, слепцы… они всегда готовы надеяться, бредут на ощупь… Им только бы любой ценой поверить в мое милосердие, понять свою судьбу, угадать, каковы мои планы на их счет… Да, они, бедняги, никак не перестанут искать во всем этом смысл! Стоит мне только устроить им свиданьице с рождением или смертью, и они сразу воображают, будто уловили нечто. Всякий раз это для них встряска. Аж до мозга костей пронимает.
Взять хотя бы группку мужчин и женщин, что собрались в День Благодарения провести вечерок в гостях у Шона Фаррелла. Ничего выдающегося в них нет, даром что каждый мнит себя центром Вселенной (такова одна из умилительных причуд рода людского). Их не назовешь ни особо привлекательными, ни слишком странными, ни чокнутыми. Почти у всех в этой компании белая кожа, почти все уже не молоды, принадлежат к иудео-христианской культуре и балансируют между агностицизмом и атеизмом. Многие из них рождены в другой части света, но вот собрались на вечеринку в восточном конце той кочки на земном шарике, что вот уже не то два, не то три столетия зовется Соединенными Штатами Америки.
Почему я выбрал эту, а не какую-нибудь другую историю? Именно этих персонажей, это время и место? Ба! Пусть книга моих творений читана мной и перечитана без изъятий, вдоль и поперек – все же и у меня в земной человеческой истории тоже найдутся свои изюмины, особо милые сердцу эпизодики. Столетняя война, к примеру. Смерть Клеопатры. Обед у Шона Фаррелла в День Благодарения, circa 2000 [1]1
Около 2000 года (лат.). (Здесь и далее примеч. переводчиков.).
[Закрыть]… Здесь не стоит искать резонов. Могу сказать одно: уйма мелких совпадений и пустяковых неожиданностей, вместе взятых, превратили эту вечеринку в поэму. Красота внезапности. Внезапность драмы. Вспыхивающие, как порох, сердца, петарды смеха.
И вот, прежде чем занырнуть in medias res [2]2
Здесь: в гущу событий (лат.).
[Закрыть]в компанию незнакомцев, да будет мне позволено составить их краткий именник, чтобы определить первоначальные ориентиры.
Прежде всего: Шон Фаррелл. Родился в 1953 году в Ирландии, в графстве Корк. Поэт, преподаватель стихосложения в университете.
Основной кружок состоит из тех, кто знает и любит Шона. Двое – его коллеги с кафедры английской словесности: романист Хэл Хезерингтон (родился в Цинциннати в 1945-м) и Чарльз Джексон, поэт и эссеист (родился в 1960-м в Чикаго). Еще двое – бывшие любовницы: Патриция Мендино, секретарша (1965 года рождения, Южный Бостон), и Рэйчел, преподаватель философии (Манхэттен, 1955). Трое познакомились с Шоном на профессиональной почве и стали его более или менее близкими друзьями: его адвокат Брайан (родился в Лос-Анджелесе в 1953-м), Леонид Коротков, его домашний дизайнер (родился в 1933-м в Шудянах, Белоруссия), и его булочник Арон Жаботинский (1914, Одесса, Украина).
Гости, входящие во второй кружок, суть те, кто пришел к Шону праздновать День Благодарения в основном потому, что туда пригласили их мужей или жен. Такова Кэти, жена Леонида, она держит магазин кустарных изделий, родилась в Пенсильвании в 1948 году, то же касается Дерека, супруга Рэйчел и тоже преподавателя философии, уроженца Метьючена, что в Нью-Джерси, год рождения 1954-й; Бет Реймондсон – жена Брайана, врач, родилась в 1957 году в Хантсвилле, штат Алабама, Хлоя – новая жена Хэла, родом из Ванкувера, год 1977-й (о роде ее занятий я в нужный момент сообщу), с ними их одиннадцатимесячный сын Хэл-младший.
Итак, вот они собрались в этой истории, которую романист поведал бы в манере, что так любезна смертным: с конфликтами и эффектами, с кульминацией и развязкой, с трагическим либо счастливым финалом. Хотя, с моей точки зрения, ничто не бывает «завершено» никогда, нет ни концов, ни начал, а лишь подобие круговорота, пульсации, нескончаемого переплетения причин и следствий… Посему, и это вполне очевидно, повествовательные ухищрения не в моей натуре. Не по мне растягивать изложение событий, выпячивать одни детали и извлекать из их сердцевины другие, продлевать томительную неизвестность. Если принять за данность, что время изобрел я, то для меня все его моменты суть настоящее, они синхронны мне, и я могу единым взглядом обозреть вечность. Усвоить человеческое понятие времени для меня изнурительная задача: придется замедлять его, грубо тормозить, цедить слова по капле, одно за другим. Язык – до смешного неуклюжий инструмент…
И все же попробовать хочется.
Ладно.
Прольем, ежели вам угодно, некоторый свет.
Mehr Licht! [3]3
Больше света! (нем.)По преданию, таковы были последние слова умирающего Гете.
[Закрыть]
Fiat lux! [4]4
Да будет свет! (лат.).
[Закрыть]
Глава II. Приготовления к ужину
Жарким несет по всей квартире, вот так пахнет боль. Ароматы доброй кухни, думает Шон, с тех пор как ушла Джоди, донимают меня еще пуще, они и всегда мучили меня, во всех домах, где бы ни жил, особенно мясо, бабушкино говяжье рагу в Гэлоуэе, мамин куриный бульон в Сомервилле, оссобуко [5]5
Рулька с мозговой костью и рисом в томатном соусе.
[Закрыть]Джоди, дымок жареного мяса всякий раз растравляет страдания, прямо судороги тоски; вот войти в дом и умять мясное блюдо – это еще куда ни шло, но вдыхать его запах во все время стряпни – сущая пытка, и дело не в голоде, а в пронизывающей, до отчаяния доводящей ностальгии, она сто раз в самое нутро заберется, пока там индейка в собственном соку покрывается золотистой корочкой, извращенно манящие посулы тепла, доброты, счастья, простые радости очага, все то, чего не заполучить, чего никогда не имел, даже в детстве.
Здесь давным-давно никто не стряпал. Не делал того, что называется кухарничать. Запах опять, снова он, этот запах. Ах, как бы отвлечься, думать о чем-нибудь другом, Господи, только начало третьего, придется вытерпеть еще часа четыре, чертова птица огромна, двенадцать кило: «Весит, как трехлетний ребенок!» – это Патриция только что так сказала, горделиво взгромоздив ее на стол, раздвинула ей ляжки и полными пригоршнями заталкивала в нее фарш… Угощением для вечеринки занимаются Кэти и Патриция, а Шон все мыкается, томится, он не предвидел этой бесконечной адской проволочки с божественным ароматом индейки в стадии приготовления, эх, скорее бы стемнело…
Сосредоточимся на бархатистости, это мысль. Пойло должно быть бархатистым. Тут важно найти правильную дозу. Не отмерять, нет, он никогда и ничего больше не желает мерить, а просто держаться на хорошем уровне, не терять состояния бархатистости, ни в коем случае. На палец, два пальца, три, ага, вот так. Золотистая влага покоя. Сигарета славная, едкая. Отлично. Легкий вздох. Покашливанье. А теперь полистать «Нью-Йоркер». Одна из юмористических картинок заставляет его громко фыркнуть, и Пачуль, подбежав, трется мордой об его колено, дает почесать за ухом. Однажды Шон тоже придумал шутку, хотел послать в иллюстрированный журнальчик: «Вашу пиццу украсит горчица – лей, бах!» – там была игра слов, как бы реклама горчицы из Лейбаха, но Джоди его отговорила, сказала, что такой тупой каламбур никто проиллюстрировать не сможет. У них тогда уже шло к концу, в первые месяцы их совместной жизни она ни за что бы не употребила слово «тупой» по отношению к нему – и ни к чему из того, что он днем или ночью мог сказать, написать, почувствовать. Равным образом и он, когда близилась развязка, поставил ей фонарь под глазом за то, что обозвала его мать профессиональной мазохисткой (воспоминание, внезапно всплыв, заставило его передернуться от стыда: он в жизни никого не ударил, то был единственный раз, и ведь поднял руку на женщину; кошмар!). Ну, да с этим покончено, вот уж пять лет как все. Он даже не знает, на каком она теперь континенте.
Стакан уже пуст. Он отставляет его и принимается смотреть в окно на свинцово-серое небо, небо, какого ни один в мире поэт не попытался воспеть в стихах, ни один киношник не запечатлел в кадре, такое небо ускользает от определений, издевается над любой метафорой и убивает всякую надежду, злое небо ноября, до того серое, что заражает серостью деревья, ограду и сарай. Сарай из рая, думает Шон и усмехается снова, на сей раз тихонько спрашивая себя, не сгодится ли такая находка для стихотворения. «Никак», – отозвалось небо, назойливо затвердило: никак, пустой номер, и похоже, возразить некому, паскудная серятина. Уж лучше б чернота, вздыхает Шон. У черноты есть известные пределы. С ней можно так или иначе справиться. Когда зажигаешь лампы и за окном чернеет, что-то меняется. Тут возможны грелка на чайник, камин, утешение… Опять его донимает запах.
Возьмем быка за рога. Спокойным шагом он проследовал на кухню, размышляя о «рогоносце»: я же когда-то знал, откуда произошло это словцо, и вот забыл, мое почтение, Альцгеймер, весьма рад с вами познакомиться, ах, что вы говорите, так мы уже встречались? Надо же, совсем из головы вон, ха-ха, она теперь не более чем просторный выход, моя бедная головушка, ладно, но с чего бы все-таки обманутому мужу носить рога? Потому что они есть у месяца, а этот муж витает в облаках с ним рядом? Э, разумеется, нет. Не беспокойся, мамуля. Я не успею побить твой рекорд по части забывчивости.
На кухне он застает одну Патрицию – она к нему спиной, ленты фартука, завязанные хорошеньким бантом, охватывают стройную итальянскую талию, длинные черные волосы собраны над головой, чтоб ни один не попал в тарелку, узкая черная юбка позволяет оценить изгиб ее бедер; член пошевелился в брюках, и Шон легонько сжимает подвздошные косточки Патриции, позволив своим ладоням соскользнуть на ее живот. Он всегда утверждал, что многовековая история слабого пола не знала таких дивных подвздошных косточек, им нет равных, этим двум нежным выступам под черной тканью юбки. («Я и груди твои тоже люблю, хочешь верь, хочешь нет», – шепнул он ей однажды в ту пору, когда они были любовниками, сообразил, что женщины, кормившие грудью, могут быть особо чувствительны на этот счет, а у Патриции в то время уже имелось двое сыновей, правда, ни один из мальчиков не был от него, и дочки не было, никогда уже не будет, Джоди со всем этим покончила… «Бюст у тебя великолепен, но твои подвздошные косточки уникальны, воистину дар Божий».)
Она поелозила, прильнув, – тоже не прочь убедиться, что внизу еще затвердело, а Шон, куснув ее в затылок, прямо во влажные от кухонного пара волосы, заглянул ей через плечо в кастрюлю. Там была брусника с тертой апельсиновой цедрой. Ягоды как раз начинали лопаться. Словно попкорн, но мягче, влажнее, красочнее, почти неслышно. Когда они полопаются (Шону вспомнилось, как ему объясняла это Джоди во время одной из своих попыток приохотить его к поварскому искусству), огонь тушат, дают вареву остынуть, и тогда по непостижимой причине оно превращается в желе.
– М-м-м, как хорошо пахнет, – промурлыкал он, касаясь губами левой пушистой мочки Патриции.
– «Секрет из старинной книги», – продекламировала она. – Новые французские духи. Нравятся?
– Я имел в виду кушанье, – сказал он. – Пахнет вкусно.
– О-о! – заворчала Патриция. В притворной ярости она сделала вид, будто сейчас всадит каблучок-шпильку прямо ему в ступню. Высокие каблуки делают ее одного роста с ним, для мужчины он не больно-то рослый; она же, когда босиком, макушкой доставала ему до бровей. Он отдавал должное ее кружевным блузкам, ее узким юбкам, этой женственности иных времен – нынешние американки так не одеваются. Услышав, что Кэти в дальнем конце коридора спускает воду, он деликатность отодвинулся от Патриции, от ее все еще крепкого, молодого тела (хотя, само собой, уже не настолько юного и крепкого, как семь или восемь лет назад, когда ее только что взяли секретаршей на кафедру романских языков и Шон, проходя своей небрежной походкой мимо открытой двери приемной, вдруг круто притормозил в коридоре и, сделав три размашистых шага в обратном направлении, устремил на Патрицию свой неотразимый взор, сумрачный и меланхолический, она в то время была еще замужем, он – еще не женат, теперь она в разводе, он тоже один, и что тут еще скажешь, – и вот, в последний раз коснувшись ее ягодиц, он посылает своему бедному отростку приказ отправляться на покой, даже руку запускает в карман, чтобы жестом, обжалования не допускающим, в этом ему помочь.
– Все путем! – провозглашает Кэти, вплывая на кухню и на ходу заправляя в брюки свою не в меру фиолетовую блузку. Ее лицо под белой гривой морщинисто и багрово, как старая кожаная подушка. – Фарш в индейке, индейка в печи, печь в дому, дом в лесу… А теперь, – широким театральным жестом она ухватила коричневый бумажный пакет и извлекла оттуда тыкву, пожалуй, чуть сморщенную ( мертвая, подумал Шон, что за дичь, мне сегодня все кажется мертвым), – вперед на борьбу за сладкий тыквенный пирог!
– Ты уверена, что бедняжка еще съедобна? – Уперев руки в свои округлые бедра, Патриция наклонилась понюхать этот глобус с оранжевыми полюсами.
– Да, само собой! Смотри, это шедевр моей внучки! Ты заметила шрам у нее на виске, какая зловещая гримаса, да? Великолепно, правда?
– Великолепие – одно дело, съедобность – совсем другое, – беззлобно упорствует Патриция.
– Я ее хранила в холодном погребе с самого Хэллоуина, – Кэти пожимает плечами, – сойдет, что ей сделается? Придется только соскрести с ее нутра налипший воск от свечки, потом я ее сварю, обдеру, растолку, еще потомлю на медленном огне, взобью, смешав с сахаром, и вот тогда выйдет десерт. Тут волшебное превращение, колдовство! Это все равно как поцеловать жабу. Мой бедный Лео… Я уж тридцать лет его целую, а он все не превращается в прекрасного юного принца!
Шон и Патриция смеются, но не настолько весело, чтобы Кэти поверила, будто ее шутку они слышат впервые.
Это и называется веселиться на вечеринке? – спрашивает себя Шон, но вдруг испытывает острое желание глотнуть винца, стакан в руке, золотистый ожог в глотке, мозг окутывает теплое облако…
– Эй, Шон! – окликает его Кэти. – А ты видел брусничную подливу Патриции?
– М-м-м, – Шон причмокивает. – Когда ты вошла, я как раз выражал свой восторг Патриции в целом и ее брусничной подливе в частности.
– Патриция, я сочиню оду в честь твоей подливы! – заявляет Кэти.
– Это обещание или угроза? – спрашивает Патриция.
– Нет, ты лучше посмотри сюда! – восклицает Кэти. – Кто, когда видел что-либо столь прекрасное? Подлива в хрустальной вазе, как расплавленный металл в тигле, поблескивает золотыми и оранжевыми крапинками, это россыпь влажных рубинов, мерцающих при свете, сомнительные драгоценности короны, добытые ценой крови. О, сумрачная алость граната Персефоны, плода, куда более греховного, чем бледное Евино яблоко! Ну же, Шон, признайся, ведь недурно?
Она откидывает назад свою седую гриву, заливается громким веселым хохотом. Потом хватает мясницкий топор и разрубает злосчастную тыкву надвое – Шон насилу удерживает крик, но нет, она пуста, там нет внутренностей, ничто не брызгает. Он удирает из кухни, спешит к своему стакану, своей бутылке, сигаретам, пепельнице – главнейшим и непременнейшим принадлежностям его бытия.
Когда спустя какое-то время он возвращается, Кэти подбирает ингредиенты для своего пирога. Она выпотрошила этажерку с пряностями: извлекла банки с корицей, мускатным орехом, имбирем, гвоздикой… На всех засаленные крышки, Тереза никогда и не думала такие вещи мыть, Шона поражает вид этих грязных крышек на банках с пряностями, со дня отъезда Джоди, блистательной, незабвенной кулинарки Джоди, ими никто больше не пользовался, сдается, они пылятся аж с Рождества Христова и уж наверняка меня переживут, я буду разлагаться, пожираемый червями, а эта нелепая этажерка с пряностями, купленная мамулей по каталогу и преподнесенная нам в качестве свадебного подарка, будет торчать здесь века, мол, не угодно ли петрушки, чесночных хлопьев, кардамона, дерьма собачьего.
– Черт! – вдруг кричит Кэти. – Я же хотела принести кленовый сироп, да забыла. У тебя нет, Шон?
– Хороший вопрос.
Он покладисто открывает дверцу холодильника. Патриция между тем просеивает муку, чтобы испечь кукурузный хлеб, нужна смесь белой муки и поленты, как только женщинам удается держать всю эту всячину в памяти? Не прячут ли они свои рецепты за корсаж, заглядывая в них, когда мы отвернемся?.. Что мамуля больше всего ценила в Америке, так это свободу по дешевке: у ее свободы был вкус быстрозамороженных рыбных котлет, тушеных овощей с мясом по-китайски в пакетиках, итальянского салатного соуса мгновенного приготовления, это экономило время, ну конечно, чтобы без помех жить подлинной жизнью, не так ли, мамуля? Что я ищу-то, черт, зачем я сюда полез, ах да, кленовый сироп: в самой глубине холодильного шкафа Шон замечает маленькую изящную баночку кленового сиропа из Вермонта, подарок той шикарной рыжей романистки – как ее, Лиззи? Зоэ? – точно, в ее имени было «з», она появилась в университете года два-три тому назад, прочла блестящую, такую же рыжую лекцию, потом пожелала встретиться с ним, привлеченная его именем, известностью, если не… ладно, проехали, она ему сделала волшебный минет при свечах, не позволив воздать ей каким бы то ни было способом, кто ее знает почему, может, у нее свои принципы или там дружок, как бы то ни было, на следующее утро она напекла ему блинов и возмутилась, не найдя во всем доме ни капли кленового сиропа. Он вытащил маленькую изящную баночку и наконец распрямился с побагровевшей физиономией, ведь добрых пять минут по-дурацки глазел, согнувшись, на содержимое холодильника, но женщины не заметили ни этой задержки, ни его смущения, они по уши в готовке, блаженствуют, рады-радешеньки повозиться на кухне, Кэти снова сияет, как только ей удается? Шон в недоумении, ну да, полюбуйтесь, она опять счастлива, с виду все та же, вечно шутит, заходится от хохота, играет с внуками, вертит задом, заправляет своей лавчонкой кустарных изделий и плодит кошмарные стихи, единственное осязаемое следствие того ужаса, что заставил ее голову поседеть в одночасье.
– А скажи-ка, Шон, – придирается Патриция, – с какой стати ты топчешься на кухне? Будто не видишь, что пугаешься у нас под ногами! Тебе больше делать нечего? Ступай займись каким-нибудь мужским делом, огонь, что ли, разведи!
Огонь, это слово и мелькнувшее вслед за ним зрительное представление жестов и поз, неразрывно связанных с растапливанием камина, будит в Шоне чувство легкого омерзения. Очаг пуст, дровяной ящик тоже, ничего в запасе, кроме щепок для растопки да двух-трех громадных поленьев, в углу сарая, вот дерьмо.
– Дерьмо, – бормочет он. И добавляет, дабы привнести стихотворный размер: – Дерьмо собачье! Забыл напомнить Дэниэлу, чтоб заказал еще дров. Он приходил во вторник, как раз бы кстати.
– Что такое? Дров нет? Как, совсем? – ужасается Кэти.
– Одни толстенные поленья.
– Ну, так иди и преврати их в тонкие полешки! – заявляет Патриция. – Разомнись, тебе полезно.
– Ну да, – кивает Кэти. – Такой работой и Толстой бы не погнушался…
Он глядит на их влажные, пышущие кухонным жаром лица, у него нет ни малейшего желания расстаться с ними, быть изгнанным прочь, в студеную, алую тусклость: ступай, Шон, иди помучайся, пострадай как мужчина, топай, поэтишка, обабившийся мерзляк, а они и рады, им смешно, он злобно накидывает на плечи штормовку, обида душит его.
– Возьми с собой Пачуля, – говорит Патриция. – Держу пари, что ты за весь день его ни разу не выгулял!
Уходя, он хлопает дверью, как мальчишка, а знает же, что они хихикают и бормочут «сущий ребенок», «славный Шон», «он никогда не изменится», «его надо любить таким, как он есть». Бубня ругательства, он идет к сараю, чувствует, как руки трясутся, это не от холода и не от виски, а именно потому, что нынче вечером он не хочет оставаться один, да еще в этом выстуженном сарае, махать тяжелым, непослушным топором, смотреть остановившимся взглядом на пыльную груду поленьев… Господи Иисусе! Проклятье ему и всем нам на голову!
«Славный Шон», – усмехается Кэти, очищая от жесткой шкуры тыквенные ломти, уже размягченные варкой.
Патриция, мурлыча песенку, размешивает тесто для кукурузного хлеба, ей приятно мять ладонями эту зернистую, комковатую желтую смесь, однако напевает она не без некоторого усилия воли, ведь психолог в клинике говорил, что она не должна поддаваться тревоге. «Ваша тревожность, мадам Мендино, не приносит добра никому, – сказал он ей. – Ни вам самой, ни вашему сыну. Улыбающаяся, жизнерадостная мама – вот что сейчас нужно Джино. Быть такой – самое лучшее, что вы можете сделать для его здоровья», – ну, вот она и напевает, помешивая тесто и изо всех сил принуждая себя думать о другом, об ощущении, которое она испытала в тот миг, когда ладони Шона сомкнулись на ее животе, потом охватили бедра, о прикосновении его горячего крепкого тела, когда он прижался к ней, – ах, как она была влюблена в это тело! просто обмирала! У нее были другие любовники и до него, и одновременно, но из всех мужчин, которых она знала, может быть, только Шон вправду умел ублажать женщин, занимаясь любовью. Другие мужчины орудуют своим членом, как дубиной, или кочергой, или кредитной картой, а Шон нет, Шон стенал при каждом медленном погружении, весь изгибался, судорога блаженства сводила его лицо, казалось, в тебе шевелится не какая-то малая часть его плоти, а он сам – и душа, и тело. Но при всем том они с самого начала знали, что у них никакая не великая страсть, скорее дружеское приключение: Патриция была слишком привязана к обыденной жизни, чтобы сносить бесчисленные капризы и брюзжанье Шона; он же, со своей стороны, находил несносными ее наивные восторги по поводу всего природного, что растет, щебечет или поблескивает. «Природа – это для деревенских пентюхов, – однажды брякнул он ей, – а у птичек – птичьи мозги». Или, скажем, она часами парилась на кухне, чтобы сготовить кушанье из баклажан, посыпанных сыром и обжаренных в сухарях, а когда наступало время обеда, Шон подваливал к столу, пошатываясь под грузом обветшалых воспоминаний, мертвецки пьяный и совершенно равнодушный к содержимому своей тарелки. И потом, он во сне храпел. Зато потрясающе пел под душем. Как он звучал, тот шлягер, псевдокантри, что он сочинил для нее? Там, помнится, были слова: «Я твой бзик, я твой сон, я бродяга из грез, к тебе в сердце пролез и брожу там привольно…»
– Как дела у Джино? – спрашивает Кэти, а сама терпеливо давит тыквенную мякоть вилкой, не заталкивает кусками в миксер, предпочитая не нарушать мирную тишину кухни его сверлящим мозги электрическим воем, хотя бы и всего на тридцать секунд.
– Рентгеновские снимки не слишком утешительные, – отвечает Патриция, не поднимая головы. – Опухоль размером с орех.
– О нет! – говорит Кэти.
– По крайней мере это не мозг, а голень, – произносит Патриция, ее лучшая подруга несколько лет назад умерла от рака мозга. – Ведь легче прожить, потеряв полноги, чем полмозга как по-твоему?
– Легче, да и веселее.
– Твоя правда. Ну вот, теперь ждем результатов биопсии.
С ее стороны было мило спросить об этом, говорит она себе. Кэти могла бы рассудить, что в сравнении со смертью ее мальчика проблема Джино ерунда, но, когда коснется детей, пустяков не бывает: всякая проблема – критическая, сравнения под запретом. В собственном сыне тебе все дорого, о чем речь, его ноги, икры – их ведь тоже любишь. Удивляешься, глядя, как они быстро растут. Смотришь, как они бронзовеют от загара, покрываются синяками или по летнему времени – волдырями от комариных укусов. Умиляешься, чувствуя их внезапно возросшую тяжесть, когда твое дитя, развалившись рядом на канапе перед телевизором, отключится и заснет посреди старого фильма.
– Должно быть, трудно переживать все это одной, – вздыхает Кэти, уверенная, что ей бы ни за что не вынести таких тревог, ее всегда поражает смелость, решительность, немыслимая душевная стойкость матерей-одиночек.
– О, я привыкла, – роняет Патриция. – К тому же на работе все относятся с пониманием, очень сочувственно. Я уж и не знаю, сколько раз отпрашивалась, с обеда уходила… (На память вдруг приходит сон, приснившийся утром: будто она вместо того, чтобы сажать в землю цветы и овощи, хоронилаих. Чтобы жить, им нужна малая толика земли, думает она теперь, а когда ее слишком много, это их убивает. Все решает мера.) Как по-твоему, не пора ли мне снова сбрызнуть подливой нашу птичку?
Раскрыв духовку, Патриция наклоняется, осторожно выдвигает противень, принимается большой ложкой черпать горячий жир и обливать им индейку, чья кожа уже начинает золотиться и коробиться. («В конечном счете, – как гласит рецепт из «Joy of Cooking» [6]6
«Готовим с удовольствием» (англ.).
[Закрыть], – после детального рассмотрения различных концепций жарения индейки вам придется, взявшись готовить какую бы то ни было птицу, неизбежно столкнуться с серьезной дилеммой». Сегодня утром, прочтя эту фразу, Патриция покатилась со смеху: вся дилемма в том, что белое мясо достигает готовности раньше, чем окорочка, – стало быть, к тому времени, когда они доходят до кондиции, белое пережарено! Вот такие дилеммы по мне, подумалось ей тогда. Можешь посылать мне их, милосердный Боже, в любом количестве!)
Откуда она берет силы? – поражается Кэти. И почему я такая слабая? Вот белорусские женщины сильные, одним приходится смотреть, как их мужья опухают или съеживаются у них на глазах, как они чернеют, истощаются и умирают, и у одних – выкидыш за выкидышем, другие больше не хотят заниматься любовью, боясь зачать мутанта, а иная, от любви не отказавшись, производит на свет монстра и окружает его нежной заботой, пока он не загнется годам к семи. Как им удается выдержать? Ей, Кэти, после смерти Дэвида муж становится чем дальше, тем все более необходим, без него тягостно даже здесь, у Шона, в трех километрах от собственного дома, хотя ей в точности известно, где супруг и чем сейчас занят (вставляет двойные рамы на зиму); с тех пор как Дэвида не стало, ей ежеминутно надо знать, где находится каждый из членов ее семьи, иначе с ним может случиться все, что угодно, – схватят, поколотят, убьет молнией, да, злые силы подстерегают всюду, они ярятся, брызгают ядовитой слюной, о, хоть бы Лео оказался здесь, рядом, сейчас же, она бы желала одним усилием свести на нет разделяющие их время и пространство, сделать так, чтобы часы уже показывали шесть вечера и на веранде послышались его шаги, она их узнала бы из тысячи, особенности веса и формы его тела при ходьбе, о, ходи, шагай и дальше, Лео, только бы этому никогда не пришел конец, возлюбленный мой, всего шестьдесят семь, еще не настоящая старость, у нас годы впереди, не так ли, мое сокровище? Долгие годы. Это первый День Благодарения, который они встречают без детей, двое из них живут своей семьей, один лежит в земле, младшая, Сильвия, и та укатила с дружком в Филадельфию… Кэти взбивает тыквенную мякоть, поката не становится ровным, густым кремом, потом опрокидывает его в сосуд для варки в водяной бане, добавляет сахар и специи, но я хочу, чтобы Лео был здесь, здесь,со мной, в этой комнате.
Внезапно ее прошибает пот, блузка становится влажной. К счастью, на кухне жарко, чуть заметно дергая плечом, говорит она себе, щеки у меня так и сяк были бы красными.
* * *
Да и Шон тоже взмок от пота. Он цепляет свою штормовку на деревянную вешалку за дверью сарая. Пальцы у него все еще дрожат, теперь руки до плеч и ноги тоже начинают трястись, а там и тело с головы до пят… Все это отвратительно: с какой стати его вынуждают разыгрывать сильного мужчину? Я слаб, признаю это, чего же вам еще, мои предки были из бедных поселян графства Корк, едоков картофеля с физиономиями цвета овсяной каши и томатной пастой в жилах, а вы хотите, чтобы я превратился в дюжего лесоруба из Новой Англии? Я зарабатываю достаточно, чтобы нанимать крепких парней для подобной работы. К тому же чего ради сборищу художественных натур с псевдодеревенскими вкусами, чтоб ему было пусто на том и на этом свете, понадобилось зажигать огонь в камине, если в доме центральное отопление!
Он несколько раз слабо тюкнул по полену без видимого результата, хотя ему почудилось, что он остервенело сражается с ним добрых десять минут. Никак не удавалось дважды попасть топором в одно и то же место. Лезвие ударялось о дерево и застревало; он, потея и задыхаясь, вытаскивал его, снова замахивался, поднимая топор над головой, шатаясь под его тяжестью, и дрожащими руками наносил удар, опять не туда. Вероятно, древесина хорошо просушена, ты бы сумел управиться с этим, а, папуля? Тебе доводилось рубить дрова, хотя бы разок за всю твою краткую жизнь одиночки-бедняка-грязной-скотины? Признайся, нет? И чего не хватало Толстому, какого черта его тянуло к мужикам? Может, дрова достаточно сухие, чтобы я смог их распилить? Где эта гребаная пила? (Он почти никогда и носа не совал в сарай. Инструменты здесь завалялись с черт-те каких времен, куда раньше, чем он двадцать четыре года назад купил этот дом, университет тогда – гордясь, что заполучил скороспелого гения, лауреата нескольких премий, – назначил его на преподавательскую должность, неслыханно молодого, двадцатитрехлетнего.) Такая уж у меня сноровка, папуля, «шпеть я вам рад, нашыпьте деныиат». Рубить дрова, поливать жиром индейку, создать семью – этого не просите; мое дело – писать стихи,если только допустить, что ты был бы в состоянии их прочесть. Как знать, старина? Может, мы бы могли с тобой пьянствовать и веселиться вместе, вдвоем, чего доброго, у тебя тоже была склонность к поэзии, мамуля ничего мне об этом не говорила, да мало ли что, – ты, верно, горланил в пабах хромоногие стишки под скрипочку, сладкие каденции старинной ирландской выделки, а, папуль?








