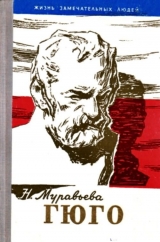
Текст книги "Гюго"
Автор книги: Наталья Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Скрижали романтизма (1826–1827)

Отрубленные головы. Тысячи отрубленных голов.
Зловещие, они, чредой свисая длинной,
Собою тяготят зубцы стены старинной…
Это головы греческих патриотов-повстанцев, павших у стен Миссолонги весной 1826 года под смертельным огнем пушек Ибрагима-паши. Головы мертвых героев были доставлены султану.
О событиях в Миссолонги кричит вся европейская печать. А правительства стран Европы молча смотрят на страдания Греции.
О ужас, ужас! О великий ужас!
Эту строку из «Гамлета» Виктор Гюго взял эпиграфом к своей оде «Головы в серале».
Стамбул ликует. В серале праздник. Но поздней ночью, когда умолкли звуки флейт и барабанов, когда задремали часовые, головы мертвых героев заговорили:
Их голос походил, на песни в снах туманных,
На смутный ропот волн у берегов песчаных,
На ветра гаснущего звук.
О геройстве и муках народа говорят они, о дымящихся развалинах греческого города, который так долго и мужественно сопротивлялся. Среди мертвых голов белеет череп Марко Боццариса, вождя повстанцев, убитого еще в 1824 году. Турки вскрыли могилу героя, чтобы преподнести его череп своему султану. Уста мертвых зовут к возмездию, взывают о помощи:
Европа! Слышишь ли ты голос нашей муки?
Ода Виктора Гюго появилась тотчас же вслед за вестями о кровавых событиях в Миссолонги, потрясших сердца. Поэт нашел новых героев, достойных быть воспетыми в одах, балладах и поэмах.
Его новая ода, как и многие созданные им прежде, далеко выходит за рамки правил и норм, предписанных поэтикой XVII века, зато она дает поистине живой, трепетный поэтический отклик на событие современности. В этом Гюго и видит главное назначение жанра оды. Перегородки между «высокими» и «низкими» жанрами уже ломаются в его стихах.
«Прекрасное и правдивое остается прекрасным и правдивым везде, – провозглашает поэт. – То, что драматично в романе, будет драматично и на сцене; то, что лирично в куплете, лирично и в строфе…»
Пора объявить решительный бой сторонникам старины. Гюго уже не сомневается в этом. И полем битвы за новые формы будет не только лирическая поэзия, но и все другие жанры литературы.
Гюго хочет создать романтическую драму. Он должен, наконец, заставить героев современного театра сбросить напудренные парики, отказаться от напыщенных тирад, заговорить живым человеческим языком.
Героем драмы будет Оливер Кромвель. Гюго перечитывает исторические труды, посвященные английской революции XVII века. Надо воссоздать колорит эпохи, передать в пьесе движение жизни, не связанной правилами сценических единств.
В октябре 1826 года вышло новое издание «Од и баллад». Это уже не тоненькая книжица, а три солидных томика. Сюда вошли и ода «Моему отцу», и «Два острова», и «Путешествие», и много романтических стихотворений, навеянных старинными легендами и народными поверьями.
Что скажут критики? Каждое утро Гюго с волнением перелистывает свежие газеты и журналы. Вот «Глоб» – этот журнал завоевывает все большую популярность. Внимание! В критическом отделе статья о сборнике Виктора Гюго. Автор статьи Сент-Бёв. Гюго погружается в чтение. Лицо его светлеет.
Еще никто из критиков не сумел так понять, так правильно и тонко оценить его «Оды и баллады». С Сент-Бёвом необходимо познакомиться.
И вот Сент-Бёв у них в гостях. Он низко склоняется перед хозяйкой дома. Рядом с широкоплечим Виктором Гюго критик кажется низеньким и щуплым. Совсем молодой, а голова уже лысеет, спина сутулится. Маленькие живые глаза смотрят исподлобья; движения мягкие и голос мягкий, вкрадчивый.
Критик оказывается обаятельным собеседником.
Речь идет о журнале «Глоб». Конечно, сотрудники этого журнала больше сочувствуют либералам, говорит Сент-Бёв, но у редакции «Глоба» особая позиция– держаться независимо, на равном расстоянии от всех политических партий, подготавливать исподволь общественное мнение к борьбе за реформы в политике и литературе.
Современная французская поэзия под пером эпигонов захирела. Она обескровлена. Сент-Бёв согласен в этом с Гюго. Но есть поэты с большим дарованием – Ламартин, Виньи. Возникает целая плеяда молодых талантов. И Гюго призван возглавить движение к новым вершинам. Освобождая поэзию от пут, надо обратиться и к забытым источникам прошлого.
Сент-Бёв изучает творчество блестящей плеяды поэтов XVI века. Ронсар, Дю Белле. Сколько в их стихах энергии, сколько живых красок – это кладезь словесных богатств!
Поэт и критик встречаются все чаще. Гюго делится с Сент-Бёвом своими планами, посвящает его в замысел романтической драмы, ему первому читает свои новые стихи. Одинокий Сент-Бёв охотно бывает в доме поэта. Он согревается у этого радушного очага.
У Гюго уже двое детей. На свет появился толстяк Шарло. Семья переехала весной 1827 года в домик на улице Нотр-Дам де Шан. Перед входом аллея, с трех сторон сад. Окно кабинета Гюго всегда открыто. В квартире несколько комнат, самая большая из них обита красной тканью – это «красный салон». Адель с успехом и увлечением играет роль хозяйки салона.
Сент-Бёв живет совсем поблизости и заходит к Гюго по два раза в день запросто, как свой. Если Виктора нет дома, гость беседует с хозяйкой. Она чувствует себя с ним непринужденно и легко. Сент-Бёв читает ей свои стихи, ведет с ней долгие задушевные беседы обо всем на свете. Они очень подружились.
Виктор Гюго часто уходит в библиотеку или бродит по Парижу. Как и в дни своей одинокой юности, он любит работать на ходу, во время длинных прогулок по городу.
На одной из площадей Парижа высится надменная металлическая колонна. Гигантский ствол ее выплавлен из сотен пушек – военных трофеев наполеоновских побед. Раньше Гюго с ненавистью и осуждением смотрел на этот памятник славы империи. Но год от года его отношение к Вандомской колонне стало изменяться. Уже с 1823 года, когда была написана ода «К отцу», поэт начал иными глазами смотреть на события недавнего прошлого, хотя еще и сохранял свои роялистские убеждения; теперь же он отдает отчет себе самому, что во взглядах его произошел перелом.
Политика Карла X и его министров слишком далека от тех возвышенных идеалов свободы и всеобщего благоденствия, носительницей которых Гюго наивно считал когда-то монархию Бурбонов. Детские заблуждения поэта не выдержали испытания жизнью.
Народ выбивается из сил, чтобы правительство могло выплатить пресловутый миллиард эмигрантам, беглецам, направлявшим против своей родины дула иностранных пушек. Карл X лицемерно обещал французам всяческие свободы, а на деле его министры выдвигают законопроекты о печати, ограничивающие свободу литераторов и издателей, отдающие их в лапы монархических цензоров. Бывшие эмигранты, помещики, попы, иезуиты подняли головы, они чувствуют себя господами положения. А старых воинов, сражавшихся когда-то за славу Франции, унижают, ставят ни во что.
В эти годы многих крупнейших поэтов Европы особенно привлекал образ Наполеона. Ему посвящали взволнованные стихи и Пушкин, и Байрон, и Беранже, а позднее и молодой Лермонтов.
Образ этот переосмысливался, терял реальные черты, романтизировался, облекался дымкой легенды. Поэты воспевали в нем отнюдь не деспота и узурпатора, они видели в Наполеоне наследника революции, могучую личность с необычной судьбой, возвышающуюся над мелкими людишками современного мира. «Тень императора» становилась во Франции периода Реставрации символом протеста против королевства Бурбонов.
Образ Наполеона противопоставляли тупому, бездарному Карлу X и большие поэты и широкие массы французского крестьянства, среди которых складывалась своеобразная легенда о Наполеоне – «народном императоре».
Обращаясь с одой к Вандомской колонне, Гюго тем самым бросал вызов правоверным роялистам, разрывал со своими прежними убеждениями.
* * *
Жаркий день ранней осени. В Париже пыль, духота, а в летнем кафе тетушки Сагэ пахнет левкоями, зеленеют деревья, визжат скрипки, где-то неподалеку кудахчут куры – тетушка Сагэ славится своими жареными цыплятами.
Друзья сидят в беседке из вьющихся растений, пьют белое вино и закусывают отличным сыром. Цыплята еще впереди. Тетушка Сагэ прямо-таки не поспевает ощипывать их – столько желающих полакомиться ее стряпней.
Беседа не умолкает.
– Есть у вас билеты на следующий спектакль в Одеоне? – спрашивает Виктор у. скульптора Давида д'Анже.
– Как же, – отвечает Давид, – есть. Но достать их было нелегко. Сами знаете, как рвутся парижане на шекспировские спектакли. Профессора из Академии взбешены. «Дикарь Шекспир» покоряет Париж!
– И его исполнительница мисс Смитсон тоже, – вставляет Абэль. – До чего же талантлива и до чего хороша собой! Вы знаете, что музыкант Гектор Берлиоз предложил ей руку и сердце?
– Ну, а она?
– Отказала.
– Послушайте, что написал мне Эжен Делакруа, когда узнал о приезде в Париж английской труппы актеров! – обращается к друзьям Гюго: – «Нашим классическим театрам грозит неприятельское нашествие. Гамлет поднимает свою ужасную голову. Отелло держит наготове свою губительную подушку. Губительную главным образом для благочинной драматической полиции. На всякий случай вам не мешало бы носить кирасу под фраком, а то не убережетесь от какого-либо классического кинжала». Хорошо сказано?
– Да. Делакруа понимает, откуда исходит опасность, – говорит Эжен Девериа, обмахиваясь своей широкополой шляпой. – Он сам немало претерпел от ревнителей академического благочиния.
– Вы видели его серию рисунков к «Фаусту» Гёте? – вставляет Луи Буланже. – В рисунках Делакруа – живая душа романтизма. Помните это невольное движение Маргариты, когда Фауст впервые прикоснулся к ней? Взгляд Мефистофеля? Далекие силуэты остроконечных крыш средневекового немецкого города?
– А ночной полет Фауста и Мефистофеля на конях? Дух захватывает!
– Прекрасное и ужасающее, возвышенное и низменное – контрасты, они передают дыхание жизни, – говорит Виктор Гюго. – Прав был Наполеон, когда утверждал, что от великого до смешного один шаг. Величественное и смешное в жизни рядом, они оттеняют друг друга, об этом надо помнить драматургам! В предисловии к драме «Кромвель» я собираюсь изложить свои мысли о современном искусстве,
– Провозгласим же тост за истину, за свободу в искусстве!
– Да здравствует Шекспир!
– Истинная душа романтизма – это героическое, – говорит Давид д'Анже. Скульптор старше своих жизнерадостных собеседников, но держится с ними на равной ноге.
– Недавно, когда мы шли с Виктором в кафе тетушки Сагэ, – продолжает Давид, – нам встретилась девочка-нищенка, оборванная, худая, но в ее лице было что-то невольно останавливавшее взгляд. Трагическое лицо. Я привел ее в свою мастерскую, накормил. И сейчас она служит мне моделью для статуи юной девы на гробнице Боццариса. Эта статуя будет символом порабощенной, страдающей Греции.
Виктор читает отрывок из своего нового стихотворения «Энтузиазм»:
Скорее в Грецию! Пора! Ей вся любовь!
Пусть мученик-народ отмстит врагам за кровь…
Сумерки сгущаются. Пора домой.
– Адель, вероятно, заждалась, – говорит Гюго. Он обещал ей сегодня вечером привести друзей в красный салон.
* * *
«Да, завтра двадцать пятого июня. В год пятьдесят седьмой семнадцатого века…» – так начинается драма «Кромвель». Это совсем не похоже на велеречивые тирады подражателей Расина. Драма еще не напечатана, но в парижских салонах уже пародируют ее, острят по поводу необычного вступления.
В «Кромвеле» воплощены многие романтические принципы, за которые борется Гюго. Здесь он еще более решительно разрывает с прежними роялистскими убеждениями. Но пьеса слишком длинна, трудна для постановки, получилась драма для чтения, а не для сцены. Гюго решил издать ее, не переделывая, вместе с большим предисловием.
Этому предисловию автор придает особое значение. Оно должно стать манифестом романтического искусства, Гюго обещал прочитать его друзьям. Слух об этом разнесся в кругах литераторов и артистов. Многие хотят присутствовать на чтении. Оно состоится в Арсенале у Нодье. Здесь и собираются в осенний вечер 1827 года поэты и драматурги, художники и артисты, журналисты и критики – пестрая армия французских романтиков.
Гюго чувствует себя как полководец перед битвой. Только бледность выдает его волнение, внешне он совершенно спокоен. Одет он подчеркнуто просто: наглухо застегнутый черный редингот, узкая полоска белого воротничка у шеи; жесты скупые и энергичные. Никакой эксцентричности, никакого «неистовства» ни в одежде, ни в манерах, ни в тоне. Но то, что он читает своим мерным звучным голосом, вызовет неистовый взрыв страстей: энтузиазм в стане друзей, бешенство в лагере противников.
Со страстью и блеском поэт развертывает программу романтического искусства; по всем линиям дает бой защитникам старины. Он бросает широкий взгляд на историю развития литературы.
Главным жанром современности он провозглашает драму. Вершина драмы – Шекспир. «Богом театра» называет его автор предисловия.
«Драме остается сделать лишь один шаг, чтобы порвать всю паутину схоластики, которой армия лилипутов хотела связать ее во время сна», – заявляет Гюго. Чтобы приблизиться к жизненной реальности, драма должна соединить в себе возвышенное и смешное.
Особое значение придает Гюго контрастам и гротеску, сгущенному, преувеличенному до пределов фантастики изображению чудовищного и смешного.
«…гротеск составляет одну из величайших красот драмы… Он вносит в трагедию то смех, то ужас. Он заставляет Ромео встретиться с аптекарем, Макбета с тремя ведьмами, Гамлета с могильщиками…»
Автор предисловия идет в сокрушительную атаку на устаревшие схоластические правила единства времени и места в драме.
«В самом деле, что может быть более неправдоподобного и более нелепого, чем этот вестибюль, этот перистиль [2]2
Перистиль – крытая галерея с колоннадой у входа в здание.
[Закрыть], эта прихожая – традиционное помещение, где благосклонно развертывают свое действие наши трагедии, куда неизвестно почему являются заговорщики, чтобы произносить речи против тирана, тиран, чтобы произносить речи против заговорщиков, поочередно, будто сговорившись заранее…
Единство времени не более обоснованно, чем единство места. Действие, искусственно ограниченное двадцатью четырьмя часами, столь же нелепо, как и действие, ограниченное прихожей… Мерить все единой мерой! Смешон был бы сапожник, который захотел надевать один и тот же башмак на любую ногу…»
«Итак, скажем смело: время настало! И странно было бы, если бы в нашу эпоху, когда свобода проникает всюду, подобно свету, она не проникла бы в область, которая по природе своей свободнее всего на свете, – в область мысли. Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов, или вернее: нет иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством, и частных законов для каждого произведения, вытекающих из требований, присущих каждому сюжету…»
«Поэт должен остерегаться прямого подражания кому-либо… Паразит гиганта всегда останется карликом. Итак, природа! Природа и истина! Новое направление, нисколько не нарушая искусства, хочет лишь построить его заново, более прочно и на лучшем основании…»
Гюго обосновывает необходимость реформы литературного языка:
«Человеческий ум всегда движется вперед, он постоянно изменяется, а вместе с ним изменяется и язык. Таков порядок вещей. Когда изменяется тело, может ли не измениться одежда? Французский язык девятнадцатого века не может быть французским языком восемнадцатого века, а этот последний не есть язык семнадцатого века… Тщетно наши литературные Иисусы Навины повелевают языку остановиться; в наши дни ни языки, ни солнце уже не останавливаются…
В настоящее время существует литературный старый режим, так же как политический старый режим. Прошлый век почти во всем еще тяготеет над новым. Особенно это сказывается в области критики…
Но близок час, когда новая критика, опирающаяся на широкую, прочную и глубокую основу, восторжествует…».
Гюго широко иллюстрирует свои мысли примерами, но не ссылается на авторитеты, не приводит цитат. «Он предпочитает доводы авторитетам. Он всегда больше любил оружие, чем гербы». Этими словами заканчивается предисловие к «Кромвелю».
Аплодисменты. Рукопожатия. Сверкающие глаза молодежи. Да. Это настоящий манифест нового искусства. Те мысли, которые носились в воздухе разрозненными стайками, тревожили умы, но не находили до сих пор смелого и ясного выражения, Виктор Гюго построил в боевые колонны, одел в блестящую броню слов и образов и двинул в битву. Он стал во главе передового отряда романтиков, во главе тех, кто хочет, чтобы живая современность заиграла бы всеми своими красками в искусстве, освобожденном от пут прошлого.
Конечно, не все в этом манифесте романтического искусства бесспорно и равноценно.
Произвольна и далека от науки схема развития литературы, которую наметил поэт, наивно и его понимание причин общественного развития. Гюго видит их в борьбе неких абстрактных извечных начал: добра и зла, мрака и света. Но сила его предисловия в том, что в борьбе с омертвелыми формами оно призывало литературу на новые пути. Скрижалями романтизма, заповедями нового искусства назовут предисловие к «Кромвелю» прогрессивные французские романтики и будущие реалисты – соратники и современники Гюго. Манифест романтического искусства поможет им строить большую новую литературу, вызванную к жизни эпохой революции, отвечающую требованиям нового века.
* * *
«Кромвель» с предисловием вышел в декабре 1827 года. Виктор Гюго посвятил пьесу своему отцу. Старик польщен и растроган. Он и не вспоминает о том времени, когда видел в желании Виктора стать литератором лишь пустые ребяческие бредни. Теперь он вполне доволен сыном, жизнью и собой. Он воспет в одах, восстановлен в чинах и титулах. Снова он генерал и граф, а Виктор имеет право именоваться бароном. Генерал переселился в Париж и снял квартиру на улице Плюмэ, неподалеку от сына.
Январским вечером 1823 года Виктор и Адель в гостях у отца. Разговор идет об отзывах прессы на «Кромвеля» и предисловие. В газетах и журналах буря.
– Предисловие действует на ревнителей старины, «таможенников мысли», как красная тряпка на быка, – говорит Виктор.
– Да, милиция лилипутов разъярена, – смеется генерал. Он уже усвоил лексикон сына.
– Зато молодежь дает отпор; вокруг предисловия будут теперь строиться ряды армии романтиков, – говорит Виктор.
Генерал особенно весел в этот вечер. Каждое острое словцо веселит его, вызывает взрыв хохота.
Расстаются уже около полуночи. Виктор и Адель идут домой пешком, не торопясь. Надо прогуляться перед сном. Едва они входят в квартиру, как у дверей раздается тревожный звонок. Кто это так поздно?
– Ваш отец скончался, – говорит посыльный.
Виктор не верит ушам. Ведь только сейчас он беседовал с отцом, слышал его смех. Скорей назад, на улицу Плюмэ!
Отец лежит недвижимый. Недавно румяное, смеющееся лицо посинело и застыло.
– Удар, – говорит врач. – Мгновенная смерть, как на войне.
Контрасты (1828–1829)

Они уже не собираются, как прошлым летом, в кабачке тетушки Сагэ, маршрут их прогулок переменился. Под вечер Гюго и его друзья бродят по окрестностям Парижа. Любимое место их привала «Мельничный холм».
Все располагаются прямо на траве. Луи Буланже делает наброски в походном альбоме, Сент-Бёв раскрывает томик стихов, Гюго ложится на спину, руки под голову, грудь дышит вольно. Над ним гигантское опахало – мельничные крылья. Перед глазами волшебство переменчивых красок солнечного заката. Блестящие озера света, пылающие края облаков, причудливые видения…
Какое-то непередаваемое чувство рождает это пиршество красок, как будто наяву переносишься в фантастическую страну чудес…
Туда, под облака! На крыльях
Подняться дайте мне с земли!..
Солнце село. Друзья идут по вечерним полям. В Париже зажигаются первые огоньки. Сейчас город охватит их своим дыханием, шумом, говором.
Они направляются к Виктору на улицу Нотр-дам де Шан. Адель ждет их. После прогулки надо подкрепиться.
Звонок. Пришел Проспер Мериме. «Клара» – зовут его друзья. Три года назад в Париже много говорили о сборнике пьес некоей испанской актрисы Клары Газуль. В начале книги был помещен ее портрет: дама в пышном платье и кокетливой шляпе, а вместо лица – пустое место; на следующей странице почему-то еще один портрет – молодой человек с. длинным носом и иронической складкой губ. Читатели гадали: кто она? кто он? Приятели же сразу узнали автора. Вот он! Долговязый, всегда невозмутимый насмешник Мериме.
В 1827 году читающая публика снова была озадачена. Вышел в свет прекрасный сборник славянских баллад «Гюзля». Местный колорит, стиль, интонации переданы в нем удивительно тонко, даже специалисты не хотели верить, что это не перевод, а стилизация. Великий русский поэт Пушкин был убежден в подлинности этих народных баллад.
Чем еще поразит мир Мериме? В каких жанрах одержит победы? От него многого можно ждать.
Мериме окидывает взглядом обеденный стол и с поклоном обращается к хозяйке:
– Я готов выполнить свое обещание!
Прошлый раз, когда он обедал у Гюго, к столу были поданы неудачные макароны, и Мериме обещал госпоже Гюго как-нибудь зайти и самолично приготовить настоящие макароны по-итальянски.
Адель повязывает ему фартук и ведет на кухню.
В дверях появляется поэт Альфред Мюссе, белокурый юноша с лицом херувима и повадками денди, вслед за ним темноглазый Эжен Делакруа с холеной бородкой; он первый среди артистической молодежи ввел в моду бороды, и теперь многие подражают ему.
Вскоре Мериме торжественно вносит дымящееся блюдо макарон.
– Вот это талантливо!
– Рад стараться! На этот раз перед вами не мистификация, а сама святая истина!
Из столовой друзья переходят в красный салон. Гюго прочтет только что законченное стихотворение «Джинны». Он уже занял свое обычное место – спиной к камину у круглого мраморного столика. Все притихли.
Начинается волшебный полет стихотворных строк – фантастический полет горных духов джиннов.
Порт сонный,
Ночной,
Плененный
Стеной;
Безмолвны,
Спят волны, —
И полный
Покой.
Переменчивый ритмический рисунок – в нем дыханье моря, в нем трепет стремительных крыльев. Короткие легкие строки вырастают, ширятся.
Стая джиннов! В небе мглистом
Заклубясь, на всем скаку
Тиссы рвут свирепым свистом,
Кувыркаясь на суку.
Духи уже здесь, над головой:
Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы!
Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув,
Вдруг рушится на дом с безумной силой.
Дом весь дрожит, качается и стонет…
Пролетели! Удаляется черная стая. И строки стихов тают, становятся все легче, короче.
Как звук прибоя
Незримых вод…
Все тише легкие всплески волн.
И вскоре
В просторе
И в море
Покой.
Слушатели взволнованы.
– Франция еще не слышала таких стихов! Небывалый ритмический рисунок. Волшебство движения!
– Живопись словом, колдовство красок!
Друзья славят покорителя французских слов и ритмов, первооткрывателя новых земель французской поэзии.
«Джинны» вошли в новый сборник стихов «Восточные мотивы». Поэт не был на Востоке, но у него могучая фантазия, и он постигает дух восточной поэзии, изучая ее по переводам и подстрочникам.
В сборнике много стихов посвящено Испании. Испанию Гюго помнит, как будто только вчера был там, ее небо сияет перед его глазами. Мавританские дворцы и мечети, пальмы и лимоны, зубцы скал и башни замков.
Но еще чаще он летит мыслями в Грецию. Он столько слышал, столько читал и писал о ней, что ему кажется, будто он сам не раз бывал там, жил, сражался вместе с повстанцами-сулиотами, видел муки и слезы женщин и детей, проданных в рабство турками.
Вот греческий мальчик. Ноги его в крови. Он чудом спасся от смерти.
Что может разогнать печаль твою сейчас?
…Чего же хочешь ты? Цветок? Ту птицу? Плод?
«Нет! – гордо отвечал мне юный сулиот. —
Дай только пули мне и порох».
В книге «Восточные мотивы» воплотились многие мечты романтиков о поэзии, которая, сбросив запреты прошлого, вырвется из тисков старых канонов и заговорит живым, свободным языком. Гибкость и разнообразие ритмов, мастерство колорита, передающего национальное своеобразие различных стран, – все это поражало и покоряло читателей. Интонации современности Гюго сочетал здесь с забытыми богатствами поэтического языка эпохи Возрождения. В стихах Гюго получили право гражданства, возродились к жизни некоторые красочные слова и обороты, исключенные из литературы ограничительной поэтической реформой XVII века. Многочисленные поклонники поэта признавали, что «Восточные мотивы» положили начало новому Возрождению во французской поэзии.
Подлинным источником первых серьезных достижений Виктора Гюго в поэзии и в прозе было настойчивое стремление приблизить литературу к запросам современности. Он еще не встал на дорогу борьбы политической, но уже сделался одним из видных участников освободительного движения в литературе. А паруса передовых движений в искусстве во все времена надували живые ветры современности.
Русские декабристы и французские республиканцы; негры Сан-Доминго и испанские гверильясы; итальянские карбонарии и греческие сулиоты – разве не они будили, вдохновляли, вели к новым далям Пушкина и Байрона, Стендаля и Мицкевича, Гейне и Беранже? Живые ветры рассеивали пелену старых верований, освобождали от их пут и молодого Гюго, выводя его на дороги больших исканий и первых побед.
* * *
В день поздней осени 1828 года Виктор Гюго идет по улицам Парижа. Город контрастов. Дворец Тюильри – и лачуги у заставы Сен-Жак. Веселый говор бульваров, звуки песен, поцелуи влюбленных и рев толпы у подножья эшафота. Контрасты. Они пронизывают всю жизнь. Поэт все больше убеждается в этом.
История – это цепь контрастов. Головы венценосцев под ножом гильотины. Республика, рождающая империю. Идея свободы, породившая террор. Властелин полумира, ставший изгнанником, окончивший свой век в плену на далеком острове.
В искусстве эти контрасты дают движение, помогают выявить истину. А в жизни они иногда слишком жестоки.
Задумавшись, Гюго не заметил, как очутился на Гревской площади. Прямо перед ним здание Ратуши. Угрюмый фасад, темный даже при ярком солнце, и этот хмурый день выглядит особенно зловеще. Над островерхой кровлей тянется до странности тонкая колокольня, на ней огромный белый циферблат, будто одинокий злой глаз, уставившийся прямо на место казни. Вот он, громадный помост, выкрашенный в красный цвет, подножье гильотины. Каторжники называют ее «вдова». Около гильотины копошится человеческая фигура. Старательно смазывает салом заржавевшие от осенних дождей шарниры и пробует, хорошо ли действует механизм. Это палач «репетирует» вечернее представление.
На площади уже толпятся зеваки. Гюго вспоминает, как три года назад он был здесь в день казни.
Густая толпа запрудила тогда не только площадь, но и окрестные улицы. Из окон домов высовывались любопытные лица – окна в такие дни сдаются внаем. Шеи вытянуты. В глазах лихорадочный блеск. Позорная колесница – телега с осужденным приблизилась к помосту. Несчастного поволокли по ступеням эшафота. И толпа увидела молодое лицо, искаженное смертельным страхом.
И сегодня перед толпой парижан развернется такое же зрелище. Судорожное ожидание. Стрелка на огромном белом циферблате будто застывает в такие мгновенья. Как только она покажет четыре часа, нож гильотины упадет. Что чувствует осужденный, когда его, связанного, одетого в смирительную рубаху, тащат на эшафот под многотысячными жадными взглядами?
Как можно терпеть это? Как не восстанут люди? Как не закричат: «Довольно!»?
Он должен поднять голос. Голова и сердце горят. Мысли мчатся с неимоверной быстротой. Рождается замысел…
Прежде всего надо побывать в тюрьме, в камере смертника. Все увидеть своими глазами, представить и пережить все чувства осужденного на смерть, как будто самому стать им.
Начинается бешеная работа. Воображение должно соединиться с точными фактами.
Вместе со скульптором Давидом д'Анже Гюго едет в Бисетр. На воротах этого учреждения еще сохранилась надпись «Убежище для престарелых», но теперь здесь содержатся умалишенные и опасные преступники. «На расстоянии Бисетр имеет довольно величественный вид… Но чем ближе, тем явственнее дворец превращается в лачугу… Стены словно разъедены проказой. В окнах не осталось ни зеркальных, ни простых стекол, они забраны железными толстыми решетками, к переплетам которых то тут, то там льнет испитое лицо каторжника или умалишенного».
Такова жизнь, когда ее видишь вблизи. К входу подъезжает «черная карета». В ней очередная жертва правосудия.
Гюго и его спутник входят внутрь здания. Тюремный надзиратель ведет их по узким коридорам. Вот камера осужденного.
«Восемь квадратных футов. Четыре стены из каменных плит… охапка соломы, на которой полагается отдыхать и спать узнику, летом и зимой одетому в холщовые штаны и тиковую куртку».
«Во всей камере ни окна, ни отдушины. Только дверь, где дерево сплошь закрыто железом». Над дверью отверстие в девять квадратных дюймов, заделанное железными прутьями. И днем и ночью у камеры караульный. Когда бы осужденный ни поднял глаза к отверстию над дверью, он встречает глаза, неотступно следящие за ним.
На потолке и стенах лохмотья пыли и паутины. Кое-где виднеются полустершиеся надписи. Имена приговоренных. Следы, оставленные теми, кто ожидал здесь смерти.
В следующий раз Гюго пришел сюда в тот день, когда каторжников должны были заковывать в кандалы перед отправкой в Тулон. Он наблюдал эту жуткую процедуру из окна тюремной камеры, куда привел его надзиратель.
В тюремный двор, громыхая, въехала телега с грузом из железных цепей и ошейников. Сюда же вывели осужденных и перед каждым из них бросили холщовую одежду каторжника.
– Живо переодевайтесь!
В это время хлынул холодный дождь. Зеваки спрятались под навесом, но каторжники должны все терпеть. Грубые шутки и смешки умолкли; люди стоят обнаженные под ливнем, холщовые их рубища промокли насквозь.
«Только один старик пытался еще зубоскалить. Утираясь промокшей рубахой, он заявил, что это „не входило в программу“, потом громко расхохотался и погрозил кулаком небу».
«Каторжников заставили сесть прямо в грязь на залитые водой плиты и примерили им ошейники; потом два тюремных кузнеца, вооруженных переносными наковальнями, закрепили болты холодной клепкой, изо всей силы колотя по ним железным брусом… При каждом ударе молота по наковальне, прижатой к спине мученика, у неге отчаянно дергается подбородок: стоит ему чуть отклонить голову, и череп его расколется точно ореховая скорлупа».
Их закуют и отправят в Тулон на галеры. На долгие годы. И никто из них уже, вероятно, не вернется домой.
Гюго еще не раз наведывался в Бисетр. Он познакомился с жаргоном каторжников, узнал истории их жизни, сделал много записей, заметок. Перед ним открылось мрачное, зловонное дно Парижа. Нищета, голод, людские страдания. Когда-нибудь он напишет роман о жизни каторжника. Он расскажет историю человека, отвергнутого обществом, заклейменного им. А сейчас у него иная цель. Он должен внушить и тем, кто наверху, и ревущей толпе у помоста ужас и отвращение к смертной казни.








