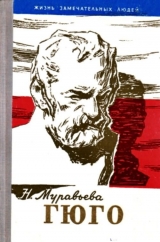
Текст книги "Гюго"
Автор книги: Наталья Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
* * *
Склонившись над листом бумаги, Виктор Гюго набрасывает статью о комедии Скриба, которую недавно видел в театре. Читатель должен думать, что в журнале очень много сотрудников и среди них есть убеленные сединами солидные люди, с мнением которых необходимо считаться. Например, д'Оверне пишет иначе, чем Аристид, Публикола отличается от Петиссо. А сколько в журнале литераторов, подписывающих свои статьи одной буквой: B, E, H, M, O, V… Кто может предположить, что вся эта армия журналистов – один человек и этому человеку едва исполнилось семнадцать лет!
Мысли так и бегут, сравнения, метафоры сами собой выскакивают из-под пера.
Журналисту надо буквально всюду поспевать. Спектакли, выставки картин, концерты и масса новых книг различных жанров: стихи, поэмы, романы, драмы, ученые сочинения – обо всем надо иметь свое мнение. Эрудиция настоящего журналиста должна быть безгранична. Виктор это понимает. Запасы образов из старинных легенд, мифов, из библии, из сочинений классиков, из современных романов и драм, груды фактов из всевозможных справочников и к тому же собственные впечатления – виденное своими глазами. Все это надо суметь мгновенно мобилизовать, расставить по местам и двинуть в бой.
Его многочисленные статьи о литературе посвящены и крупнейшим писателям – Лесажу, Вольтеру – и молодежи, которая только начинает свой путь. Пытаясь осмыслить пеструю литературную жизнь, Гюго уже видит, что современная ему французская литература бедна.
В заметках о литературе 1820 года он пишет: «Бедное наше время! Масса стихов, но нет поэзии, много водевилей, но нет театра… Когда же этот век даст литературу на уровне своего социального движения, поэтов, столь же великих, как и события?»
Он рецензирует в журнале не только художественные произведения, но и исторические труды. Чтение Тацита с детства развило в нем вкус к истории – Виктор перелистал десятки томов, посвященных истории Франции и других стран. Ему хотелось проникнуть в дух народов; изучая события прошлого, яснее понять современность. Но авторы многотомных сочинений, к сожалению, не всегда помогают в этом читателям; излагая факты, ученые мужи редко вникают в их внутренний смысл. «Большая часть наших книг по истории представляет собой не что иное, как хронологические таблицы и перечень фактов», – замечает Гюго.
Он прочел исследование Левека по русской истории. Судьбы России и ее роль в развитии исторических событий особенно остро интересуют многих людей Запада после войны 1812 года.
«В Европе сейчас три исполина – Франция, Англия и Россия, – пишет Гюго. – После недавних политических потрясений каждый из этих колоссов занял свою особую позицию и сохраняет ее. Англия продолжает удерживаться, Франция подымается вновь, Россия восходит. За одно столетие с удивительной быстротой выросло это молодое государство посреди старого материка. Его будущее чрезвычайно весомо для наших судеб. Не исключена возможность, что „варварство“ России еще обновит нашу цивилизацию… Это будущее России, столь важное сегодня для Европы, придает особую значительность ее прошлому».
Из трех объемистых томов материалов, напечатанных в журнале «Литературный консерватор» за пятнадцать месяцев его существования, два тома составляют оды, сатиры, статьи и обзоры, написанные Виктором Гюго, выступавшим под разными именами.
Конечно, далеко не все суждения молодого Гюго отличаются глубиной и зоркостью. Нередко он повторяет привычные мнения, поет с чужого голоса. И все же многие его статьи и рецензии обнаруживают не только поистине редкую для юноши его возраста эрудицию, но и меткость оценок, умение выделить значительное в произведении.
Гюго остро ощущает кризис, переживаемый французской литературой, и прав, говоря о ее бедности.
К началу двадцатых годов XIX века еще не выступили великие французские писатели, которым по плечу было осмыслить череду ошеломляющих событий предшествующего тридцатилетия, но уже появились первые предвестники будущего расцвета и обновления.
Когда прошло опьянение, вызванное «громом побед», когда поникли наполеоновские знамена и Франция вновь подпала под обветшавшее ярмо старого режима, протест и разочарование широких кругов стали нарастать с каждым годом. Возникали тайные общества, заговоры против монархии Бурбонов. В оппозиции к ней объединялись различные политические партии: республиканцы, либералы, бонапартисты. Уже распространялись идеи великих мечтателей Сен-Симона и Фурье.
Растущий протест отражался и в литературе.
В то время как Гюго строчил очередную торжественную оду или статью для «Литературного консерватора», его старший современник, сорокалетний Пьер Жан Беранже, сочинял новую политическую песню. Он хлестал, разил, высмеивал безмозглых «маркизов Караба», примчавшихся на тощих скакунах из эмиграции в родовые поместья, чтобы роскошествовать, высасывая соки из крестьян.
Задумал старый Караба
Народ наш превратить в раба.
Но народ должен восстать против жадной чванливой своры, Беранже мечтал об этом. Он призывал народы Европы объединиться в «Новый священный союз», противостоящий союзу королей и императоров. Из уст в уста передавались его вольные, искрометные песни.
Прислушивались французы и к голосу другого честного и смелого писателя. По всей стране распространялись памфлеты Поля-Луи Курье. Друг виноградарей и землепашцев, защитник трудового люда, он обличал угнетателей.
А из туманной Англии несся голос Байрона.
Гюго зачитывался его сочинениями. «Странствования Чайльд-Гарольда», стихи, южные поэмы… Они кипели гневом, ненавистью к миру тунеядцев, ханжей и палачей, к тому миру, где
Чулки драгоценнее жизни людской,
И виселиц ряд оживляет картину,
Свободы расцвет знаменуя собой.
В мрачном и горделивом байроновском герое как будто проступали черты сходства с Шатобриановым Рене. Горечь, разочарование, одиночество. Сходство и в то же время какое огромное различие!
Герой Байрона душой с теми, кто борется: с испанцами, отстаивающими родину от захватчиков-французов, с ткачами, в отчаянии ломающими машины, с помощью которых все больше закабаляют рабочих хозяева.
Герой Шатобриана глядит в прошлое, бежит от борьбы, ищет свободы лишь для себя одного. Ему мила католическая религия, с ее «таинствами» и лжечудесами, он окружает ореолом то, что ненавистно таким, как Беранже и Байрон.
Байрон был одним из первых в Европе революционных романтиков; Шатобриан – одним из зачинателей реакционного романтизма.
Современники, в том числе и молодой Гюго, не отдавали себе ясного отчета в существе этих различий. Термин «романтизм» вообще не имел тогда четкого содержания. Романтиками называли всех писателей, недовольных миром и собой, ищущих новые пути в литературе. Между тем поиски эти велись с разных сторон.
Не все ранние французские романтики шли вслед за Шатобрианом, хотя его и называли главой «новой школы». Во французском романтизме уже наметилась другая линия. Героини Жермены де Сталь смотрели не в прошлое, а вперед, пусть даже горизонты их и были ограничены. Эта писательница стояла на либеральных позициях. Их занимал и ее друг Бенжамен Констан, видный писатель и политический деятель, автор талантливого романа «Адольф» (1816). И госпоже Сталь и Констану были чужды феодально-католические устремления Шатобриана; взгляды их для своего времени были прогрессивны, хотя и далеки от революционности.
В 1818 году вышел роман Шарля Нодье «Жан Сбогар». Его герой, романтический разбойник, во многом перекликался с героями Байрона, уступая им, однако, и в силе протеста и в художественной выразительности.
И все же ярких, новаторских книг в первое двадцатилетие XIX века во Франции появилось мало. Особенно отставали от жизни «высокая» поэзия и драматургия. В поэтических отделах журналов господствовали бесцветные, тяжеловесные оды. На сценах театров герои подражательных трагедий в напудренных париках времен Людовика XIV произносили напыщенные монологи, боролись, любили и умирали по правилам устаревшей поэтики.
Дух подражания, оглядка на прошлое явно тормозили развитие нового и живого в литературе. По «правилам», регламентированным в знаменитой книге писателя XVII века Буало «Поэтическое искусство», литературные жанры отделялись один от другого непроницаемой стеной. Трагическое не могло сочетаться с комическим; сюжеты трагедий черпались преимущественно из древней истории, из античности. Действие пьес сковывалось требованиями так называемых трех единств. Все изображенные в пьесе события должны были укладываться в одни сутки и происходить в одном месте. Язык «высоких жанров» литературы был отгорожен от живой речи, сглажен, подстрижен, выровнен, отполирован. В трагедию не допускались герои-простолюдины, а в стихотворный язык – «слова-плебеи». Движение стиха сковывалось ритмическими канонами. В «высоких жанрах» законным считался александрийский стих, двенадцатисложная строка, разделенная на две равные части интонационной паузой – цезурой.
Принужденная жеманно выступать в жестком корсете старых правил, придавленная запретами, французская поэзия под пером эпигонов начинала блекнуть и чахнуть.
Защитники старины в литературе были в большинстве своем защитниками старого режима в политике.
Ученые «мэтры», засевшие в Академии, в школах и лицеях, министерские чиновники, редакторы официальных журналов и их подручные всячески ограждали литературу от вмешательства новаторов – «бунтарей», видя в них нарушителей общественного порядка.
Литературные позиции юного Гюго в годы его работы в журнале еще не определились. Он хотел быть одновременно и хранителем старого «хорошего вкуса» и другом свободы; и поклонником музы Шатобриана и последователем Байрона; и традиционалистом и новатором. Уже стихийно нарушая в своих произведениях «нерушимые» нормы классицизма, он, однако, не помышлял еще о присоединении к какой-либо новой литературной «школе». Зачем говорить о классиках и романтиках, поднимать отвлеченные споры, когда надо попросту различать, что хорошо, а что плохо в произведении, думал он.
Похороны и свадьба (1818–1822)

Под вечер, в час отдыха, братья Гюго вместе с матерью навещают своих старых друзей – семью Фуше.
Они идут пешком. Здание Военного совета, где живут Фуше, недалеко от улицы Августинцев. Впереди рука об руку шагают двое юношей в скромных темных костюмах – оба среднего роста, крепкие, широкоплечие. За ними следом – маленькая женщина в мериносовом платье розовато-лилового цвета, на плечах у нее шаль, затканная пальмовыми ветвями, на руке неизменный ридикюль.
Братья идут молча. Оба задумались о чем-то. Весна, цветут каштаны, на деревьях как будто белые свечи. Солнце заходит, тени домов становятся длиннее и кажутся сиреневыми. Госпожа Гюго то и дело поднимает глаза и смотрит на сыновей. Виктор так и рвется вперед. Кажется, отпусти Эжен его руку, он помчится, полетит.
Чем объясняется это нетерпение? Ведь тихие вечера в семейном кругу как будто не могут представлять ничего особенно заманчивого для юноши его возраста.
Просто обставленная комната. Ярко пылает камин. За круглым столиком все те же лица. Пьер Фуше всегда погружен в чтение газеты. Женщины заняты рукоделием, юноши тихо переговариваются между собой. Впрочем, больше молчат.
Изредка звучит голос госпожи Гюго. Она протягивает своему старому другу табакерку.
– Не угодно ли?
– Пожалуй, – отвечает Пьер Фуше. Или: – Спасибо. Я только что нюхал.
Книга открыта перед Виктором, но он не читает. Он смотрит на девичье лицо, склоненное над вышиваньем. Вдруг длинные ресницы взлетают и два карих глаза глядят прямо в его глаза. Но когда мать поднимает голову, Виктор смотрит только в книгу.
Госпожа Гюго останавливает взгляд на лице сына. Нет. Она ничего не заметила. Она просто любуется чистым строгим лицом юноши. А вот Эжен все замечает, только молчит. Ему очень хочется, чтоб Адель взглянула и на него, но она только на Виктора и смотрит.
Госпожа Гюго возвращается к своему вязанью. Может ли она предположить, что ее правдивый сын, которого, как ей кажется, она видит насквозь со всеми его планами и мечтами, вдруг стал что-то скрывать от нее?
Они возвращаются домой. Поздний вечер. Мать укладывается в постель и открывает томик Вольтера или последний выпуск журнала «Литературный консерватор», где напечатаны новые статьи и стихи Виктора.
А Виктор сидит в это время у своего стола. Каждый вечер он пишет Адели обо всем пережитом и передуманном за день.
Ее ответы не очень регулярны, сдержанны, она боится писать о своих чувствах, боится встречаться с ним наедине, а вдруг узнают родители, что тогда будет? И все-таки они иногда видятся тайком в Люксембургском саду.
Старшие, конечно, засмеялись бы или возмутились, если б узнали об их чувствах. Совсем еще дети – ему семнадцать, ей шестнадцать, да к тому же оба бедны – и вдруг какие-то разговоры о любви, о браке. А они дали друг другу слово. Виктор знает, чтоб жениться на Адели, надо встать на ноги. И он будет работать изо всех сил. Он завоюет и счастье и славу!
* * *
Февральским утром 1820 года на улицах, в лавках, в частных квартирах парижан на все лады обсуждалось последнее событие. Сын графа д'Артуа, возможный наследник престола, герцог Беррийский был убит накануне вечером при выходе из театра. Его убил ударом кинжала республиканец Лувель. В журнале «Литературный консерватор» Гюго поместил обзор откликов печати на смерть герцога Беррийского и сейчас же начал сочинять оду, посвященную этому событию.
Лувель был приговорен к смертной казни. Виктору это возмездие казалось справедливым. И все же что-то дрогнуло в нем, когда во время прогулки по городу он столкнулся с шествием осужденного к месту казни. Живого человека связали веревками и ведут на убой, как животное. Если Лувель совершил свое преступление в одиночку, то тут в убийстве участвует целое общество и делает это хладнокровно, обдуманно. Такие мысли были мучительны. Они как-то не вязались с торжественной одой, которую сочинил Виктор, но отделаться от них было трудно.
В оде, созданной с истинно журналистской быстротой, не было места сомнениям. В ней поэт, исполненный негодования против убийцы, прославлял династию Бурбонов. Ода была напечатана в февральском номере «Литературного консерватора», а потом Абэль при помощи своих друзей-типографов издал ее отдельной брошюрой.
О Викторе Гюго говорили в Париже как о поэте, подающем большие надежды. Ему передали, что знаменитый Шатобриан с похвалой отозвался об оде «На смерть герцога Беррийского» и назвал Гюго «возвышенным ребенком».
Еще одну награду завоевал молодой поэт: Тулузская Академия за оду «Моисей на Ниле» присудила ему почетное звание «магистра Флорийских игр».
Как он был бы счастлив, если б мог сложить все эти победы, награды, призы, похвалы к ногам Адели! Но он больше не видит ее, и писать письма ему запрещено.
Мать Виктора открыла их тайну, заметила те немые разговоры, что они вели у камина. В день годовщины их тайного обручения – 26 апреля 1820 года – влюбленных разлучили. Самый счастливый день в году стал для Виктора самым несчастным.
Мать резко прервала всякие отношения с семьей Фуше – своими единственными друзьями, чтоб удержать сына от шага, который, как ей казалось, будет для него гибельным.
Все кругом потускнело для Виктора. Он знает: Адель не согласится встречаться с ним тайком от родителей. Как передать ей, что он всегда будет любить ее? И он нашел способ. В журнале «Литературный консерватор» появилась «Элегия изгнанного». Фуше выписывают этот журнал. Адель должна понять, к кому обращены строки:
Думай обо мне всегда
И клятвам нашим будь верна…
* * *
Друзья передали Виктору Гюго, что Шатобриан удивляется, почему молодой поэт до сих пор не сделал никаких шагов, чтоб встретиться с ним. И вот Гюго звонит у дверей дома прославленного писателя.
Сердце стучит так громко, что кажется, будто все кругом слышат этот стук. Слуга ведет Виктора в гостиную. Шатобриан стоит спиной к камину, милостиво кивает и, не меняя позы, обращается к юноше:
– Мосье Гюго! Очень рад вас видеть. Я читал ваши стихи – и на Вандейскую войну и на смерть герцога Беррийского. Моя старость дает мне право быть откровенным, а потому я без стеснения могу сказать, что есть строки в ваших одах, которые не особенно мне нравятся, но зато хорошие места написаны поистине безукоризненно.
Виктор чувствует себя и польщенным и несколько уязвленным, он произносит какие-то учтивые слова, ему хочется скорее убежать домой. Хорошо, что в комнату входят другие гости и внимание хозяина отвлечено от молодого поэта. Теперь Виктор может поднять глаза и рассмотреть Шатобриана.
Он невысок, но так гордо держит голову, что кажется высоким. Во всей фигуре видна военная выправка, плечи широкие, черный сюртук застегнут доверху. Выражение лица строгое и надменное, взгляд величавый. Редко на этом лице появляется улыбка.
Гюго написал оду «Гений», обращенную к Шатобриану, и после первого визита нередко навещал его. Но подлинной духовной близости ни теперь, ни позже между ними так и не возникло.
* * *
Мерцает ночник. Тикают часы. Слышится хриплое, прерывистое дыханье больной. Заснула ли она? Наступит ли, наконец, улучшение?
В последнее время госпожа Гюго часто прихварывала.
– Это все потому, что мне не хватает воздуха, зелени, – жаловалась она сыновьям. Она всегда любила цветы, деревья. Вспоминала Фейльянтины. Наконец нашла новую квартиру, небольшую, но зато с садом. Радовалась, спешила переехать, даже не хотела дождаться, пока сделают ремонт.
– Сама справлюсь. Сыновья помогут. Мужчины всё должны уметь делать своими руками, да к тому же и деньги сэкономим, – говорила она. И они красили, белили, клеили, как заправские маляры и обойщики. А потом началась работа в цветнике. В один особенно теплый весенний день госпожа Гюго решила во что бы то ни стало привести в порядок все клумбы. Сказано – сделано. Она всегда была такая. Устала, разгорячилась, выпила холодной воды и на другой день слегла. Началось воспаление легких.
Еще совсем недавно все это было, а Виктору кажется – давным-давно. Одна такая ночь у постели больной как целая вечность.
27 июня 1821 года после полудня Виктор и Эжен сидят вдвоем у постели матери. Она не просыпалась с самой ночи. Может быть, ей станет лучше. Виктор наклонился, тихо коснулся губами ее лба и почувствовал ледяной холод.
Трудно возвращаться в опустевший дом после похорон. Каждая вещь напоминает ту, кто была душой этого дома. Шаль с пальмовыми ветвями. Томик Вольтера…
– Надо написать отцу, – говорит Абэль.
Виктор пишет, с трудом сдерживая рыданья:
«Вчера в три часа дня, после трех лет страданий, месяца болезни и восьми дней агонии она умерла. Ее похоронили сегодня в шесть часов вечера».
Совсем стемнело. Виктор бредет один по улицам, не отдавая себе отчета, где он, и неожиданно оказывается около здания Военного совета. Здесь живут Фуше. Уже поздно, но их окна почему-то освещены особенно ярко, некоторые распахнуты, и оттуда несутся звуки музыки, смех.
Он поднимается по знакомой лестнице. Проходит через пустой зал. Свечи зажжены. Навстречу идет бледный юноша с остановившимся взглядом, на шляпе черный креп. Это зеркало. Это он сам идет по пустому залу. Останавливается у стеклянной двери, глядит. Вот она, Адель. Танцует. Веселая, нарядная, с цветами в черных кудрях. Как она может веселиться, когда у него такое горе? Без сил он прислоняется к дверной раме. А потом уходит из этого дома в ночную темноту. Один.
Наутро он снова пришел к зданию Военного совета. Кажется, сами ноги несли его сюда. В саду он встретил Адель. Она бросилась навстречу и испугалась, увидев его убитое лицо.
– Что случилось?
Он сказал ей о своем горе. Адель заплакала. Она ничего не знала об этом вчера, когда танцевала с цветами в волосах.
Вскоре Фуше уехали на дачу в двадцати лье от Парижа. У Виктора не было денег на дилижанс, и он отправился туда пешком.
Весь в пыли, обожженный июльскими лучами, шагал он, обдумывая план действий. Он разыщет дом, где живут Фуше, передаст письмо ее отцу и будет просить руки Адели.
После письменных, а потом устных переговоров с Пьером Фуше согласие было получено. Правда, с оговорками. Виктор будет считаться женихом Адели, но свадьбу придется отложить на неопределенный срок. Пусть он встанет на ноги.
Положение трудное. У Виктора нет ни регулярных заработков – журнал «Литературный консерватор» прекратил свое существование, – ни чьей-либо помощи – генерал Гюго решительно отказал сыновьям в материальной поддержке.
Квартира, которую они так спешно красили и белили вместе с матерью, теперь не по средствам; Виктор и Эжен сняли мансарду на улице Дракона.
* * *
Бродить, предаваясь раздумью, – это, кажется, самое любимое занятие молодого Гюго.
Соседи, прохожие, вероятно, думают, глядя на него со стороны, – бездельник, мечтатель, слоняется без цели. Потертые рукава, стоптанные башмаки, шляпа такая старая и помятая, что девушки при встрече насмешливо улыбаются. А он не торопится найти службу, он ходит и думает.
Болезнь матери приостановила начатую им работу над романом «Ган Исландец». Теперь он ее продолжит. Как лучше строить роман? Что интересует читателей? Что взять за образец? Есть чему поучиться у Вальтера Скотта: исторический колорит, драматическая интрига. Этого замечательного писателя французы называют «шотландским чародеем».
А в последнее время весь Париж прямо-таки бредит «черными романами», романами тайн и ужасов. В них призраки, замки, сундуки с трупами, необычайные приключения. Их много перевели с английского: романы Анны Радклифф, роман Мэтюрена «Мельмот-скиталец». Как набросились на эту книгу читатели! Им хочется чего-то захватывающего, напряженного, сама жизнь последних десятилетий поистине фантастична, полна контрастов, неожиданностей, крутых перемен.
И Виктор Гюго в своем романе тоже отдаст дань стремлению к необычайному. Его Ган Исландец – загадочный нелюдим. Живет в пещере. Чашей ему служит человеческий череп, он пьет из него морскую воду. Тайны, преступления, ужасы. Чудовищное и рядом прекрасное, идеальное. Конечно, любовь. Какой же без нее роман?
В целом роман должен походить на обширную драму, думает Гюго. Все лица следует обрисовывать в действии – это принцип Вальтера Скотта, и очень важный. Вместо театральных костюмов и декораций – описания. Надо основательно изучить по книгам исторические и географические детали – «исландский колорит». Роман в целом уже сложился в его голове, теперь пора обдумать эпизод за эпизодом.
Смеркается. Виктор много бродил в этот день и основательно проголодался. Он покупает крохотный хлебец и, пряча его от любопытных взглядов, несет в свою мансарду. Там его ждет ужин: остатки сыра и косточка от бараньей котлеты за шесть су.
Нужда. Каждый су на счету. Ничего, зато он никому не должен, ни перед кем не унижается, живет своим трудом и когда-нибудь создаст что-то большое, значительное. Он верит в это.
Мечтами, планами, замыслами молодой поэт делится с Аделью. Во время коротких свиданий в Люксембургском саду под надзором госпожи Фуше влюбленные не успевают наговориться, и Виктор продолжает беседы в письмах.
Он пишет Адели обо всем, что волнует его самого: о жизни, любви, поэзии.
«Одна стихотворная форма еще не составляет поэзии, – пишет он. – Поэзия заключается в идеях, а идеи исходят из души. Стихи, в которые облечена мысль, – это не более, чем красивая одежда для прекрасного тела».
Рассказывает ей Виктор и о своих огорчениях:
«Не знаю, какой злой демон толкнул меня на это поприще, где на каждом шагу наталкиваешься на скрытую вражду или на мелкое, завистливое соперничество… Я желал бы внушить тебе уважение к великой и благородной литературной профессии, но с горечью должен сознаться, что она слишком часто представляет собой поле для изучения всех человеческих низостей…»
Да, в этих вечерних письмах-исповедях прорываются порой горькие ноты. Юноше трудно. Но у него твердый характер. И он станет еще тверже. Быть стойким в невзгодах. К этому надо стремиться. Но этого мало. Истинным поэтом может стать лишь человек с высокими нравственными идеалами. Молодой Гюго твердо убежден в этом. У поэта особая ответственность перед людьми.
«Бесчестный поэт – это существо более презренное, более низкое и виновное, чем всякий другой, лишенный поэтического дара», – пишет Гюго своей невесте.
Иногда жизнь ставит перед юношей нелегкие задачи. В начале 1822 года Виктор узнал, что товарищ его детских игр Эдуард Делон участвовал в заговоре против короля и находится в опасности.
Как поступить? Конечно, легко было бы отойти в сторону, закрыть глаза, признать Делона виновным и успокоиться. Но Виктор решил помочь другу. Он послал письмо его матери:
«Я не знаю, арестован ли несчастный Делон. Не знаю, какая кара постигнет того, кто станет укрывать его. Пусть даже мои убеждения диаметрально противоположны его взглядам. В эту минуту опасности я знаю одно: он мой друг… Если он не арестован, предлагаю ему убежище у себя…»
Лишь несколько лет спустя Виктор узнал, что письмо это было вскрыто тайной цензурой, копию его доставили в Тюильри и за мансардой на улице Дракона установили слежку. Но Делон не пришел. Ему удалось бежать из Франции. Потом Виктору стало известно, что Делон сражается в рядах греческих повстанцев.
Греция. Все кругом говорят о ней. Эта страна поднялась против турецких поработителей. Отряды повстанцев растут, они пополняются добровольцами из разных стран Европы. Многие юноши с горячими сердцами рвутся на помощь маленькому, но великому в своей героической борьбе народу.
Как будто беспокойный ветер несется с Балкан по всей Европе. И не только с Балкан. Дуновение вольных ветров доносится из Испании, которая пытается сбросить с себя реставрированное ярмо абсолютной монархии Фердинанда VII. И в Италии не прекращаются революционные вспышки. Революции в Неаполе и Пьемонте подавлены Священным Союзом при помощи австрийских штыков, но брожение продолжается.
Много слухов ходит в Париже о тайных обществах итальянских заговорщиков, которые называют себя карбонариями – угольщиками. Во Франции тоже начинают организовываться тайные общества. Может быть, Делон был членом одного из них? Виктор ничего не знает об этом. Но голоса жизни настораживают, заставляют мучительно раздумывать. Они звучат все сильнее, все смелее.
В 1821 году вышла книга «Новых песен» Беранже. Правительство затеяло против поэта судебный процесс. Песня Беранже «Старое знамя» была в эти годы своего рода боевым кличем заговорщиков. Под сенью старого трехцветного знамени возникали тайные общества, в которых участвовали и юные студенты и седовласые ветераны.
Как ты ни выцвело с годами,
Я скоро пыль с тебя стряхну, —
обращается герой песни Беранже к старому знамени. Песню эту подхватывают все недовольные режимом Бурбонов, а их становится больше и больше.
Восьмого декабря 1821 года густая толпа парижан окружила здание суда. Судьи не могли пробраться к входу и вынуждены были влезать в окна. Сам Беранже более часа пробивался сквозь толпу, повторяя: «Господа, господа! Без меня все равно не начнут». Поэта приговорили к трехмесячному заключению и штрафу в 500 франков. Но песенки его доносились до парижан из-за тюремной решетки.
В кружке молодых писателей – друзей Гюго – больше беседуют о литературе, чем о политике, но политика вместе с самой жизнью врывается в литературу.
Друзья собираются обычно по воскресеньям, чаще всего в квартире Абэля. В один из весенних вечеров Виктор появляется последним. Он в новом парадном костюме василькового цвета, с золотыми пуговицами. Это предмет его тайной гордости. Еще бы! Костюм приобретен за счет строжайшей экономии. Каждый день приходилось урезать несколько су на еду. Это серьезное испытание воли. Приятели прекрасно понимают, что Виктор нарядился не для них. Он был на обеде у Фуше. Этим все сказано.
Абэль протягивает брату пачку каких-то листков.
– Это тебе сюрприз. Принимайся за корректуру своей книги.
– Какой книги?
– Сборника твоих од, надо сказать уже довольно многочисленных. Пора их собрать все вместе. Вот я и решил это сделать. Похитил некоторые твои рукописи – уж не сердись на меня! – и сдал типографу. Доволен?
Ну, конечно, Виктор восхищен таким сюрпризом. Он давно мечтал об этом, но не было денег. Абэль настоящий друг. Виктор перелистывает гранки. Все ли оды на месте? Он примется за корректуру сегодня же перед сном.
А сейчас друзья будут слушать новую поэму Альфреда де Виньи.
Молодой гвардейский капитан де Виньи невозмутим, почти никогда не улыбается, сдержан и сух, как англичанин. Военная выправка, строгий изящный профиль. Отпрыск знатного дворянского рода, разоренного революцией, Виньи гордится своим аристократическим происхождением. Герои его поэм мрачны и надменны, они презирают буржуазных людишек с их мелкими страстями, прозаическую повседневность; безгранично одинокие, они бегут в прошлое, в мечты, замыкаются в себе.
Когда Виньи кончил читать, возник спор, нужны ли идеальные герои в поэмах, драмах, романах. Виктор уверен, что нужны, а Виньи утверждает, что только зло можно встретить в жизни без примеси, добро же лишь иногда примешивается к злу, а в чистом виде не существует. Зачем же лгать, зачем очищать и приукрашивать жизнь в романах и поэмах?
В спор вмешиваются драматурги Сумэ и Гиро. Ну, конечно, идеальное необходимо в искусстве, какой же без него может быть конфликт в драме?
Сумэ в противоположность мрачному Виньи сияет яркой улыбкой. Волосы взбиты, взгляд вдохновенный. Ему уже сорок лет, но он сохранил что-то юношеское и в лице и в манерах. Его драма «Клитемнестра» готовится к постановке, главную роль играет знаменитый Тальма.
Виктор ценит опыт и, главное, доброту Сумэ. Но его удивляет робость, которую проявляет драматург в вопросах стихосложения.
– Как вы думаете, можно ли допустить в монологе героя строку: «Ты не спасение нашел, а гибель», – спрашивает Сумэ.
– Почему же нельзя?
– Разве вы не слышите, что стих нарушает правила, перескакивая через цезуру?
– Вздор, – говорит Гюго. – Я заставлю стихи перепрыгивать еще и не через такие преграды.
Разговор переходит к событиям дня. Один из друзей рассказывает, что встретил на улице Анри Бейля, писателя, который выступает под именем Стендаль и другими псевдонимами. Он недавно вернулся из Италии. Там после разгрома заговора карбонариев свирепствуют палачи и ищейки. Аресты, доносы. Властям теперь всюду мерещатся заговоры.
И во Франции не легче. Полицейские агенты шныряют всюду. Парижане скорбят о судьбе четырех сержантов из крепости Ларошель. Такие юные, так храбро держались во время суда! И всех четырех приговорили к казни за участие в заговоре против Бурбонов.








