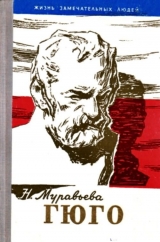
Текст книги "Гюго"
Автор книги: Наталья Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Это пруссаки!
В продолжение двух часов угрожающие выкрики раздавались все громче…
– Взломаем дверь!..
Но когда появилось бревно, уже занимался день. Днем слишком много света для некоторых деяний. Банда рассеялась…»
События этой ночи заставили Гюго о многом задуматься. Он вспомнил вторжение толпы бедняков в его дом в июньские дни 1848 года. Люди в лохмотьях, восставшие против богачей, ничего не тронули в пустом доме бывшего пэра Франции, находившегося по ту сторону баррикады. «Он выполняет свой долг», – сказали они. И вот другая толпа – толпа богатых щеголей. Говорят, что среди них был сын бельгийского министра. «Эти тоже полны ярости, – размышляет Гюго. – Против врага? Нет. Их привел в ярость добрый поступок; поступок, безусловно, обычный, но честный и справедливый… Приступ не удался отнюдь не по вине осаждающих. Дверь не была сорвана с петель только потому, что бревно притащили слишком поздно; ребенок не был убит только потому, что камень не попал ему в голову; хозяин дома не был искалечен только потому, что взошло солнце».
Какую же толпу следует назвать чернью?
Какая из них оказалась сборищем негодяев? Ответ один. Толпа преуспевающих счастливцев.
Бельгийские власти воздержались от каких бы то ни было расследований по поводу ночного налета на дом Гюго.
– Оглохшая полиция, ослепшее правосудие, – с горькой усмешкой говорит поэт.
Ни протокола, ни опроса, ни поисков виновных. Впрочем, виновным в глазах властей оказался один человек, и его изгнали. Уже вынесено решение бельгийского правительства.
«Господину Виктору Гюго, литератору, 69 лет, немедленно покинуть Бельгийское королевство и запретить ему возвращение сюда в будущем».
Несколько бельгийских депутатов выражают протест, предлагают поэту убежище. Гюго благодарит их в открытом письме. «Будущее рассудит, – говорит он. – Я без особого труда перенесу высылку. Быть может, это хорошо, что в течение всей моей жизни мне приходилось всегда быть немного гонимым».
В Париж, в стан торжествующих палачей, он не может, не хочет возвращаться. Надо найти какую-то нейтральную страну, где бы он мог продолжить борьбу и работу. Всей семьей – Жюльетта, Алиса и двое внучат – они едут в Люксембург. Там есть городок Вианден, который приглянулся поэту во время одного из его летних путешествий.
Тихий дом в маленьком живописном городе. Зелень. Пение птиц. Мир и покой. Но покоя нет. Каждый день из Парижа вести о новых расстрелах и арестах, о зверствах и жестокостях.
Гюго получил письмо от вдовы коммунара Мари Мерсье. Она слышала о его доброте и просит у поэта убежища. Он пригласил ее приехать, и скоро Мари появилась в Виандене. Юная, почти девочка, всего восемнадцать лет. Мари рассказывает ему, что пережила, что видела своими глазами.
Ты, сердце старое мое, дрожишь заранее
При виде слез скупых, отчаянья мужей,
Убитых скорбью жен и плачущих детей…
И опять он переносится мыслью в те страшные дни. Яростный Париж, задохнувшийся в дыму и крови.
И трупы множатся на каждом перекрестке…
Вот пленницу ведут. Она в крови. Она
Едва скрывает боль. И как она бледна…
А вот маленький герой. Он похож на Гавроша:
За баррикадами на улице пустой,
Омытой кровью жертв и грешной и святой,
Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.
– Ты тоже коммунар? – Да, сударь, не последний.
– Что ж, – капитан решил. – Конец для всех —
расстрел.
Жди, очередь дойдет!..
Все новые стихи присоединяются к написанным в дни обороны Парижа.
Вырастает новый сборник. Эти стихи пахнут дымом, сочатся болью, кричат о возмездии и призывают к милосердию. Они поэтическая летопись грозного года. Гюго так и назовет свой сборник «Грозный год».
«Девяносто третий» (1871–1873)

Из Виандена Гюго совершает короткое путешествие в Тионвиль. Он давно хотел побывать в крепости, которую защищал его отец. Тионвильские старожилы помнят храброго коменданта Гюго. Эти старики и старухи были в ту пору еще детьми, но рассказы об осаде передаются от дедов к внукам. Одна седая женщина уверяет поэта, что она видела его мальчиком, когда он приезжал сюда в 1814 году вместе с матерью. И Гюго не спорит с ней, хотя с матерью был тогда не он, а брат Абэль. С жадностью слушает поэт рассказы о прошлом, о своем отце.
С годами образ отца все вырастает в его памяти и воображении. Генерал Гюго – защитник Тионвиля, губернатор Мадрида, один из храбрейших командиров Рейнской армии Наполеона… А в далекие времена, которые уже стали легендой и которые теперь особенно близки старому поэту – ведь он пишет книгу о девяносто третьем годе! – в те далекие времена Леопольд Сижисбер был одним из людей в синих мундирах; они укрощали свирепую Вандею, воюя в лесах Бретани. Виктор Гюго бродил когда-то по этим лесам вместе с Жюльеттой – там ее родина – и уже тогда, блуждая по зарослям, представлял себе битвы, засады, резню – все, что происходило на этих полянках, в болотах, в чащах кустарников, все, что видели эти вековые деревья. Там, в этих лесах, будут воевать и герои его романа.
Книга о первой французской революции, одна из главных книг его жизни, будет создана. Теперь, после пережитого грозного года, давний замысел зовет его особенно властно. Пора, пора! «Исполни долг, мыслитель!» Писать о девяносто третьем годе – это участвовать в борьбе живых, в борьбе семьдесят первого года. Воскрешать образы гигантов революции – это биться со злобными карликами, которые, расправившись с Коммуной, пытаются задушить республику.
Первого октября 1871 года Гюго с семьей возвратился в Париж. Как не похоже это возвращение на прошлогодний триумф! Ни восторженных оваций, ни речей к народу. В Париже сейчас не та атмосфера. Тюрьмы набиты. Мостовая пропитана кровью жертв. Париж притих.
Плывут за океан, в трюм загнаны, как скот,
Вчерашние борцы, не ведавшие страха…
Не думать и молчать – приказ народу дан…
От площади Конкорд до кладбища Лашез
Спустилось на Париж, не ведавший покоя,
Глухое, тяжкое безмолвие ночное…
Победители торжествуют:
Ликующий Берлин шлет благодарность нам.
Открыться можно вновь кофейням и церквам…
Погиб Париж, зато порядок обрели мы.
Что мертвецов считать?..
Гюго знает, что в правительственных кругах его клянут, что в политических салонах на него клевещут, а в светских гостиных смотрят на него, как на пугало. На июльских выборах он не прошел в Национальное собрание. Бонапартисты открыто заявляют, что, вернись они к власти, Виктор Гюго был бы расстрелян немедленно, одним из первых. «Благонамеренные» литераторы шарахаются при звуке его имени. Некий Ксавье де Монтепен на заседании общества драматургов требовал высылки Гюго из Франции. Но громче всех каркают черные вороны – клерикалы. Они давно ненавидят поэта, и ненависть эта особенно сгустилась со времен «Возмездия», когда он открыто занес свой бич над пособниками палачей, укрытыми рясами и сутанами.
Благочестивые читаю я газеты.
Уж как меня честят! Одна дает советы:
Читателей моих всех в Шарантон упечь,
Мои развратные произведенья сжечь;
Другая просит всех прохожих со слезами,
Чтоб самосуд они мне учинили сами…
И люди из другого лагеря смотрят на Гюго без прежнего энтузиазма, глаза их стали суровее. Они еще не забыли, что в решающие дни поэт стоял в стороне от схватки. Но теперь побежденные увидят, что Виктор Гюго с ними. Они уже поняли это после его заявления, сделанного в Брюсселе. Со всех сторон несутся просьбы о помощи. Матери, жены, сестры коммунаров протягивают к нему руки.
«Сколько дела для писателя, и какая ответственность. Наряду с вопросами, полными угроз, вопросы, полные мольбы. Застенки, плавучие тюрьмы, женщины и дети, взывающие о помощи. Здесь мать, тут сыновья и дочери, там отец! Разбитые семьи, часть семьи ютится на чердаке, другая часть томится в камере. О друзья мои! Необходима амнистия! Амнистия! Зима наступает! Необходима амнистия! – взывает Гюго в письме к редакторам газеты „Раппель“. – Будем же просить, молить, требовать амнистии. И это в интересах всех… Амнистия прежде всего!.. Посмотрите на мостовую – и она ратует за амнистию…»
«Мы переживаем роковой кризис, – пишет Гюго 2 декабря 1871 года в газету „Демократия юга“. – После нашествия иноземцев – террор реакционеров… Цивилизация в опасности, мы чувствуем, что скользим по роковому склону… Крикнем: „Амнистия! Амнистия! Довольно крови! Довольно жертв!“ Пусть пощадят, наконец, Францию, это она истекает кровью!..
Я вспомнил вдруг, что сегодня 2 декабря. Двадцать лет назад, в подобный же час, я, гонимый, предупрежденный о том, что, если попадусь, буду расстрелян, боролся против преступления. Все обошлось; так будем же бороться!»
* * *
Зимой 1872 года в театре «Комеди Франсэз» готовится новая постановка «Рюи Блаза». В роли королевы должна выступить восходящая звезда парижской драматической сцены Сара Бернар. Молодая актриса не сразу согласилась участвовать в этом спектакле. Она наслушалась всяких небылиц про «разбойника Гюго», ее уверили, что поэт – отвратительное «старое чудовище». Стоит ли выступать в его пьесе? Но когда она познакомилась с ним – все переменилось. «Чудовище» оказалось очаровательным.
– Он так добр, так подкупающе любезен и всегда весел, – говорит Сара Бернар об авторе «Рюи Блаза»,
Поэт усердно посещает репетиции своей пьесы, он с наслаждением вдыхает забытый воздух театра, он в восторге от молодой «королевы», целует ее руки, он прямо-таки влюблен в нее. Жюльетта уже ревнует.
9 февраля состоялся первый спектакль, но автора, не пропускавшего репетиций, почему-то не было в театре в этот знаменательный вечер. Что с ним? Гюго не смог пойти в театр: к нему пришла мать коммунара, приговоренного к каторге, и он утешал ее. Маленькая, худенькая женщина в темном платье плачет, ломает руки:
– Неужели нельзя спасти моего мальчика?
А сколько таких матерей в Париже! Преследование коммунаров продолжается. Как будто живая, мучительная рана на теле Франции горит, сочится.
Эта боль тревожит Гюго сильнее личных ран и горестей, а они тоже не убывают. Утешая плачущую мать, поэт думал и о своих детях. Дети, его гордость, его надежда, уходят один за другим. Милый призрак Леопольдины. Могила. Шарля. Давно ли он похоронил его? И вот теперь угасает второй сын, его друг и помощник, разделявший с ним годы изгнания. Франсуа Виктор чахнет на глазах, у него туберкулез легких. Тенью самой себя стала младшая дочь. После долгих лет разлуки отец, наконец, увидел Адель, ее привезли из Канады, но свидание это не принесло ему радости. Замкнувшаяся для всего мира, с темным неподвижным взглядом, она никого не помнит, ничем не интересуется, ничему не радуется. Мертва при жизни. Только звуки музыки вызывают в ней иногда какое-то душевное движение.
Страшный год. Сможет ли старое сердце вынести столько ударов?
Гюго узнал о том, что 16 апреля 1872 года в Вилле-Котре должно состояться погребение Александра Дюма, прах которого перевезли на родину. Дюма умер в 1870 году. Не все в жизни Дюма Гюго одобрял и принимал, ему был чужд коммерческий подход писателя к выпуску романов. Но Гюго всегда был снисходителен к другу молодости, соратнику Гарибальди, непоседливому, жизнерадостному, несмотря на все невзгоды, и всегда великодушному Александру Дюма.
«Не знаю, был бы ли я в состоянии говорить на этой горестной церемонии, – пишет он Дюма-сыну, – острое волнение охватывает мою душу, слишком много могил открывается передо мной одна за другой… Разрешите же написать вам то, что я хотел бы сказать».
Он пишет о том бодрящем радостном свете, который несут книги Дюма.
«Александр Дюма пленяет, чарует, забавляет, учит. Из всех его произведений, столь многочисленных и разнообразных, столь живых, пленительных и могучих, исходит присущий Франции свет…
Александр Дюма и я – мы были молоды в одно и то же время. Я любил его, он любил меня. Александр Дюма был не менее велик сердцем, чем умом. То была благородная и добрая душа…»
* * *
Волнения и горести, шум и суета большого города, не прекращающаяся политическая борьба – все это почти не оставляет сил и времени для творчества.
А сколько замыслов еще не завершено! Гюго все чаще вспоминает Гернсей, комнату, где он не отрываясь часами стоял за своим пюпитром, и книги рождались на свет одна за другой.
– Гернсей, Гернсей, – мечтает вслух Жюльетта. – Как нам было хорошо там! Море, чайки, Отвиль-хауз, этот прекрасный дом, в каждый уголок которого вложена душа хозяина. И покой, нет этих актрис, которые каждую минуту отвлекают поэта от дела. Поедем на Гернсей!
И 7 августа они все вместе: Виктор Гюго с Жюльеттой, Алисой, Жоржем, Жанной и Франсуа Виктором, отправились на Гернсей.
Дубок, посаженный два года назад, окреп, подрос. Все так же кричат чайки и шумит океан у подножья «Скалы изгнанников». И девизы на стенах комнат, как знакомые голоса: «Жизнь – это изгнание!», «Люби и верь!» …Вот и люкаут, стеклянная галерея, где солнечный свет и шум моря сливались с его мыслями. Снова вставать с зарей. Снова долгие часы проводить у своего пюпитра, а потом совершать далекие прогулки по берегу моря или в глубь острова.
Поэт слушает лепет маленькой Жанны, открывает вместе с ней чудеса мира – они кругом! Птицы, букашки, цветы, камни, игра солнечных лучей… Но дети недолго пробыли на Гернсее. Алиса соскучилась в затворничестве, и 1 октября комнаты Отвиль-хауза опустели. Жорж и Жанна с матерью и Франсуа Виктором уехали в Париж.
Жюльетта блаженствует. Наконец-то они остались вдвоем с Виктором: он теперь возьмется за работу, а она каждый день будет переписывать новые страницы его большого романа. Он пишет о времени, ставшем легендой.
* * *
…И революция, в крестьянских башмаках
Ступая тяжело, с дубиною в руках,
Пришла, раздвинув строй столетий,
Сияя торжеством, от ран кровоточа…
Народ стряхнул ярмо с могучего плеча —
И грянул девяносто третий!
Тучи надвигались со всех сторон. Силы прошлого сплотились и пошли войной против зари новой эры. К Англии, к Пруссии простирали руки французские маркизы и виконты, эмигранты, бежавшие с родины. Бретань стала гнездом врагов революции, очагом реакционных мятежей. Змеями проползали эмигранты-аристократы через границу и подстрекали к мятежу темных, диких и косных вандейцев, обитателей бретонских лесов.
Маркиз Лантенак, эмигрант, пробравшийся в бывшие свои владения, станет одним из героев романа.
В лесах Бретани сражается с мятежниками-вандейцами республиканский батальон «Красный колпак».
«Я имею право писать об этой войне, в ней участвовал мой отец», – с гордостью замечает автор.
Страшная война в лесах, где каждое дерево может превратиться во врага, где в каждой заросли таится смерть. Тысячи бойцов республики сложили здесь головы. Великодушные становились на этой войне беспощадными. Но суровые глаза бойцов теплеют при виде детей. Мать с тремя малютками прячется в Содрейском лесу, отряд сержанта Радуба усыновил найденышей. Ночное нападение вандейцев – и почти весь отряд Радуба истреблен, дети в плену. Старый маркиз Лантенак свиреп и беспощаден, его воинство режет, жжет, сеет смерть, разруху, тьму.
Положение в Бретани становится опасным для республики. В парижском кабачке на Павлиньей улице совещаются три человека: Марат, Робеспьер и Дантон. Беседа гигантов. Спор о настоящем и будущем Франции. Гюго вглядывается в лица спорящих. Он хочет быть беспристрастным, но удается ли это ему? Не сказывается ли в изображении Марата страх певца милосердия перед принципом революционной непримиримости? Уже здесь начинается тот внутренний спор, который развернется в романе.
В полутьму кабачка доносится дыхание революционного города. Париж в 1793 году. Гюго видит его, заглядывает в ту залу, где заседает Конвент, слышит голоса улицы, знает в лицо каждого из героев революции. Он изучил и книги и документы об этом времени, и время и люди оживут в его романе. Но исторические деятели не сделаются главными его героями. Роман дышит свободнее, когда в нем действуют вымышленные герои. Вот они появляются на сцене, вступают на страницы рукописи.
Симурдэн. Расстрига-священник, присягнувший республике. Он отдал ей все – ум, волю, сердце и стал поистине человеком-принципом. Симурдэн назначен комиссаром армии, посланной республикой на усмирение Вандеи.
Командир армии Говэн – аристократ по происхождению, бывший виконт, превратившийся в страстного республиканца. Этот герой – любимое дитя автора (он дает ему имя, которое носила когда-то Жюльетта Друэ, урожденная Говэн). Говэн – внучатый племянник маркиза Лантенака и воспитанник Симурдэна. Узы крови связывают его с прошлым, зов сердца – с будущим. Узел завязан. Борьба начинается. Борьба двух лагерей, двух армий и борьба в душах героев.
Яростно атакуют синие замок Тург. Французы против французов. Говэн против Говэна. Бывший виконт идет на приступ своего родового замка, где засел Лантенак с горсточкой вандейцев. На третьем этаже замка в библиотеке беззаботно щебечут маленькие пленники, объявленные заложниками. Храбрый сержант Радуб с десятком смельчаков, оставшихся в живых от батальона, рвется быть первым в бою, отомстить врагам за убитых товарищей, выручить приемных детей отряда «Красный колпак».
Синие ворвались в замок. Но радоваться рано, Вандея не обезглавлена. Маркиз Лантенак бежал через подземный ход и унес ключ от железной двери башни, где заперты дети. Замок в огне. Через освещенное пожаром окно мать, подбегающая в эту минуту к замку, видит своих малюток. Вопль ее несется по окрестностям; Лантенак останавливается и после минутного колебания идет назад.
Железная дверь открыта, дети спасены, маркиз арестован. К замку подъезжает повозка, на ней гильотина, враг народа должен быть казнен на следующее же утро.
Но это не конец. Здесь-то и достигает своей вершины действие романа: Поле боя переносится в душу Говэна. Может ли он послать на казнь Лантенака, только что спасшего от огня детей? В глазах Говэна жестокий маркиз переродился после этого поступка. Но Лантенак – враг, заклятый враг, отпустить его – это нарушить верность долгу, присяге, изменить революции.
Что выше?
Принцип человечности, стоящий над эпохами и схватками, жалость, всепрощение, милосердие к врагу? Или революционная законность, долг служения республике, верность и непримиримость борца, служащего великой цели?
Разве этот спор шел только в 93-м году и только в душе Говэна? А в «Отверженных»? Не продолжает ли Говэн тот спор, который вели когда-то епископ с революционером? А в самой жизни? Разве не те же сомнения испытывал сам Виктор Гюго в 1848 году, а потом в дни Коммуны, когда боялся жестокости диктатуры и уходил от решения вопроса, по какую сторону баррикады встать ему?
И Говэн вступает на зыбкий путь. Накинув на Лантенака свой плащ, он отпускает его на свободу, а сам остается в темнице. Греза о милосердии, акт великодушия и всепрощения оборачивается предательством. Это сознает и герой и сам автор, и от этого им обоим особенно больно.
На следующий день Говэн прямо говорит об этом на суде:
– Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети – они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин; я забыл Францию, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен…
Он сам произнес свой приговор, ясный и недвусмысленный. Симурдэн голосует за казнь Говэна. Ночью он идет к узнику.
В последний раз сталкиваются два искателя абсолюта. Да, Симурдэн в глазах автора тоже своеобразный искатель абсолюта, фанатик революционного долга, который во имя настоящего, во имя победы высокой идеи сознательно ограничивает себя, не дает заманчивой мечте вторгнуться в суровую реальность.
– Ты витаешь в облаках, – говорит Симурдэн.
– А вы погрязли в расчетах, – отвечает Говэн…
– Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.
– Берегитесь, как бы возможное не стало невозможным.
– Возможное всегда осуществимо.
– Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?
– Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реальности. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, но зато приобретет в полезности; пусть она станет не столь широкой, зато станет вернее…
Но Говэна уже нельзя вернуть к реальности. Он ушел в свои мечты о будущем, и они заслонили от него настоящее. Гюго понимает это, он осудил Говэна его же устами, но он понимает и чувствует красоту его несбыточных мечтаний. Перенести, наперекор истории, идеал далекого будущего в суровое настоящее, об этом мечтает его герой. Совместить несовместимое. И эта дилемма здесь еще трагичнее, чем в «Отверженных».
Гюго дает слово Говэну.
«Так будем же всегда смотреть в сторону зари, рассвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить… Пусть каждый век совершает свое деяние; ныне гражданское, завтра просто человеческое».
«– Я хотел бы основать республику духа, – мечтает Говэн.
…– А пока чего ты хочешь? – спрашивает Симурдэн.
– Того, что есть.
– Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?
– Да.
– Почему?
– Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает целый лес. Цивилизация была покрыта гнойными язвами; великий ветер несет ей исцеление».
Еще раз, в последний раз сам мечтатель признал правоту реальности. И все-таки он не может оторваться от своей мечты.
Идеал человечности раскалывается, у него два лица: грозное, беспощадное лицо реальности и просветленное, всепрощающее лицо далекой мечты. Как это мучительно для мечтателя, жаждущего абсолюта!
Говэн с улыбкой уходит из жизни, он поднят на пьедестал, но не оправдан.
И железный Симурдэн тоже ушел из жизни: в минуту казни Говэна он покончил с собой.
Но победу ли Говэна означает этот выход в смерть?
Всю жизнь ведет Гюго сам с собой мучительный спор.
Вечное или преходящее? Общечеловеческое или злоба дня? Идея всепрощения или борьба отверженных, их справедливый бунт? Единое раскололось на две половины, два абсолюта. И пока идеал будущего остается для мечтателя неким абсолютом, пока он не сольется до конца с борьбой за будущее в настоящем, выход из лабиринта не может быть найден, хотя впереди и маячит ослепительный свет «Коммуны будущего».








