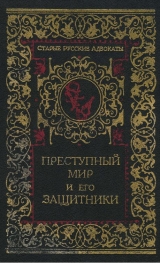
Текст книги "Преступный мир и его защитники"
Автор книги: Н. Никитин
Жанры:
Классические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Правительствующий Сенат уже высказывался по этому поводу. Так, например, по делу Грязнова уголовным кассационным департаментом было признано существенным нарушением неразъяснение председательствующим присяжным заседателям, что им следует ответить на поставленный на их разрешение вопрос правдиво, вне всякой зависимости от того, какое значение будет иметь их ответ для наказания виновного. Присяжные заседатели должны помнить, что не на них, а на членов суда закон возложил заботы о строгом соответствии наказания действительной вине осужденного и особым обстоятельствам дела, причем для полного согласования наказания с истинной справедливостью, а не с одним лишь формальным правом закон предоставляет суду и все необходимые средства вплоть до обращения к монаршему милосердию.
В последнем случае относительно обращения к монаршему милосердию необходимо отметить, что в судебной практике бывали случаи, когда сами присяжные заседатели, постановив обвинительный вердикт, обращались к окружным судам с просьбой повергнуть на монаршее благовоззрение ходатайство их об облегчении участи осужденных в размере, выходящем из пределов власти суда. Это обстоятельство побудило министра юстиции предложить председателям окружных судов представлять такие ходатайства в министерство юстиции, для доведения их до высочайшего сведения. Нет никакого сомнения, что такое распоряжение облегчит присяжным заседателям выполнение лежащей на них обязанности – выносить решение о виновности подсудимого вне соображений о том, что ему грозит по закону не соответствующее, по их мнению, наказание.
Далее И. Г. Щегловитов перешел к вопросу о том, как должен говорить председательствующий свое напутственное слово присяжным заседателям перед уходом их в совещательную комнату для постановки вердикта. В решениях уголовного кассационного департамента правительствующего Сената по делу игуменьи Митрофании и по делу Кронштадтского банка было уже разъяснено, что председательствующий должен быть совершенно беспристрастным и что не согласные с этим требованием действия его нисколько не соответствуют тому высокому положению, в которое он поставлен судебными уставами. Вместе с тем кассационная практика твердо держалась того воззрения, что неправильное разъяснение присяжным заседателям влечет за собою отмену их решения. Руководствуясь этими разъяснениями и имея в виду, что, по точному смыслу ст. 802 уст. угол, суд., председатель не должен обнаруживать перед присяжными заседателями своего мнения о виновности или невиновности подсудимого, И. Г. Щегловитов перешел к делу «Россиянина». По этому делу председательствующий на суде заявил присяжным заседателям о том, что если никто не сомневается в составных частях вопроса о виновности, то предлагается один вопрос о виновности или невиновности, и что такая редакция вопроса означает, что нет сомнений в совершении преступления и что лицо, совершившее его, не может быть оставлено без наказания. При этом председательствующий доказал, что если никто не требовал выделения вопроса о вменении, то, значит, вопрос этот считается решенным. В данном случае председательствующий не только в явное нарушение ст. 802 уст. угол. суд. высказал свое мнение по делу, преподав присяжным заседателям решение, какое они, по его ожиданию, должны постановить, но также сделал и неверное разъяснение относительно постановки одного общего вопроса, устраняя, таким образом, присяжных заседателей от выполнения возложенных на них судейских обязанностей.
В общем, во всем этом деле И. Г. Щегловитов нашел существенное нарушение ст. 611, 612, 645, 646, 801–804 уст. угол. суд.
Правительствующий Сенат согласился с доводами обер-прокурора и определил решение присяжных заседателей и приговор санкт-петербургского окружного суда по делу «Россиянина» отменить и передать это дело в тот же суд для нового рассмотрения, при другом составе присутствия.
НЕБЫВАЛОЕ ДЕЛО ОБ АДВОКАТАХ
Зимой 1910 года в санкт-петербургском окружном суде рассматривался редкий, много нашумевший уголовный процесс. На скамье подсудимых на этот раз сидели сами адвокаты, в лице присяжных поверенных Л. А. Базунова и Г. С. Аронсона, к которым было предъявлено серьезное обвинение по 14, 1666, 1681 и 294 ст. улож. о наказ. Все дело возникло из-за оговора известной Ольги Штейн, прославившейся своими эксцентричными, далеко не безупречными проделками. Имея чересчур легкомысленный взгляд на чужую собственность, Ольга Штейн под разными предлогами обирала доверчивых людей, выманила обманным образом десятки тысяч рублей и под конец, когда все ее проделки обнаружились, была привлечена к уголовной ответственности. В качестве своих защитников она пригласила присяжного поверенного Пергамента, Базунова и Аронсона, и слушание ее дела началось 29 ноября 1907 года. Однако на судебном следствии, тянувшемся несколько дней, выяснилось, что против Штейн возникают еще новые обвинения в подлогах и хищениях. Поэтому 3 декабря защитники ее нашли необходимым ходатайствовать перед судом о направлении этого дела к доследованию. Суд тем не менее не согласился с их доводами и решил продолжать рассмотрение дела. Улики против Ольги Штейн были настолько веские, все складывалось так неблагоприятно для нее, что сомневаться в решении присяжных заседателей уже нельзя было. Ее, очевидно, ждал обвинительный вердикт, никакая защита не могла спасти ее, и вместо прежней широкой великосветской жизни ей стала грозить суровая мрачная тюрьма. Штейн не в силах была примириться с ожидавшей ее участью и, воспользовавшись первым удобным случаем, бежала за границу. Разыскать ее удалось уже в Нью-Йорке благодаря перехваченным письмам и телеграммам, и по требованию русских властей она была выдана правительством Соединенных Штатов. Через год после первого рассмотрения ее дела она была снова судима и приговорена к заключению в тюрьму на один год и четыре месяца с лишением всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Между прочим, на допросе, по возвращении из Америки, она объяснила, что будто бы бежать за границу от суда уговорили ее адвокаты, Пергамент, Базунов и Аронсон, причем в этом деле содействовал также и ее возлюбленный – бывший корабельный инженер Е. Шульц. По словам Штейн, присяжный поверенный Пергамент прямо говорил ей, что «русское правительство не стоит того, чтобы отдаваться ему в руки». Инженер Шульц, со своей стороны, подтвердил оговор Ольги Штейн, и в результате все ее бывшие защитники волей судьбы превратились сами в обвиняемых. Присяжный поверенный Пергамент, высоко ставивший принципы чести, не перенес такого неожиданно разразившегося над ним удара и на другой день после предъявления ему обвинения покончил жизнь самоубийством. Перед судом, таким образом, предстали только Л. А. Базунов и Г. С. Аронсон, а также и Е. Шульц как соучастник в подготовке побега Ольги Штейн. Защитниками с их стороны выступали: присяжный поверенный Казаринов (за Базунова), Бобрищев-Пушкин (за Аронсона) и член Государственной думы Замысловский (за Шульца). Обвинение поддерживал товарищ прокурора Савич.
Заседание суда открылось оглашением данных обвинительного акта, после чего председательствующий сделал обычный опрос обвиняемых. Из них никто не признает себя виновным.
Начинается объяснение Шульца.
По его словам, когда он познакомился с Ольгой Штейн, она имела избранный круг знакомых. В гостях у нее бывал даже бывший обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, заезжали к ней и другие высокопоставленные лица. В общем, она вела широкий образ жизни и ни в чем не отказывала себе, пока, наконец, над ней не стряслась беда. Один за другим к ней стали предъявляться гражданские иски, началось какое-то уголовное дело, и Ольгу Штейн хотели арестовать. Однако благодаря содействию Победоносцева дело ограничилось пока простым домашним арестом. Первоначально Штейн пригласила своим защитником присяжного поверенного Марголина, который выговорил у нее вперед 4 тысячи рублей гонорара. Затем, когда этот адвокат скоропостижно умер за границей, к ней пришел на помощь Г. С. Аронсон и, предложив свои услуги, потребовал в первую очередь, чтобы она еще до суда удовлетворила претензии своих кредиторов. На это ушло свыше 20 тысяч рублей, но после Шульц узнал, что кредиторы получили свои деньги от адвоката далеко не полностью. Желая избегнуть грозившей ей уголовной ответственности, Штейн обратилась за помощью к присяжному поверенному Базунову, известному своей опытностью в юридических тонкостях, а затем пригласила и Пергамента. Оба адвоката также взяли у нее в виде гонорара еще до суда по 3 тысячи рублей и успокоили ее, что она может вполне рассчитывать на оправдание. Шульц уверял, что все три адвоката часто бывали на даче Штейн, распивали у нее дорогое вино и целовали ей руки. После, однако, оптимистическое настроение защитников Штейн резко изменилось, они стали мрачно смотреть на будущее и старались, насколько возможно, затянуть дело своей клиентки.

КАЗАРИНОВ Михаил Григорьевич
Родился в 1866 году в Петербурге. Образование получил в реформатском училище и Санкт-Петербургском университете. На поприще адвокатуры выступил с 1890 года. Из наиболее выдающихся дел, в которых он участвовал, заслуживают внимания процессы: об адвокатах Базунове и Аронсоне (участие в побеге Ольги Штайн), о расхищении наследства купчихи Пискуновой, о дворянке Элеоноре Пиевцевич (вовлечение в невыгодную сделку), о Пустынском (лжесвидетельство). Известен как опытный юрист.
3 декабря 1907 года, когда заседание суда было прервано, Шульц застал свою возлюбленную в комнате совета присяжных поверенных. Она, видимо, была расстроена, плакала и обвиняла своих адвокатов в плохой защите. Встревоженный Пергамент вышел с ней во двор, а Аронсон стал упрашивать ее:
– Милая, голубушка, уезжайте, пожалуйста, и спасайте себя!..
В результате напуганная Штейн решилась последовать этому совету, тем более что Пергамент обещал исходатайствовать для нее высочайшее помилование. Сам Шульц, по его словам, не сочувствовал этому побегу и, когда возлюбленная уехала из Петербурга, с горя познакомился на улице с двумя какими-то девицами и стал кататься с ними на автомобиле.
Совершенно противоположными являются показания вызванных в суд свидетелей.
Помощник присяжного поверенного Гурлянд с очень хорошей стороны отзывается о покойном Пергаменте, аттестует его как доброго, мягкосердечного человека и указывает на то, что Шульц неоднократно вымогал у него деньги под различными предлогами. Нажив своей деятельностью в Государственной думе массу политических врагов, Пергамент считал, что оговор его со стороны Штейн и Шульца был инспирирован для удаления его с политической арены. Он выражал сожаление, что из-за него ни за что ни про что страдают и его сотоварищи по защите.
С своей стороны присяжный поверенный Гольдштейн говорит о той редкой, завидной репутации, какой всегда пользовался обвиняемый Базунов, высоко держащий знамя своей корпорации. В последние годы благодаря его выдающимся качествам он занимал почетный пост товарища председателя совета присяжных поверенных округа санкт-петербургской судебной палаты.
Хорошие отзывы даются также и об Аронсоне, который временами не только ничего не получал с клиентов, но даже и сам давал им деньги, когда видел их бедственное положение.
Зато о самом Шульце один из свидетелей, штабс-капитан Франк, говорит, что «это – флюгер, безалаберный, лгун и без царя в голове». Аттестация более чем не лестная…
Судебно-медицинская экспертиза в отношении Шульца также приходит к неутешительным выводам. Она относит его к типу людей, имеющих неприятный, несносный характер и с трудом терпимых в обществе. Такие люди неуравновешенны, сумасбродны, и жизнь их полна всевозможных противоречий. От них можно ожидать всяких неприятностей, и с ними всегда следует держаться осторожно.
По окончании судебного следствия слово было предоставлено представителю обвинительной власти.
Охарактеризовав Ольгу Штейн героиней бульварной прессы, товарищ прокурора перешел к подробному анализу данного дела, разобрал все улики против подсудимых и признал вменяемое им в вину преступление доказанным. Речь его продолжалась с перерывами около 6 часов. Главным образом он коснулся подсудимых – адвокатов и самой адвокатуры. По его словам, в настоящее время великий дар речи, Божий дар, люди обратили на недостойное правосудия дело – на усыпление чуткой совести судей. Состязательность процесса понята многими адвокатами в том смысле, что на них лежит обязанность оправдать своих клиентов во что бы то ни стало, и только судебные власти считают себя обязанными, в силу закона и традиции, устанавливать на одинаковом основании обстоятельства, изобличающие обвиняемых и их оправдывающие. Между тем, с точки зрения нашего закона, адвокатура есть составная часть судебного ведомства. В присяге, которая приносится каждым присяжным поверенным, совершенно точно указывается, что лицо, принимающее на себя эту почетную обязанность, должно исполнять в точности и по крайнему разумению законы империи. Подсудимые Аронсон и Базунов дали присягу не делать ничего противного законам империи и интересам религии, оказывать уважение суду и, если теперь они изобличены в том, что способствовали подсудимой оказать тяжкое неуважение присяжным заседателям, в противозаконном укрывательстве подсудимой от суда и наказания, то звание присяжного поверенного не освобождает их от ответственности. Обвинитель считает, что подсудимыми совершено не только преступление против закона формального, но и нарушение профессионального долга. Самое прискорбное в настоящем процессе и есть то, что люди, которым вверены интересы правосудия и которые вооружены для этой цели известными правами, эти люди свои права и свои обязанности поняли неверно и пользуются ими не для правосудия, а против него.
– Но как ни искажены практикой начала тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года, мне хочется верить, – закончил товарищ прокурора, – что самый ценный институт судебных уставов – суд присяжных заседателей – окажется и ныне на высоте. Глубоко веря, что, каковы бы ни были стремления искажать доказательства и отвлечь внимание ваше от сути дела, вы все-таки останетесь на той высоте судейского беспристрастия, которую предполагал в вас законодатель, я прошу у вас, господа присяжные заседатели, правосудного приговора.
В защиту Шульца начинает говорить член Государственной думы Замысловский. В пространной речи он указывает на то, что его клиент жил с Ольгой Штейн как с женой. Он горячо любил ее, и неудивительно, что в конце концов был порабощен ею и всецело поддался под ее влияние. Если он и содействовал побегу любимой женщины, отуманенный страстью к ней, то после он, одумавшись, глубоко раскаялся и принес во всем повинную. За все это время он слишком много выстрадал, и присяжные заседатели должны поэтому с участьем отнестись к его судьбе.
Подходит очередь к главным подсудимым – Базунову и Аронсону. Защитник первого, присяжный поверенный Казаринов, начинает свою речь с указания на то, что настоящее дело в юридической практике является небывалым как по сущности обвинения, так и по той обстановке его, какая выяснена судебным следствием. Три адвоката будто бы убедили свою клиентку бежать от суда и наказания. Суд – это храм справедливости, а адвокат – один из жрецов его. Если адвокат действительно убеждает своего клиента обмануть суд, – значит, он изменяет Богу, которому служит.
Какие же соблазны отуманили разум, какие душевные бури смутили сердца обвиняемых, этих старых, испытанных жрецов храма правосудия. Ведь чем необыкновеннее преступление, тем более вески должны быть мотивы для его совершения, чем ближе человек по профессии своей стоит к сфере закона, тем сильнее должен быть толчок, перебрасывающий его к другому полюсу – в область преступления.
Какие мотивы могли руководить адвокатами? О том, чтобы они, подпав под неотразимое влияние и обаяние светлой личности обвиняемого, задались мыслью во что бы то ни стало спасти его от суда, как невинно преследуемого, не может быть и речи. Здесь не было идейного мученика, за которым, как за пророком, могли пойти адвокаты, изменив старому алтарю для алтарей новых. Здесь была женщина, обвинявшаяся в преступлениях корыстного свойства, заслуживающая, быть может, сострадания, но ничуть не в большей мере, чем всякий другой обвиняемый.
Предположение, что несимпатичность дела Ольги Штейн могла побудить адвокатов уговорить ее бежать от суда, несостоятельно, так как такого мотива для адвоката вовсе и быть не могло, в силу той аксиомы адвокатской этики, что всякая защита является задачей высокой и благородной.
Столь же мало серьезным является и указание, что адвокаты не были достаточно подготовлены к защите Ольги Штейн и потому склонили ее к бегству. Опытный французский адвокат хвалился, что для подготовки к любому уголовному делу ему достаточно четырех часов. Пожалуй, этого и мало, чтобы основательно изучить и продумать дело, но, конечно, если для судьи, прослушавшего дело пять дней, достаточно такого времени, чтобы разобраться в деле и решить судьбу обвиняемого, то и для адвоката, опытного и талантливого, как Л. А. Базунов, вполне достаточно тех же пяти дней, чтобы усвоить дело и произнести продуманную защитительную речь. Между тем дело Штейн находилось у присяжных поверенных Аронсона, Базунова и Пергамента не пять дней, а более полугода; по делу этому устраивались неоднократные совещания, и Аронсон был в курсе всех денежных расчетов с потерпевшими, так как сам их производил. Ясно, что о неподготовке адвокатов к делу не может быть и речи, а следовательно, и подобного мотива к удалению клиентки быть не могло.
Может быть, адвокатами руководил страх перед ожидавшимся обвинительным приговором?
Но нет! Как ни скорбит сердце адвоката за участь клиента, эта скорбь – скорбь спокойная, это лишь отраженное страдание клиента, не имеющее ни остроты, ни мучительности непосредственного чувства, испытываемого самим подсудимым. Это не ужас перед грядущим наказанием, не тоска по разбитой жизни, не стыд публичного позора, не весь тот аккорд страданий, мощно и бурно звучащий в душе обвиненного, а только страдание, сочувствие, возбуждаемое созерцанием чужого горя. И в тяжкие минуты отчаяния обвиненного клиента адвокат является его лучшим утешителем, он успокаивает его, как врач пациента, которому предстоит операция, и представляет ему всю беспочвенность его отчаяния. И если клиент хочет бежать от наказания, как робкий больной от операции, адвокат представит ему доводы всей безрассудности бегства, не только с моральной, но и с чисто практической стороны, он убеждает, что свобода, которой клиент так жаждет, только мираж, что если раньше он эту свободу не ценил и даже не чувствовал, то впредь эта свобода изгнанника, свобода прятаться, скрываться и голодать будет для него хуже всякой срочной кары, налагаемой уголовным законом. Сотней доводов успокоит адвокат своего клиента, рассеет преувеличенные страхи, ободрит, вдохнет мужество на перенесение страданий, докажет, что эти неведомые страдания страшны и грозны только издали и что тысячи людей шли на них и затем возвращались воскресшие духом, обновленные, примиренные с людьми и своей совестью.
Нельзя также подозревать в этом и материального расчета. Бегство Ольги Штейн за границу не только не приносило выгоды адвокатам, но, напротив, влекло за собой явный ущерб для их интересов.
– Я пытался, господа присяжные заседатели, найти хоть какой-либо мотив, который мог побудить, – продолжал М. Г. Казаринов, – адвокатов склонить Ольгу
Штейн к бегству, но не нахожу. А между тем чтобы подвигнуть трех человек на поступок недобросовестный, дерзкий, преступный, необходимы сильные душевные движения. Нужен ураган, чтобы сбить с пути, опрокинуть целую флотилию, хорошо оснащенную и приспособленную для плавания по бурным волнам житейского моря, снабженную для устойчивости грузным балластом всесторонних знаний и долголетнего опыта жизни.
Что, спрошу я, могло заставить Базунова изменить всем своим взглядам, всем принципам своей двадцатипятилетней деятельности? Или, быть может, долг, совесть, любовь к делу, вера в свой труд, уважение к закону, к правде, к суду, к себе – все это одни пустые слова, осыпающиеся, как осенний лист, при первом дуновении неуловимых, никому не понятных настроений?
И куда же исчез у Базунова, у Пергамента, этих, по мнению господина обвинителя, глубоких знатоков души человеческой, простой здравый смысл? Как не сообразили они, что если бегство от суда вообще средство мало осмысленное, то для Ольги Штейн бегство было затеей уже совершенно безрассудной, так как она всем существом своим привыкла к свету, блеску, шумным похождениям, к игре на быстринах и водоворотах жизни, у самых острых подводных камней? Как не поняли они, что на скромное, бесшумное прозябание где-нибудь в глуши, в укромном углу, Ольга Штейн органически не способна и что поимка ее в самом скором времени явится неизбежной?
Но у кого же могла зародиться мысль о побеге? Конечно, у самой Ольги Штейн. Она, бесспорно, догадывалась, какое наказание ждет ее. Из ее переписки видно, как мучительно рвалась она на свободу еще тогда, когда на время следствия ее препроводили в дом предварительного заключения.
«Свободу, только свободу выхлопочи мне, – пишет она Шульцу, – об остальном не заботься, остальное все само придет». Она была выпущена, вернулась вновь к блеску и свету, к радостям свободной жизни и наслаждалась, отдаляя всеми способами тяготевший над нею судебный процесс. Но дни ответа настали, заседание, тянувшееся несколько дней, выяснило шансы «за» и «против», положение было угрожающее, к ней опять подступало и грозило забрать в свои каменные объятья тюремное заключение – ив душе поднялись смятение и буря. Ум, всю жизнь изворачивавшийся, искал выхода, и искал недолго. Вся жизнь ее была и раньше сплошным метанием, сплошным бегством от долгов, от кредиторов, от судебных приставов, от власти, от закона. И теперь выход для нее был прост и легок, ее гостеприимно манила к себе синеющая даль необъятного, играющего светом и соблазном мира, манила и звала неудержимо. А что могло ее сдержать? Моральные принципы, сознание своей вины, потребность искупить вину, успокоить наболевшую совесть? Увы, такого сознания, такой потребности у нее не было; напротив, она считала себя несчастной жертвой ростовщиков, обстоятельств, окружающей среды, своего легкомыслия, своей доброты и черной людской неблагодарности. В этом она была убеждена бесповоротно и – кто знает? – быть может, в известной мере была права. Эта уверенность в невинности вылилась у ней в ряде писем к Пергаменту и Шульцу. «Все здесь (пишет она из Америки) того же мнения, что я жертва моего легкомыслия, что судить надо не меня, а тех, кто довел меня до такого положения…»; «Я чиста»; «Я всем желала добра, всю жизнь делала только добро»; «Судьи – палачи, не желающие выслушать оправданий». Вот убеждения, высказываемые Ольгой Штейн чуть не на каждой странице ее писем.
Был и еще мотив для побега Штейн, – мотив наиболее важный. Эта – та безумная любовь к Шульцу, которая охватила сердце стареющей львицы. «Для него, – пишет она в письме из Нью-Йорка, – я всем пожертвовала, из-за него я потеряла ребенка, которого обожаю, потеряла человека, который обладал миллионами и хотел на мне жениться». Каких же жертв еще можно требовать от женщины в доказательство ее любви? На суде читались письма Ольги Штейн к Шульцу из одиночной кельи предварительного заключения, – эти письма сплошной стон исходящего тоскою, любящего сердца, клокотание страсти, доходящей до бреда. Читались ее письма из Америки, – это тот же несущийся через океан крик страстной любви, вечный, неумолкаемый призыв к Шульцу, чтобы он спешил к ней для любви, для счастья, для совместной жизни, для совместной смерти. В жизни Штейн эта любовь к Шульцу становится доминирующей идеей, основной темой, назойливой, неотвязчивой, мучительной и властной, как вагнеровский лейтмотив.
Эта любовь и является главным мотивом бегства. Что предстояло Ольге Штейн в случае обвинения? Заключение, быть может долголетнее, арестантский халат, забранное решеткой оконце, щелканье дверного замка… Ведь это – смерть иллюзий, смерть любви, смерть всему, чем живет женское сердце!
И от этого призрака смерти она бежала, бежала, уговорившись с Шульцем, что он последует вскоре за нею. Но сердце ее не могло вытерпеть ожидания, и, переезжая границу, она нервно шлет Пергаменту телеграмму за телеграммой: «Умоляю, пришлите мальчика», «Когда же приедет мальчик…», «Умоляю, телеграфируйте, иначе вернусь обратно». Так, забывая о себе, она легкомысленно рассыпает на каждой телеграфной станции неизгладимые следы своего маршрута. Но «мальчик» не едет… Она тщетно умоляет его в ряде писем, напоминает ему: «Ведь я только и уехала в надежде, что буду с тобой…», «Ты помнишь, ты сказал, что умрешь со мною вместе», а далее: «Помнишь, я подумала, лучше временная разлука, чем отдаться в руки палачам…», «Приезжай, все будет по-твоему и деньги всегда будут, я все сделаю, что нужно…», «Приезжай, без тебя мне не надо свободы!».
Мечтам О. Г. Штейн не суждено было сбыться. Переписка с Шульцем, обнаруженная властями, выдала ее местопребывание. Она была возвращена в Россию и осуждена. Правосудие совершилось.
Защитник касается затем памяти Пергамента, для которого дело Штейн оказалось поистине роковым. Покой, звание адвоката, звание члена Государственной думы, репутация – все оказалось в опасности в этом зловещем деле. И он не выдержал и, минуя суд земной, ушел на тот верховный трибунал, где все дадут ответ в своих прегрешениях, вольных и невольных.
Относительно Базунова защитник говорит, что если бы он и видел, что его клиентка готовится сбежать от суда, он все-таки ничего не мог поделать против этого. Положение его, как защитника обвиняемой, обязывало его к молчанию. Горе адвокату, выдающему тайны своих клиентов! И закон, и совесть запрещают ему это. Как врач, как духовник, он должен свято хранить услышанные тайны. И эта обязанность молчать не может быть нарушена, хотя бы молчание способствовало безнаказанности, торжеству преступления, пользованию его плодами. Убийца, поведавший адвокату или священнику, что он действительно убил, указавший, где зарыт труп, где спрятаны ограбленные деньги, может спокойно жить и пользоваться плодами преступления, зная, что ни адвокат, ни священник не явятся его обличителями.
Скажут, это зло. Пусть так, но это зло, этот вред лишь ничтожная капля перед тем морем зла, которое хлынуло бы на человечество, если отнять у него веру в тайну исповеди, в тайну врачебную, адвокатскую. Сделать это значило бы обречь человека на вечное ношение в себе нераскрытых гнойников духовных недугов, это значило бы превратить церковь в западню и подорвать к служителям ее присущее их званию доверие. Адвокат нужен гражданам для закономерной защиты их имуществ, чести, свободы и жизни. Закон и государство утверждают его в этом звании, скромном и вместе с тем высоком, по назначению. И чтобы он мог достойно выполнить свою задачу, ему необходимо безграничное доверие клиента, а доверие не может быть там, где нет уверенности в сохранении тайны. Без нее немыслима самая профессия.
Многим нападкам подвергается адвокатура, и многие из них, быть может, справедливы, ибо чем выше что-либо по своей идее, по основному назначению, тем большей порче и извращениям подвергается оно в руках человеческих.
Все подвержено уклонению от нормы, болезням, но важно, чтобы не поражался самый жизненный нерв организма.
Адвокатов упрекают, что они растрачивают деньги клиента, это грустно, это, конечно, пятнит сословие, но нарушение тайны, доверенной клиентом, явилось бы посягательством на те реликвии, во имя которых самый храм заложен.
Всякая корпорация несет на себе не только одни пороки прошлого, но и его достоинства. Наследуют не одни долги, но и накопленные веками ценности. За адвокатурой также великое, почетное прошлое. Во все времена, у всех культурных народов адвокатуре и суду был вверен священный кивот права и свободы.
– Господа присяжные заседатели, – закончил свою речь присяжный поверенный Казаринов, – мне не приходится доказывать, что за мною чистый человек. Все, что проходило здесь, на суде, с уважением говорило о незапятнанности и выдающихся достоинствах Л. А. Базунова. Грустно думать, что на склоне лет судьба бросила его на скамью подсудимых. Странная судьба! Всю свою жизнь, все силы ума, знаний и таланта посвятил человек для служения обществу, – и теперь здесь, в уголовном суде, обществу предлагают свести с ним счеты!., я не сомневаюсь, вы сумеете воздать ему по заслугам.
Остается еще одна речь – за защитником Г. С. Аронсона.
– Не к ответу мы пришли сюда, – начал присяжный поверенный Бобрищев-Пушкин, – мы пришли привлечь наших обвинителей к ответу. Мы не дети, и сущность этого процесса нам очень хорошо понятна. Существует свободное сословие. Уже давно обладает оно всем, чем недавно, на такой короткий срок, стали было пользоваться русские обыватели. Есть у него право союзов, право собраний; было до последнего времени и право свободного голоса. Заря русской гражданственности не застигла его врасплох. Когда схлынули высоко поднявшиеся волны, оно сохранило свои позиции. Когда обывателя берут за горло, гражданин адвокат оказывает ему помощь… (Председательствующий останавливает защитника.) Господин прокурор говорил, что у нас в России куда лучше, чем за границей, что там – капиталистический строй, что личность там нуль. Не знаю. Переедет границу русский присяжный поверенный, придет в суд, подаст свою карточку, скажет: «Я присяжный поверенный» – и его проведут с почетом на первые места. Вернется сюда, скажет: «Я :– присяжный поверенный» – и его тоже проведут на самое первое место – на скамью подсудимых. Что ж, нет худа без добра. На скамье подсудимых – русские граждане. Посмотрим, как они будут защищаться.
Их защита будет достойною. Лучшим средствбм привлечь к ответу обвинение будет дать на него спокойный ответ, доказать всю его юридическую и фактическую несостоятельность. Тогда будет ясно, для чего оно создалось.
Попутно присяжный поверенный Бобрищев-Пушкин касается формулировки обвинения и указывает на то, что представитель обвинительной власти всячески старался очернить адвокатуру, но все усилия его остались тщетными.
Относительно Аронсона защитник уверен, что он ничем позорным не запятнал свое имя и с поднятой головой вернется опять к ожидающей его товарищеской корпорации. Что же касается Пергамента, то защита остается при особом мнении. Внезапная смерть Пергамента – это вовсе не улика, и многое после нее осталось совершенно не выясненным. За свою излишнюю доверчивость, за свое участие к судьбе Штейн он слишком дорого заплатил – и блестящей, многообещавшей карьерой, и целой своей жизнью.








