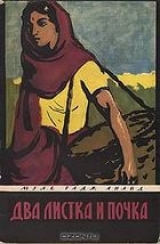
Текст книги "Два листка и почка"
Автор книги: Мулк Ананд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Глава 12
Мама, моя мама,
О мама дорогая.
Воспоминание о тебе
Сердце мне терзает.
Так напевала Леила, собирая в лесу хворост для очага. Утром, когда она вышла из поселка, она пела песни родной деревни, те, что запомнились с детства, но потом на губах невольно возникали слова, отражавшие то, что было у нее на душе. Грустные думы о матери сами собой выливались в одну и ту же печальную мелодию, и она все повторяла:
Мама, моя мама…
Мотив и слова глубоко задевали ее чувства – они правдиво и просто передавали все, что она теперь ощущала в отношении своей матери. Первые дни она горько плакала о Саджани, любой предмет в доме, любая хозяйственная мелочь напоминали о ней, и она рыдала, понимая, что та ушла от них навсегда; но теперь острота этой боли несколько притупилась, ее место заняла пустота, сожаление, которое нельзя было выразить иначе, кроме как повторяя бесхитростные слова, сами собой сложившиеся в песенку.
Мама, моя мама…
снова и снова потихоньку напевала Леила. Она шла по глухой тропинке, ничего не замечая вокруг себя, хотя глаза ее видели все – и большие склады плантации, мимо которых она прошла, и уходящие вдаль волнистые линии холмов, покрытые кустами чая. Тени деревьев растворялись в легкой дымке, насыщенной всеми ароматами знойного дня.
Серп в руке Леилы сверкал, точно бросал гневные взгляды на кусты, густую поросль, узловатые корни, опавшие листья, лианы и ветви, таинственно шелестевшие в неощутимом движении воздуха. Внезапно налетевший порыв ветра заглушил нежный шепот листвы, и по лесу пронесся тревожный шум. Девушка остановилась и стала опасливо оглядываться: болтовня и россказни взрослых с детства населили ее воображение привидениями, оборотнями и вампирами.
Ее вдруг неприятно поразила пугающая, полная таинственных теней лесная сень. Под деревьями царил угрюмый полумрак, кругом однообразно гудели шмели и жуки, в гуще листвы звенели на все лады невидимые насекомые, в траве квакали лягушки, со всех сторон теснилась густая растительность, вся спутанная и непроницаемая, – все это невольно настораживало внимание девушки, и в сердце ее стал прокрадываться страх.
Однако она пересилила себя и продолжала углубляться в чащу, бледная и потная от напряжения и духоты, стараясь стряхнуть с себя навеянное сумраком леса томление. И чтобы отвлечься от своих страхов, она стала петь пришедшие ей на память строки любовной песни:
Я хотела сказать ему многое,
Но вот он со мною – я смутилась.
Друг мой, на сердце остались желанья…
Последние слова песни еще более усилили чувство одиночества. Она смолкла и стала усердно срезать серпом ветви куста, высохшего в тени высокой сосны.
Работа понемногу отвлекла ее от размышлений, взмахи серпа перенесли ее в призрачный мир, какой видишь иногда во сне. Ей вдруг представилось звездное небо над погруженными в ночь горами, обступившими ее родную деревню, потом перед ней возникла вереница лиц, темных, лоснящихся от пота, как те, что она видела вокруг себя в последнее время. И вдруг все смешалось, заволоклось туманом, в котором образы прошлого прокладывали себе путь сквозь листья и ветви, свисавшие со всех сторон прямо перед глазами.
Из этой беспокойной дымки возникала скорбная и строгая мысль – воспоминание о матери. Ее образ так ярко встал перед Леилой, что ей почудилось, точно она ощущает присутствие матери возле себя.
Смутная тень приняла форму матери, опечаленными глазами заглянула в самое сердце Леилы. Тень матери словно хотела сказать: «Не грусти, моя радость, счастье придет к тебе. Я велела твоему отцу обручить тебя, и ты скоро выйдешь замуж и войдешь в дом своего супруга. Но не оставляй своими заботами брата и престарелого отца, потому что меня более нет подле них».
Теперь Леила не смела поднять глаз на мерещившийся ей образ матери: ей казалось, что та стала глядеть на нее холодно и строго, но одновременно у нее было чувство, точно Саджани нежно прижимает ее к своей груди.
Счастливая и робкая улыбка осветила лицо девушки: видение как-то облегчило ее сердце, и она удвоила усилия, подсекая сухие сучья. Призрак матери являлся каждую ночь, и Леила могла совсем ясно представить себе ее облик. Особенно запомнилась минувшая ночь; сначала мать словно стояла перед ней, и от радостной улыбки матери все вокруг ярко светилось; потом мать лежала под алым покрывалом, украшенным золотыми звездами, и улыбка ее внезапно обратилась в слепящую молнию, осветившую все небо; в последней ослепительной вспышке разверзлась земля и проглотила мать – Леила стояла, обнимая воздух простертыми руками. Девушка тогда сразу проснулась; у нее перед глазами повисли медно-красные листья баньяна, росшего у них перед домом; солнце всходило, и его горячие лучи окропили их золотом. Весь день после этого ее томила печаль и она чувствовала себя одинокой. Теперь видение матери снова ее расстроило…
Она провела рукой по глазам и посмотрела вокруг, стараясь отогнать от себя галлюцинацию.
Набрав достаточно хвороста, она растянула по земле веревку, которую принесла из дому, и стала складывать хворост в вязанку. Кривые сучья было трудно уложить плотно, и она выравнивала их и приминала кучу, прежде чем завязать узел.
Она уже собралась было взвалить вязанку себе на плечо, когда заметила на земле неподалеку от себя толстый сук. Такое полено будет тлеть в очаге целый день, подумала она, и ей не придется плакать от горького дыма, раздувая жар; девушка решила его подобрать.
Ее поразил сильный запах шиповника, и она стала осматривать соседний куст, отыскивая цветы. Но едва она раздвинула ветви, тело ее внезапно обвили кольца питона, свисавшего с дерева.
Свет померк у нее в глазах, крик застрял в горле. Она ничего не видела, кроме лиан и ветвей деревьев над головой. Сердце ее забилось в смертельном ужасе, вся она покрылась холодным потом. Гибель казалась неминуемой.
Однако инстинкт самосохранения через мгновение вернул ей желание и волю бороться за свою жизнь, и она попыталась справиться со своим страхом. Ей захотелось во что бы то ни стало остаться живой, непременно освободиться от смерти. Но как ни напрягала она мышцы своего тела и всю силу своей воли, ей не удалось шевельнуться, она была связана – питон сковал ее по рукам и ногам. Гримаса боли исказила ее черты, тело ее корчилось в тщетных попытках освободиться, внутренний жар охватил ее, как огнем. Нет, никогда ей не избавиться от смертельных объятий чудовища! Рыдания и крик застревали у нее в горле, глаза оставались сухими.
Ужас, боль и страх смерти надвинулись на нее вплотную, и она стала мысленно прощаться с жизнью. Где-то над головой у нее раздавалось свистящее дыхание питона, и кольца его зловонного тела казались ей воплощением самой смерти.
Леила испустила дикий крик, полный смертельной тоски. Кольца змеи сжимали ее все сильнее. Она едва услышала собственный голос, донесшийся до нее точно издалека, мгновенная слабость охватила ее – ей захотелось закрыть глаза и отдаться на волю тьмы, окутавшей ее сознание.
Питон упорно сжимал свои кольца вокруг ее тела. И тут Леила почувствовала, что ее правая рука с серпом свободна. С энергией отчаяния она сделала страшное усилие и вонзила острое железо в тело змеи. Та, почувствовав боль, еще крепче стиснула девушку.
Леиле на ноги закапала горячая кровь, и это побудило ее действовать еще энергичнее – она лихорадочно водила серпом, кромсая и перепиливая тело змеи. Смертельно раненное животное едва не сокрушило ей ребра. Наконец последним, сверхъестественным усилием Леила перерезала питона пополам.
Дрожа от ужаса и отвращения, она высвободилась из колец издыхающего чудовища и побежала к своей вязанке хвороста. Страх отнял у нее силы, и ноги были точно налиты свинцом. Однако чувство долга превозмогло: решив во что бы то ни стало не возвращаться домой с пустыми руками, она заставила себя поднять сучья, положила их себе на голову и только тогда поспешила к тропинке, по которой пришла.
Сердце девушки билось так сильно, что стук его точно поглотил все звуки леса. Лишь достигнув опушки, она стала замечать шорох сухих листьев под ногами. Она пошла тише, но вдруг ей почудился звук, который она приняла за рев тигра; это заставило ее снова пуститься бегом. Остановилась она, лишь когда достигла первых домов поселка.
– На твоем серпе кровь, – сердито встретил ее Гангу, когда она вошла в домик. – Ты что, порезалась? Где ты ходила так поздно?
Леила посмотрела на отца отсутствующим взглядом, потом покачнулась и, потеряв сознание, упала на пол в обмороке.
Глава 13
– Ты что, уже уснул, брат Гангу? – спросил Нараин, подходя вечером, после ужина, к двери хижины соседа.
– Нет еще, брат, – устало отозвался Гангу, сидевший со своей трубкой из скорлупы кокосового ореха на краю топчана, на котором спал Будху, Со времени смерти жены он стал молчалив, а случай с Леилой, едва не погибшей в кольцах питона, еще усугубил его мрачность. Да и влажная духота летней ночи, словно нагромоздившей от дна долины до самого неба слои тяжелого, мутного тумана, в котором рассеивался свет бесчисленных звезд, удручала его.
– Нам понравился тамариндовый маринад, который мы прислали, – сказал Нараин, чтобы начать разговор. – Вы что же, на севере всегда едите рис с маринадом?
– Всегда, – ответил Гангу. – И это очень полезно для тебя. Уксус помогает при желтухе.
Последовала небольшая пауза. Причудливый силуэт далеких джунглей будто ожил в туманной ночи и шевелился в липком воздухе.
– Нынче привидениям будет некогда спать, – начал беседу Нараин, присаживаясь на топчан, – они будут праздновать приход Махадью – знаешь, того кули со второй улицы, которого нашли мертвым на заброшенном участке, на том самом, что ты стал обрабатывать с женой и дочерью, когда только приехал. Говорят, он покончил с собой – повесился на собственном дхоти[29]29
Дхоти – набедренная повязка.
[Закрыть], но я думаю, что это не так. Тут месть богини Кали[30]30
Кали – богиня смерти.
[Закрыть].
– Но он еще вчера был жив, здоров, я его видел, – сказал Гангу, вздрогнув.
– Что же, ты и свою жену видел живой и невредимой накануне ее смерти, – возразил Нараин, – и умерла она от той же причины, что и Махадью – после того, как ступила на тот участок, где ничего не растет. Ты разве не знаешь, что даже сахибы забросили этот участок?
– Почему бы такое? – недоверчиво спросил Гангу, уступая любопытству.
– На то есть причина, – охотно ответил Нараин, довольный случаем дать волю языку и воображению. – За мою бытность здесь сахибы уже пять раз пытались засадить тот участок, но любое растение на нем погибает, едва показавшись из земли. Дело в том, что в старое время, когда Ассамом правили еще короли, на этом самом месте стоял храм богини Кали. Ей приносили в жертву козлят, а иногда и людей. Перед жертвенником стояла статуя богини из чистого золота, а в животе у нее была большая полость.
Когда сюда пришли сахибы, они уговорили короля запретить человеческие жертвоприношения. И вот однажды к главному жрецу во сне явилась богиня и стала требовать: «Я голодна, я голодна. Дай мне крови».
Потом сахибы завладели Ассамским княжеством и расчистили джунгли под чай. Однако на месте алтаря богини Кали чай не рос, а все, кому доводилось ступить на этот участок, умирали.
Говорят, что каждый год в ночь на праздник Дурга Пуджа появляется богиня, она воет и произносит заклинания, возникает буря с грозой и кого-нибудь непременно убивает гром: только это утоляет гнев богини.
– Но кули Махадью умер не в день Дурга Пуджа, – возразил Гангу. – А моя жена скончалась за месяц до этого.
– Пути богини неисповедимы; кто знает, какое время она избирает и где пожелает она проявить свою волю? – произнес Нараин, понизив голос почти до шепота.
Гангу, однако, знал. Он-то сам присутствовал при ссоре Махадью с женой Госвами. Та остановила его и громко, при всех сказала: «Твой негодный сын подлый воришка, он украл мою лучшую курицу». Махадью заступился за своего сына, назвал женщину «женой тысячи мужей» и «дочерью беспутной матери» и отверг ее обвинения.
Тут Госвами заступился за свою жену, ударил Махадью, и возник скандал. Стражники всех потащили к сахибу. Несколько свидетелей подтвердили слова жены Госвами, и сахиб предложил Махадью уплатить ей стоимость курицы. Махадью деньги уплатил, но вероятно не мог перенести мысль, что его сын стал вором, и с горя повесился.
Гангу промолчал и замкнулся в себе – обстановка не располагала его к дружеской беседе. На улице тут и там сидели группы кули, покуривая трубки и тихо разговаривая между собой; из хибарок доносились кашель и возня укладывающихся на ночь людей. Им внезапно овладела странная усталость…
– Каждый счастлив или несчастлив на свой лад, – пробормотал он почти про себя, однако так, чтобы Нараин его услышал. – Я теперь могу сочувствовать только собственным страданиям.
Гангу ясно сознавал, что находится сейчас в таком состоянии, что неспособен сблизиться с кем-либо или переживать чужие несчастья.
Но я не хочу замкнуться только в себе и жить для себя, – выразил он вслух свои мысли и взглянул на Нараина, заставляя себя проявить доброжелательность по отношению к своему соседу, но тут его отвлек комар. Он звенел где-то над ухом, а когда Гангу попытался его смахнуть, маленький кровопийца увернулся и сел ему на нос. Этот пустяк раздражил Гангу.
Нараина несколько обидело недоверие Гангу к его рассказу, потом он представил себе, что его соседу после понесенной им утраты не до болтовни и что он не может по-прежнему охотно его слушать. Нараин, при всей его веселости, склонности пошутить и привычке хвастать, был человеком благожелательным и чутким. Он решил переменить тему разговора.
– Ты уже засеял участок? – спросил он соседа.
– Да, – ответил Гангу смягчившись, так как ему было неприятно, что он огорчил своего друга. – Лишь бы вовремя пошел теперь дождь, – продолжал он. – Впрочем, если бы все желания исполнялись, пастухи сделались бы королями.
Гангу не хотелось говорить о своих делах.
– Ты где сегодня работал, брат Нараин? – спросил он.
– Я еще до шестичасового звонка пошел работать на новую дорогу, – начал Нараин усталым тоном. – И что же? Заработал до обеда всего четыре анна. После перерыва я опять работал там дотемна и заработал столько же. Получается восемь анна за день – меньше не дадут, потому что сардарам не разрешают урезывать зарплату, если кули проработал целый день. Однако получу я свои деньги не раньше конца месяца, а жене пришлось купить себе лифчик из тех денег, что оставались от провизии. Теперь волей-неволей иди к сардару за авансом, а он сейчас не в духе. Нынче он побил Сулеймана, кули из Джупленара за то, что тот в шутку бранил его друга Ибрагима.
При упоминании о побоях Гангу опустил глаза. Его самолюбие еще страдало от тех пинков, что достались ему от управляющего. Не хотелось думать об этом случае, потому что гордость раджпута требовала отмщения, а он не отомстил своему обидчику из-за скорби, в которую повергла его смерть жены. Даже не зная Сулеймана, он был на его стороне. Он понимал, что горечь обиды от побоев ранит куда сильнее, чем боль от самих ударов. В понятии Гангу побои оскорбляют больше, чем все другие обиды, которые приходится сносить. Тело его, закаленное тяжелым крестьянским трудом, было, разумеется, мало чувствительно к ударам, но было унизительно не осмелиться поднять глаза на того, кто бил и остался безнаказанным.
– Он не дал сдачи? – спросил Гангу.
– О нет, – ответил Нараин, – сардары – народ привилегированный. Их слово – закон. Взять, к примеру, меня. Прошло много лет с тех пор, как я сюда приехал, а я ни разу не смог побывать в Биканере. У сардаров есть земля, у них есть что обрабатывать, а у меня ведь ничего нет. Управляющий доверяет все сардарам, а те дают нам сколько вздумается. Мне нужна земля, но разве я могу требовать, чтобы мне ее дали? Ею распоряжаются сардары и делают с ней что хотят – вот потому она вся и остается у них: у бабу, у чапрази, у стражников. А что за особенные люди эти стражники, чтобы им отдавали землю? Ты знаешь гуркха Неоджи, того самого, под начальством которого работает моя жена, так ему дали еще участок в пять акров. А знаешь за что?
– Нет, – сказал Гангу.
– За то, что… – тут Нараин понизил голос до шепота, едва пробивавшегося сквозь его моржовые усы. – За то, что младший сахиб управляющий живет с его женой.
Гангу тотчас подумал, что Нараин может вообразить невесть что про способ, каким он получил свой клочок земли. Гангу всегда помнил, что у него красавица дочь.
– Я не хочу этим сказать, что всем дали землю за то, что они уступили своих жен, матерей или дочерей сахибам, – поторопился добавить Нараин, заметив замешательство Гангу. – Однако Рэджи сахиб, как-никак, будмаш[31]31
Будмаш – властелин.
[Закрыть], и у Неоджи не оставалось выбора. Он бы лишился своего места, да его бы еще выпороли впридачу, как это сделали с Ранбиром, кули из Рэнги, за то, что он отказался отдать свою жену младшему управляющему. Как поступил тогда сахиб? Ранбира упрятал за решетку, а себе взял его жену. Эта шлюха прожила несколько месяцев у него в доме, пока не надоела сахибу – на днях он ее выгнал и отправил снова жить в поселок.
– Ее нельзя осуждать, брат, – сказал Гангу, которому не нравился злобный тон Нараина. – Ведь она была вынуждена так поступить.
– У нее теперь есть украшения и хорошие платья, – горячо продолжал Нараин. – И ей дали землю.
– Все это так, – промолвил Гангу, угадывавший, сколько горечи прячется за озлоблением Нараина.
– Младший управляющий ни за что не даст мне участок, – с грустью покачал головой Нараин, – хотя завтра мне придется отправиться в клуб подготавливать площадку для поло. Вместо того, чего доброго, достанутся, как и тебе, пинки.
Переживания Нараина были близки Гангу – он сам испытал подобные. Правда, теперь он имел участок, но пережитое им горе, куда более тяжкое, чем унижение от побоев, смягчило его сердце, и ему хотелось прощать.
Жизнь, конечно, приучила его мириться с обстоятельствами. Работа под палящим солнцем, косовица, жатва, самые разнообразные обязанности, извечная борьба с природой – все это научило его терпению и упорству – добродетелям, выковывающим суровые сердца, но ослабляющим волю.
К тому же религия, учившая фатализму, как бы подтверждаемому всем тем, что подсказывал ему опыт о неизбежности смерти, невольно склоняла его верить, что после его испытаний наступит небесное блаженство.
Переносить страдания молча, подавлять в себе горечь, вызванную испытаниями, прощать, вырывать вон из сердца обиду и злобу – вот к чему отныне стремился Гангу.
И потому он теперь прощал всем.
В этом чувстве всепрощения не было, однако, ничего робкого и приниженного – он не покорялся никому, а лишь слушался внутреннего голоса, подчинявшего его высшей силе. Ему было нелегко справляться со своими врожденными наклонностями, но он твердо решил не поддаваться чувствам, диктовавшим ему единственный выход, совместимый с законами чести раджпута: смыть оскорбление могла только кровь.
Разве не встречаются в мире добрые люди? Ведь начал же он испытывать расположение к Нараину, хотя ранее вовсе не знал его…
Всепрощение не означает малодушия. «Люди, твердо идущие к цели, не знают ни любви, ни ненависти» – гласила слышанная им где-то поговорка. Легко прощать – вовсе не значит мириться со злом и перестать с ним бороться. В самом деле, истинное уменье прощать представляет тяжелый подвиг, выше которого есть лишь один: уметь прощать, смирившись и не гордясь!
– Нам следует прощать, – обратился он к Нараину.
Тот взглянул на него с изумлением – у него было красное от возбуждения лицо и в висках сильно стучала кровь.
Тут над притихшим поселком раздался протяжный вечерний сигнал рожка – пора было расходиться по домам.
– Вы дома? Эй, Гангу, Нараин? – послышался голос стражника снаружи.
– Пойдем спать, – тяжело вздохнул Нараин, поднимаясь с топчана, – пока нам не досталось от сторожа.
Глава 14
Жизнь хороша, если можно вот так скакать по полю, лихо сбоченившись в седле, верхом на добром коне, в упоении размахивая длинной бамбуковой клюшкой, в погоне за белым деревянным мячом, как носился сейчас Рэджи Хант, играя в поло на клубном поле.
Носясь, как в угаре, по полю, лихо гарцуя верхом на своей лошади, Рэджи Хант размахивал бамбуковой клюшкой, гоняясь за мячом. Он чувствовал себя истинным потомком благородных предков, гордился своей голубой кровью; прежде он хвастал ею в школьные годы, потом в Сэндхерсте и позднее в индийской армии. Он гордился даже и теперь, несмотря на все щелчки судьбы. Крикет – глупейшая игра для девочек да изнеженных мальчиков, хотя и пелось в школьной песне, что сражение при Ватерлоо было выиграно на спортивных площадках Итона. В Кемберлее чаще приходилось месить грязь, нежели попадать по мячу, играя в хоккей, а про армию и говорить нечего: там все диктовалось пристрастием полковника к биллиарду или настольному теннису. Здесь же, наконец, было настоящее поло, спорт богов, подлинная мужская игра, нечто с лихвой окупающее всю проклятую лямку службы, которую приходилось тянуть на чайных плантациях.
«Пусть только дадут носиться, как в угаре, лихо сбоченившись в седле, верхом на резвом коне, скакать, размахивая бамбуковой клюшкой, за белым деревянным мячом, пусть только дадут сразиться в поло – и тогда лети к черту все остальное», – примерно так думал Рэджи, вихрем пролетев мимо белой лошади Мэкра.
Первый тайм прошел блистательно. Лошадь под Рэджи была еще свежей, и сам он кипел неуемным восторгом. К тому же ему удалось забить гол.
Все сложилось как нельзя лучше, куда удачнее обычного, когда он чувствовал себя разбитым еще перед началом игры. Дело в том, что он всегда плохо спал накануне, заранее волнуясь перед игрой, чувствовал себя утомленным после дневной работы, нервничал, пока медленно тянулись часы ожидания, – приходилось обходиться без дневного отдыха, а потом вся эта возня с одеванием и другими приготовлениями; сегодня же он был в отличном настроении.
Жизнь пошла как-то веселее с тех пор, как он высказал в глаза де ля Хавру свое мнение; напряженная атмосфера ссоры словно разбудила в нем какие-то дремавшие запасы энергии.
Сейчас ему предстоит сквитать три гола, которые им забила команда старого Мэкра.
Вот Хитчкок, изловчившись, перехватил мяч. Рэджи так сильно затянул поводья, что морда его лошади покрылась пеной.
Три пропущенных гола Рэджи переживал как личный позор. В сущности, он единственный стоящий игрок в их команде. Этот сморщенный ублюдок Крофт-Кук не умел даже сидеть верхом, не то что ударить по мячу. Толстяк Туити слишком грузен для своей лошади. Единственной опорой Рэджи Ханта был Афзал, стоявший в защите, но ведь нельзя же допускать, чтобы гол забивал лакей, к тому же туземец! От этого мог пострадать престиж белого человека, так что было в сущности правильно ставить слугу позади, защитником.
Зато у противников Хитчкок и Мэкра хорошо сыгрались, и хотя этот Ральф и косил и не очень-то видел ворота, он все же всегда ухитрялся перегородить дорогу и не давал пробиться к своим воротам.
Если бы только удалось провести мяч мимо Мэкра…
Теперь Хитчкок остался позади и мяч лежал перед Рэджи, ярдах в пятидесяти: «А ну-ка, Рэджи, поднажми теперь, валяй во всю, – поощрял он себя, – подскачи-ка прямо к воротам, вплотную. Вперед, Тайпу, наддай, Тайпу, жми, пока не кончился тайм. Вперед!»
Но Тайпу захрипела, потом заржала, точно жалуясь на усталость, и сбавила ходу.
– Ну, ну, – подгонял ее Рэджи, пришпоривая кобылу изо всей силы. Она снова бросилась вперед. Всадник, привстав на стременах, нагнулся, вытянувшись всем корпусом над шеей лошади. Лицо его напряглось от усилий, кровь бурлила во всем теле, он ощущал себя безгранично сильным, переживая какой-то восторг, а в голове смутно промелькнули мечты о рыцарской славе, осенившей его своим золотым сиянием.
Но Тайпу скоро выдохлась. Ни боль от впившихся ей в бока каблуков, ни страх перед новыми ударами не могли заставить ее скакать с прежней резвостью, и она сбавила ход как раз в момент, когда Хитчкок, вымахнув откуда-то, словно тень пронесся перед носом Рэджи и умчался прочь на своей лошади, выхватив у него мяч.
– О черт! – выругался Рэджи и с досады снова со злостью вонзил каблуки в бока Тайпу и передернул ей мундштук во рту. Кобыла, набравшись храбрости, вместо того чтобы повиноваться, описала полукруг, а потом вовсе отказалась идти вперед. Самая дикая, необъезженная лошадь не могла бы так напугать Рэджи, как неожиданное ослушание всегда покорной Тайпу.
– А ну вперед, дура, – процедил он сквозь зубы, и лошадь, словно почувствовав непреклонную решимость седока, подчинилась.
Рэджи обливался потом, а внутри у него все клокотало от негодования, в нем вскипела волна слепой злобы, которой наконец удалось выплеснуться наружу, как порыв бури вырывается на простор из ущелья, долго сдерживаемый в его скалистых теснинах. В эту минуту Рэджи ничего не сознавал и скакал как одержимый, не разбирая дороги. Тут он заметил мяч в сотне ярдов перед собой и направил лошадь к нему. Но Ральф был уже возле мяча.
– Афзал, Афзал, – в отчаянье закричал Рэджи, – к мячу, скачи же, будь ты проклят!
Но прежде чем Афзал успел прискакать на помощь, Ральф подхватил мяч своей клюшкой и под носом у Крофт-Кука забил еще один гол команде Рэджи.
– О боже, – простонал Рэджи, совершенно сраженный таким исходом, – четыре к одному, и все по вине этого плешивого черта, – добавил он, с ненавистью глядя на Крофт-Кука.
Злоба и негодование душили его, он натянул повод, не зная, как успокоиться. Доносившиеся до него аплодисменты зрителей еще более увеличивали его ярость, и он взглянул в ту сторону, где на краю поля был натянут тент; под ним разместились миссис Мэкра, миссис Крофт-Кук и жена полицейского чиновника Смита.
– К черту потаскух, – пробормотал Рэджи, вглядываясь в тень под пологом тента, чтобы увидеть, расставляет ли клубный буфетчик столики.
Легкое дуновение ветерка приятно освежило ему лицо, и он заметил, что солнце уже зашло за верхушки вязов. Он глубоко вдохнул воздух и внезапно ощутил во всем теле истому, смутное волнение в крови, всегда возникавшее у него от верховой езды. Воображению его тут же представилось тело женщины с соблазнительно обнаженным торсом. Ему захотелось поскорее закончить состязание: он так бы и ринулся домой и бросился на свою жертву, буквально набросился бы и растерзал ее на части.
Кровь прилила ему к лицу при мысли о таком блаженстве, и глаза полузакрылись от нахлынувших чувств.
– Друг мой Рэджи, – окликнул его Ральф, – Афзал собирается пробить мяч.
Рэджи сразу очнулся от своих мечтаний.
– Попытаюсь еще раз, – пробормотал он и тронул лошадь. Можно было не торопиться, потому что кули, побежавший за мячом, не добросил его до Афзала.
Рэджи был настороже и приготовился принять мяч, так как знал, что Афзал перепасует его ему. Тут Тайпу неожиданно мотнула головой и, закусив удила, бросилась в сторону, напугав Рэджи внезапностью своего маневра.
– Что сегодня стряслось с этой подлой тварью? – удивился Рэджи и ударил ее по крупу своей клюшкой. Тайпу скосила глаз на всадника и продолжала топтаться на месте, точно хотела сбросить с себя придавившую ее тяжесть. Улегшаяся было ярость Рэджи снова вспыхнула в нем – поведение лошади грозило осрамить его перед всеми.
– Хузур, берегите мяч! – закричал Афзал.
Рэджи взял кобылу в шенкеля и натянул правый повод, чтобы поднять ее с места в галоп. На секунду она замялась. Тогда Рэджи помахал хлыстом перед ее мордой и еще сильнее сжал ей бока. Это смирило лошадь. Она мерным галопом поскакала к мячу. Прежде чем Хитчкок успел наскочить, Рэджи подхватил мяч на лопаточку своей клюшки. Он обвел его между ногами кобылы Ральфа и затем снова завладел им уже в пятидесяти ярдах от Мэкра.
«Победить или умереть», – пронеслось у него в мозгу. Решительное стремление к цели охватило его словно вихрь, и он скакал, стоя на стременах, точно плыл по воздуху. Кто-то преследовал его сзади, стараясь перехватить Тайпу. Сильный удар – и мяч пулей полетел в ворота противника.
– Браво, Рэджи, браво! – закричал Крофт-Кук.
– Ловкий удар, мальчик, – похвалил его обычно сдержанный Мэкра, осаживая свою лошадь. Из павильона также донеслись возгласы одобрения.
Рэджи немного сконфузился, так как сам был поражен совершенным подвигом, и хотя он гордился, что ему удалось превзойти всех своей ловкостью, в душе он не мог не подивиться своей удаче.
– Славно, Рэджи, – поздравил его и Туити. – Давай-ка забьем еще гол до конца тайма.
– Так вперед, друзья! – воскликнул Крофт-Кук, вдруг воодушевившись своей ролью капитана команды. На этот раз кули, стоявший за воротами, более удачно подал сахибу укатившийся мяч.
– Ральф! Следи за ним, – крикнул Мэкра, и Рэджи почувствовал себя польщенным тем, что его считают особо опасным противником и выделяют из остальной команды. Он приготовился подхватить мяч. Теперь его задача – во что бы то ни стало перехитрить Хитчкока. Он захотел переменить место.
Но Тайпу снова заартачилась, била задом, старалась сбросить с себя седока. Рэджи сжал ее ногами так, что их едва не свела судорога. Но кобыла ржала, мотала головой, встряхивала гривой, однако не двигалась с места, точно вросла четырьмя ногами в землю, подобно могучему дубу, готовому выстоять в любую непогоду, лишь слегка покачивая ветвями. Рэджи снова погрозил палкой. Ее Тайпу боялась, и страх заставил ее тронуться вперед; она пошла боком, повертывая голову и стараясь разглядеть напугавший ее предмет. Убедившись, что это лишь знакомая бамбуковая палка с утолщением на конце, она решила не поддаваться.
Кобыла вдруг закусила удила и помчалась к конюшне.
Рэджи боролся, Рэджи изощрялся, Рэджи напрягал все силы. Рэджи ругался и проклинал. Рэджи призывал на помощь всю свою волю, свое умение и свои способности. Рэджи ожесточал свое сердце, насколько оно могло вместить ярость. Рэджи лихорадочно искал те уловки или приемы, какие только мог изобрести его ум. Рэджи вонзил свои каблуки в брюхо лошади. Рэджи хлестал ее по бокам, по крупу и по ногам. Рэджи до крови избивал ее концом своей клюшки, но он ничего не мог с ней поделать, разве что удерживал ее от того, чтобы она не взвилась в воздух.
А Тайпу скакала, точно слышала песнь ветра в ушах. Она мчалась, как буря, вырвавшаяся на простор безбрежной равнины. Она мелькала подобно молнии, и ржание ее было подобно грому. Она взвивалась на дыбы и опускалась на землю с упрямством, порожденным куском железа, вложенным ей людьми в рот. Она испускала звуки, подобно горе, раскалываемой на части землетрясением. Глаза ее налились кровью и роняли гневные слезы. Она разбрызгивала клочья пены… Тайпу ни за что не хотела больше участвовать в игре!








