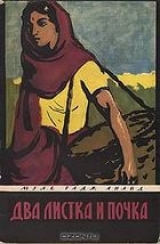
Текст книги "Два листка и почка"
Автор книги: Мулк Ананд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Тем не менее рассказы о доблести и героизме Роберта Брюса были живы в ее памяти; такие люди, как он, и создали Британскую империю; Барбара это знала. Но она недоумевала, почему национальным праздником в Ассаме стал день святого Андрея, а национальным напитком – «Джонни Уокер»[19]19
Марка шотландского виски.
[Закрыть]. И, конечно, она никогда не снисходила до барахтающегося в пыли низшего класса с его грязью, пороками и убожеством.
«Очень прискорбно, – говорила она себе, – но что же она может сделать? Совершенно бесполезно портить свою жизнь мыслями о том, что судьба несправедлива к другим людям, и все время страдать из-за этого. Ведь они с де ля Хавром могли бы быть так счастливы друг с другом! Но с ним невозможно было спорить, его ничем не вразумишь. Его красноречие сметало все ее возражения. Она знала только то, что раздваивалась между тем, что усвоила с детства, и своей любовью к нему. И сейчас его опять не было возле нее и она стояла одна, прислушиваясь к жуткой, мертвой тишине этой темной земли и еще более темной гущи деревьев.
Но нельзя показывать вида – никто не должен заметить, в каком она состоянии. Ей не хотелось новых споров с родителями – они ни к чему не ведут! Лучше уж пойти посидеть с матерью и миссис Мэкра.
Она стряхнула с себя оцепенение и прислушалась к тому, что говорит отец.
– На плантации был случай малярии, – сказал он майору Мэкра.
– О! – протянул тот, с наслаждением потягивая виски и моргая глазами, как будто отгонял дремоту.
– А нельзя отправить ее в Англию? – говорила Мэйбл матери Барбары, когда та подходила к ним, но увидав приближающуюся девушку, вспыхнула и быстро переменила разговор:
– Любовь начинается самым неожиданным образом. У нас с мужем началось с мыши. Идите сюда, милая Барбара, садитесь.
Барбара улыбнулась, взяла папиросу с этажерки, закурила и молча села рядом.
– Я всегда говорю, что у каждого человека есть какой-нибудь заскок, – продолжала Мэйбл; несмотря на долгие годы, проведенные в обществе членов клуба, она оставалась все такой же добродушной провинциалкой. – Даже моя мамочка – вы понимаете, это вовсе не значит, что я хочу над ней посмеяться, – даже она безумно боится мышей. Если при ней только заговорить про мышь, у нее сразу делаете я лицо, как у фокусника, который глотает мячики.
– Да перестаньте, – невольно рассмеялась Барбара.
– Можете себе представить, что сделалось с мамочкой, продолжала Мэйбл, – когда она увидала, что на коврике у двери кухни сидит мышка и моет лапками мордочку…
Варвара знала, что Мэйбл будет без конца болтать глупости. Ее часто забавляло воодушевление и огонь, которые та вносила в свою болтовню, но сегодня Барбара была слишком раздражена и обеспокоена, чтобы ее слушать.
– Мне хочется чего-нибудь выпить, – сказала она, вставая, и пошла в столовую. Оттуда выходили Хант, Ральф, Туити и Хитчкок.
– Буфетчик там? – спросила она, увидев стакан виски в руках Ханта.
– Да, – ответил тот, – но он перетаскивает сюда всю стойку. Идите, выпейте с нами.
Барбара улыбнулась и пошла в гостиную впереди мужчин.
Хант и Ральф кинулись наперегонки к самому удобному кожаному креслу, которое стояло посреди комнаты, Хант опередил Ральфа; тот был неуклюж, как настоящий фермерский сынок, широкоплечий, с длинными руками и тяжелой походкой; кроме того, он был пьян. Хитчкок, высокий, красивый и застенчивый, напевал себе под нос, склонив голову, и чем-то напоминал греческую статую. Туити направился к роялю, уселся на табурет и начал перебирать ноты на этажерке.
Барбара рассердилась. Рэджи чуть не разорвал ей платье, кинувшись к креслу; ей было противно, что они в нетрезвом виде и ведут себя, как мальчишки. Она круто повернулась и опять пошла к двери, чтобы заказать рюмку вина.
Она услыхала, как Ральф спросил: «Что это с ней сегодня?» Потом они пошептались, и Хант громко заговорил:
– Жила-была девушка, звали ее Барбара…
Ей вдруг захотелось повернуться и дать ему хорошую пощечину. Но она понимала, что обращать внимание на их поведение было ниже ее достоинства. Она внезапно почувствовала такое отчаяние, что у нее сжалось сердце и глаза наполнились слезами. Чтобы скрыть их, она наклонила голову, дошла до двери и велела подать рюмку вина, потом стала дожидаться у выхода на веранду, пока его принесут, поглаживая пальцами листья пальмы. На душе у нее было тяжело. «Дым попадет в глаза…» – доносился до нее мотив истасканной песенки, которую Туити с трудом выстукивал на дребезжащем стареньком рояле. «До чего все это глупо», – подумала она, в глубине души недовольная тем, что у нее не хватает мужества порвать с предрассудками тех людей, среди которых она живет, хотя для нее уже ясна полная бессмысленность такого времяпрепровождения. Она пыталась как-то отделить себя от этого, обратив свой гнев на некрасивые выходки членов клуба.
Все эти люди, начиная с нее самой, щеголяли здесь друг перед другом, надевая нарядные платья каждое воскресенье, стараясь казаться красивыми и значительными, важничали, напыщенно толковали о политике и делах, отпускали остроты, рассказывали анекдоты или пели романсы. Все это было им совершенно безразлично, а свои искренние чувства они скрывали; они никогда не говорили о тех настоящих, не относящихся к этому всему вещах, о которых они думали, когда были сами с собой. Может быть, им хотелось поговорить об этих вещах, но они боялись, что над ними будут смеяться, если они заговорят о них. И они придумывали другие, ненастоящие мысли и чувства, которые выдавали за свои, не понимая, что это еще смешнее. Барбара готова была смеяться им в лицо, громко расхохотаться, но сделай она это, все подумали бы, что она сошла с ума. Однако Барбара знала, что она не сумасшедшая, а смеется над всеми этими людишками, которые что-то скрывают, что-то делают исподтишка, от кого-то таятся, только потому, что сама она прямодушна и откровенна. Почему они не говорят открыто, как честные, чистые люди? Почему они такие вежливые и лицемерные? Ведь их мерзкие песенки и сальные анекдоты противоречат их добродетельному тону! Разве они не могут быть такими, как де ля Хавр, который откровенно высказывает свои взгляды? Поэтому он ей и понравился. Сначала она возмущалась его откровенностью, но потом увидела, что он настоящий человек – прямодушный, простой, честный; он всегда стремится к правде; правда кипит в его душе, как лава в вулкане, готовая излиться, смести и сжечь всю ложь…
На дорожке за окном послышался стук копыт.
Барбара сделала вид, что ей надоел назойливый припев, громко доносившийся из соседней комнаты; она отставила рюмку портвейна, которую держала в руке, и вышла на веранду.
Де ля Хавр поднимался по ступенькам; за ним шел его помощник Чуни Лал. Их шлемы, рубашки, бриджи и забрызганные грязью высокие сапоги мало соответствовали обстановке клуба.
– Хелло, – окликнула их Барбара.
Де ля Хавр пожал ей руку и повел за собой. Непосредственная и живая, как дитя, пылающая огнем молодой любви, она, казалось, излучала свет в душном мраке этой ночи. Де ля Хавр вспомнил, что его прежде всего поразил ее детский смех, как ему сразу вскружили голову задорные огоньки в ее глазах, изогнутые в улыбке губы, ее высокая грудь, стройные ноги, все гибкое тело девушки.
Они прошли в гостиную; доктор Чуни Лал шел следом.
– Алло, всей компании! – приветливо сказал де ля Хавр, все еще разгоряченный поездкой. Застенчивый как всегда, он был рад, что за громкими звуками песенки, которую все пели хором, никто не заметил, как они вошли, кроме Крофт-Кука и Мэкра.
– Что нового? – спросил Крофт-Кук.
– На все дома, где были случаи заболевания, сэр, наложен карантин, и их жители отделены от остальных рабочих на несколько дней, – ответил де ля Хавр. – Весь поселок опрыскали дезинфицирующими средствами. Но на плантации майора Мэкра тоже был один смертный случай, поэтому я и задержался.
– Когда наконец эти паршивые кули научатся понимать, что такое чистота и гигиена! – нахмурившись проговорил Крофт-Кук.
– Они, наверно, не принимают никаких мер предосторожности, – сухо вставил Мэкра.
– Если бы они знали точно, когда их укусит зараженный москит, – сказал де ля Хавр, смущенно улыбаясь, – они могли бы заранее сходить в амбулаторию и проглотить таблетку хинина… и лекарство было бы у них в крови прежде, чем микроб малярии начнет размножаться. Но мы не знаем этого точно, как не можем предсказать будущего, которое от нас скрыто; москит может укусить их в любое время дня и ночи, ведь они спят без полога… Я уже думал, что, может быть, следует рекомендовать им спать под пологом…
– Да к чему же они будут прикреплять полог, когда они спят прямо на лоне матери-земли? – рассмеялся Мэкра, которому показалась чрезвычайно забавной мысль, что кули будут пользоваться этим средством от москитов. Он был в хорошем настроении; его жирное, обрюзгшее лицо горело от выпитого вина, и припухшие глаза добродушно щурились, как будто в полусне.
– Но вам, наверно, хочется пить? – прервал он себя. – Хотите рюмочку?
– Да, пожалуйста, мы выпьем с доктором Чуни Лалом, – ответил де ля Хавр.
Мэкра кликнул буфетчика.
– Садитесь, доктор, – сказал де ля Хавр Чуни Лалу, который смущенно стоял в стороне, как будто дожидаясь приказаний; сам де ля Хавр сел на красный кожаный диван и откинулся на спинку.
Музыка смолкла, и все, кто пел хором, разбрелись по комнате, напевая или требуя у буфетчика еще вина.
Рэджи Хант, пошатываясь, подошел к Чуни Лалу:
– Мне кажется, темнокожих в клуб не допускают…
– Послушайте, Рэджи, он мой гость, – вскочил с места де ля Хавр и подошел к Рэджи Ханту. – Вы…
Он остановился, боясь сказать лишнее; лицо его побледнело от ярости.
– Рэджи, Рэджи, – позвал Мэкра и, встав, попытался увести Ханта. В душе он разделял чувства Рэджи, как и все правоверные англичане, жившие в Индии; индийцам, как правило, не разрешалось быть членами английских клубов, но, конечно, надо было это сделать иначе, просто поговорить потом с де ля Хавром и попросить, чтобы он впредь не приглашал Чуни Лала.
– Буфетчик, – заорал во весь голос Рэджи, когда тот вошел на зов Мэкра, – вышвырни цветного!
Остальные мужчины молчали, как будто ничего не видя.
Женщины замерли.
Чуни Лал повернулся и пошел к выходу. Де ля Хавр стоял, дрожа от злости.
– Не обращайте внимания, – сказал ему Туити и потрепал его по спине. – Он просто выпил лишнее.
Де ля Хавр пожал плечами.
– До свиданья, – пробормотал он и пошел за своим помощником.
Барбара смотрела им вслед, в зеленую бездну деревьев за балконной дверью, которая вот-вот поглотит их. Она не замечала ничего, что происходило вокруг нее. Ей было душно в стенах этого клуба, атмосфера вражды и ненависти в нем угнетала ее, как потемки, через которые не пробиться ни одной светлой мысли.
Здесь был Рэджи Хант, ограниченный и невежественный, там – умирающие от малярии кули, а между ними – де ля Хавр, который, должно быть, терзается теперь всем этим… А эти жестокие, черствые люди непременно назвали бы его размазней, если бы знали, какое у него нежное сердце; он иногда со слезами на глазах рассказывал… О, если бы они могли сочувствовать, – мысленно воскликнула она, – если бы они видели, что кроме них есть и другие люди, бедные, обездоленные кули, и что им хочется жить и все они страдают… Эти противоречия были так ужасны… А теперь она даже не знала, что подумает о ней де ля Хавр. Ведь он и ее причисляет к этим грубиянам… И все недоразумения, которые могут произойти после такой выходки Ханта… Она этого не вынесет. Ей стало не по себе. Она откинула голову и продолжала смотреть в темноту ночи за дверями.
Глава 8
Внезапная смерть жены сразила Гангу; он молча глядел в ее остановившиеся глаза, блестевшие из-под незакрытых век, и его затуманенное сознание силилось и не могло вместить того, что воспринимали чувства. Как мог он поверить, что подруга, чью привычную близость он ощущал как нечто неотъемлемое от самого себя, безвозвратно ушла от него в вечное безмолвие небесного царства, стала «сварагбаш»?[20]20
Сварагбаш – дух умершего.
[Закрыть] Вначале он впал в какое-то оцепенение и тщетно звал слезы отчаяния – только они могли его облегчить. Но у него лишь вздрагивали губы и он молчал, опустив голову и закрыв лицо руками, безразличный ко всему, что его окружало.
Некоторое время он сидел возле тела, скорчившись, как одеревенелый, потом опять взглянул на покойницу. Ее красивое лицо потеряло свою округлость в борьбе с богом смерти – Ямой; оно неестественно вытянулось, рот открылся, обнажив гнилые, с желтоватым налетом зубы, торчавшие из посиневших десен. Лица, которое Гангу так хорошо знал, воодушевленного, меняющего выражение, уже не было, а было другое, измученное, осунувшееся, с зеленоватыми жилками, просвечивающими сквозь мертвенно-бледную кожу. Это было тело жены, которым обладал Гангу, но куда исчез трепетный жар ее страстных объятий? Он хотел притронуться к ней и не мог; и внезапно, как при вспышке молнии, озаряющей темную ночь, все стало ясным: и трагическая утрата женщины-подруги и чудовищная действительность смерти, глядевшей ему в лицо.
Длинный день тянулся в одиночестве; с ним тянулись нити воспоминаний и мыслей о его страданиях, страданиях детей, – тянулись и опутывали его сердце. Он отослал детей погулять и сидел один, прислушиваясь к биению своего сердца; на его хижину был наложен карантин, и никому не позволяли к ней подходить. Мало-помалу его душа перестала безмолвно сопротивляться страданию, и он горько заплакал; он долго рыдал, задыхаясь и содрогаясь от ужаса, от горя, от безнадежности утраты и своей полной беспомощности. Перед мысленным взором Гангу вереницей проходили события его жизни, то пустые и выщербленные, как черепки разбитого кувшина, то трепещущие счастьем, но большей частью будничные и однообразные: бесконечный круговорот мелких повседневных дел, окрашенных вечным ощущением какой-то сосущей боли под ложечкой, больше от голода, чем от страха. Печаль темным облаком дыма стояла над его воспоминаниями, которые, не угасая, тлели всю ночь в его душе.
На следующее утро Гангу с трудом поднялся с пола, где лежал рядом с сыном; слабость, сковывавшая все его члены после лихорадки, еще более усилилась от тяжелых переживаний прошлого дня. На похороны жены не было денег. В джунглях можно было набрать достаточно хворосту, чтобы сжечь тело, но надо непременно выполнить все религиозные обряды, как полагается. Надо непременно купить красный саван и заказать бамбуковые носилки.
А во время этой злосчастной прогулки на базар за покупками он истратил не только все заработанные деньги, но и все, что осталось от денег на дорогу. Брат сахукара[21]21
Сахукар – деревенский торговец.
[Закрыть], у которого лавка стояла на краю поселка, сразу же по приезде Гангу предложил ему, если понадобятся деньги, взять ссуду под проценты на обычных условиях, но Гангу отказался наотрез; он твердо решил после отъезда из деревни никогда больше не просить помощи у ростовщиков, которые его разорили; все напоминало ему в его изгнании о том, что долги ведут к погибели. Но что же делать сейчас? Сжечь тело жены необходимо, нельзя оставлять его разлагаться в их маленькой хижине в эту жару. Дети боятся и плачут, а сахиб доктор еще вчера велел убрать тело, чтобы они не заразились.
Гангу стоял, опустив голову на грудь, стараясь не смотреть на прикрытое простыней тело, боясь, что печаль, наполнявшая его сердце вместо любви, вызовет новый взрыв отчаяния; тут он вспомнил рассказы Буты о том, что сахиб управляющий, как настоящий май-бап[22]22
Май-бап – меценат, щедрый покровитель.
[Закрыть], дает взаймы деньги кули, которые нуждаются. Он решил пойти в контору и попросить, чтобы бабу пропустил его к сахибу.
– Пойдем, Будху, – ласково обратился он к сыну, – пойдем, мой львенок, нам нужно все устроить для похорон твоей матери.
У него мелькнула мысль, что будь Будху постарше, он был бы другом, правой рукой отца, они вдвоем несли бы тяжесть, навалившуюся на его старые плечи. Он вышел из дома, мальчик пошел следом.
Солнце уже давно взошло и светлыми бликами ложилось сквозь чайные кусты на медно-красные лица взрослых и детей, собиравших листья. Гангу стало совестно, что он не работает; сердце его глухо стучало в груди – почему бог избрал именно его и взвалил на него столько бед?..
Сборщицы, работавшие группами по восемь-двенадцать человек, напевали, как всегда, песню сборщиков чая:
С корзиной полной на плечах
Иду и собираю чай,
Два листка и почка,
Два листка и почка.
Веселый ритм песенки отдавался мучительной болью в сердце Гангу: Саджани сразу выучила ее и распевала вдвоем с Леилой; ему всегда было неловко петь с ними. А теперь Саджани не стало, а жизнь идет попрежнему.
Он, спотыкаясь, торопливо шагал вперед. Будху принялся ловить лягушку на краю канавы и отстал.
– Пойдем, Будху! – окликнул Гангу. – Если лягушка помочится тебе на руку, у тебя будет проказа. Брось ее, сынок!
Будху подбежал к отцу; он был послушнее, чем всегда: отец был такой удрученный, что мальчик начинал понимать весь ужас случившегося.
Гангу показалось, что небольшой автомобиль бура-сахиба промелькнул на деревянном мостике, перекинутом через канаву от бунгало заведующего к дороге, на которой стояла контора. Он прикрыл нос концом набедренной повязки и подождал, пока уляжется поднятая машиной красноватая пыль.
– Ты пока поиграй, сынок, – сказал Гангу, когда они вошли во двор конторы, – а я сейчас приду.
Весь бледный, задыхаясь от слабости и страха, он поднялся на ступеньки веранды.
– Что тебе нужно? – спросил чапрази[23]23
Чапрази – курьер, посыльный.
[Закрыть], Хамир Синг в красной ливрее, сидевший рядом с кули, который махал опахалом.
– Сардарджи[24]24
Джи – частица, прибавляемая при почтительном обращении.
[Закрыть], – умоляюще произнес Гангу, складывая руки, чтобы выразить почтение к служителю, – мне нужно видеть сахиба.
– Какое у тебя дело к сахибу? – продолжал спрашивать слуга в красной ливрее, рыгая и поглаживая бороду правой рукой.
– Моя жена… – начал Гангу. – Сардарджи, у меня умерла жена, – он запнулся, вытер набежавшие слезы и продолжал: – Я хочу попросить сахиба, не поможет ли он мне ссудой?
– А за комиссию мне? – сказал чапрази, протягивая руку за деньгами.
– Это будет мой долг тебе, сардарджи, – быстро сказал Гангу, зная, что ему не добиться свидания с сахибом, если он не даст взятку чапрази.
– Ты забудешь мне заплатить, а я не запомню, как тебя зовут, – сказал Хамир Синг. – Как я тебя узнаю? Ведь вас много! Ты мне заплати из тех денег, которые получишь от сахиба.
– Хорошо, сардарджи, – согласился Гангу, который сейчас обещал бы что угодно – не потому, что он особенно желал ублаготворить чапрази, а потому, что ему во что бы то ни стало нужно было достать денег на похороны жены.
Хамир Синг пошел в контору.
Через минуту оттуда вышел бабу Шаши Бхушан Бхаттачарья. Заложив руки в карманы брюк и нагнув голову, он поверх очков окинул взглядом тощего, как скелет, рабочего от изможденного лица до жилистых ног.
– Что тебе нужно? – спросил он.
– Бабуджи, у меня умерла жена. Я хочу попросить у сахиба ссуду на похороны, – ответил Гангу, поднося руку к голове в знак приветствия.
– Ты тот самый кули, которого привез Бута?
– Да, хузур.
– Ах ты грязный ублюдок! Я не получил подарка за твою вербовку ни от тебя, ни от этой свиньи Буты, с какой стати я буду докладывать о тебе сахибу?
– Хузур, я не получал денег до самого конца недели, – оправдывался Гангу. – А от выданных на дорогу у меня осталось слишком мало, поэтому я не мог ничего тебе подарить. Но я непременно пришлю тебе корзину сладостей к празднику.
– К чему мне твои поганые сладости! – возразил Шаши Бхушан. – Я не знаю, какой ты касты. Мне нужны деньги.
– Бабуджи, я раджпут[25]25
Раджпут – принадлежащий к касте воинов.
[Закрыть], и пища в моем доме чистая, – уверял Гангу. – Но ты получишь от меня деньги.
– Где они? – спросил Шаши Бхушан, бесцеремонно протягивая руку.
– Бабуджи, я обещаю дать тебе из тех денег, которые получу от сахиба, только ты поговори с ним по-английски и попроси для меня ссуду, – умолял Гангу. – Моя жена умерла вчера вечером. И я был болен. Сжалься надо мною!
– Почему вы все, кули, не следите за своим здоровьем? – сказал Шаши Бхушан. Он переступил с ноги на ногу и вздохнул, выражая этим и отвращение и соболезнование.
– Так угодно судьбе, ваша милость, – смиренно произнес Гангу и приподнял сложенные руки над головой, чтобы выразить свою благодарность за сочувствие.
Шаши Бхушан повернул ручку двери и ушел в контору.
Гангу со страхом дожидался; его удивлял строгий порядок, царивший кругом: цветочные клумбы во дворе, бамбуковые шторы на веранде; тишину прерывал только скрип пунки[26]26
Пунка – опахало.
[Закрыть], которую раскачивал кули, дергая за проволоку. Потом Гангу перевел глаза на дверь, за которой исчез бабу.
– Хамир Синг, – кликнул бабу из кабинета сахиба.
Чапрази тотчас же распахнул дверь, и из нее вышел торжественно-невозмутимый Крофт-Кук, распространяя приятный аромат сигары.
Гангу поднес сложенные руки ко лбу, приветствуя сахиба.
– Все молчали. Крофт-Кук отрывисто спросил, коверкая индийские слова: – Нужны деньги?
– Да, хузур, – ответил Гангу.
– Сколько тебе нужно?
– Двадцать рупий, сэр.
– Что ты мне дашь в обеспечение ссуды и процентов? Есть у тебя какие-нибудь украшения? – спросил сахиб.
– Нет, хузур, – запинаясь проговорил Гангу. – Мы ничего не привезли из деревни.
– Что же у меня останется в залог того, что ты вернешь деньги?

– Хузур, я работаю у вас на плантации, – начал объяснять Гангу. – Я отработаю долг. А если ваша милость даст мне клочок земли, как обещал мне сардар Бута, я буду стараться изо всех сил, чтобы выплатить долг деньгами, которые выручу от продажи овощей и риса.
– Это все очень ненадежно, – возразил Крофт-Кук. – Да на что тебе столько денег?
– Хузур, вчера у меня умерла жена от лихорадки, – сказал Гангу прерывающимся голосом.
– Как! От малярии? – воскликнул Крофт-Кук.
– Да, хузур. Сначала заболел я, а потом она – и умерла, – пояснил Гангу.
– Вон! Вон! – заорал Крофт-Кук, багровея от ярости и толкнул кули ногой. – Дурак! Мерзавец! Убирайся вон! Ты разнесешь заразу по всей плантации! Разве ты не знаешь, что у вас карантин? Кто разрешил тебе сюда прийти?
– Простите меня, хузур, простите, – лепетал Гангу, пятясь задом из почтения к сахибу и униженно простирая сложенные руки; его лицо со впалыми щеками подергивалось от страха.
– Вон! Вон! – продолжал орать Крофт-Кук.
Шаши Бхушан Бхаттачарья, боясь, как бы ему не попало за то, что он впустил заразного больного, вышел вперед, угрожающе размахивая руками, чтобы показать сахибу, что он здесь ни при чем.
Чапрази тоже зашагал по-военному, вытянув руку в красном рукаве, как семафор, и с криком: – Убирайся, низкая тварь, – вытолкнул Гангу со двора.
Гангу вышел из конторы совершенно подавленный: Крофт-Кук внушал ему не меньший ужас, чем сам всемогущий бог. Он то поднимал глаза к небу, как будто ожидая, что его испепелит огонь, ниспосланный карающей десницей божества, то украдкой оборачивался, чтобы удостовериться, что сахиб не гонится за ним с плетью, собираясь наказать его за проступок. После внезапно обрушившегося на него горя он был готов безропотно перенести все унижения; безразлично-покорный, как все индийцы, он говорил себе, что это только возмездие за какие-нибудь грехи, совершенные им в предыдущей жизни. И кроме того, все это было так ничтожно по сравнению с ударом, который нанес ему бог, отняв у него жену!
Как-то раз, еще в Хошиарпуре, когда его ударил один крестьянин из их деревни, он хотел ему отомстить. Но теперь он и не помышлял о том, что отомстит сахибу. Крофт-Кук ударил его за то, что он разносит заразу, он это понимал и пытался убедить себя, что получил бы ссуду, если бы не был в карантине. Он вытер пот со лба и стал осматриваться, ища сына. Жаркий воздух волнами ходил перед его затуманившимся взором; он разглядел Будху – тот вприпрыжку бежал по пустынной дороге.
– Посмотри, какой гвоздь я нашел, – возбужденно обратился мальчик к отцу, протягивая ладонь, на которой лежал ржавый болтик.
– Брось его, сынок, – сказал Гангу; сегодня он был готов поверить, что гвоздь, принесенный домой в понедельник, предвещает несчастье: этой примете верила покойная жена.
Будху начал всхлипывать.
– Ну что ты, сынок, – промолвил Гангу, взяв сына на руки. – Не огорчайся, не нужно плакать, ведь ты знаешь, какое у нас горе? Мне нужно все устроить для похорон матери. Неужели ты такой бесчувственный и тебе не жалко, что она умерла? – И он опустил мальчика на землю.
Будху разрыдался.
Остановившись у моста, который выходил на шоссе, Гангу стал думать, как же ему теперь быть. В душе у него была печаль. Он огляделся и заметил фигуры кули, работавших в разных местах плантации.
Вдруг в его омраченной памяти выплыла, как призрак, фигура сардара Буты, который привез его сюда. Гангу осенило: вот у кого он попросит немного денег! «В конце концов, это он затащил меня сюда, значит, он должен мне помочь, тем более, что он меня обманул. Я не обижаюсь на него за это, и он не обязан мне помогать, но уж так, по старой памяти – ведь как-никак, мы с ним из одной деревни», – размышлял Гангу.
– Беги домой, сынок, – сказал он, погладив Будху по голове, – а я пойду к дяде Буте. Скажи Леиле, что я приду немного погодя.
– Можно мне взять гвоздь? – спросил мальчик.
– Бери, бери, – разрешил Гангу, – только отправляйся домой.
Мальчик побежал через дорогу.
Гангу повернулся и, с трудом волоча отяжелевшие ноги, направился к тому участку, где Бута наблюдал за расчисткой леса.
Но не успел он пройти и нескольких шагов, как уже почувствовал смутный ужас: вдруг сахиб или чапрази увидят, что он здесь разгуливает и опять побьют его?
Он оглянулся на контору, потом обвел взглядом все вокруг. Над плантацией простерлось нестерпимо синее, бездонное небо; с него лился зной, который окутывал маревом всю долину, подавляя все живое. Кругом было так тихо, что Гангу слышал, как колотится сердце в груди. Он устало побрел дальше, не в силах бороться со всем, что бурлило в его душе. Но кругом никого не было, и чувство страха растаяло, как туман, растворившись в гόре, темной тучей заслонявшем от него все остальное. Он чувствовал себя, как обреченный, отданный во власть невидимых сил, теней, созданных фантазией темных людей, которые веками, из поколения в поколение сталкиваются с неумолимой смертью.
Дойдя до края участка, где шла рубка, он увидел кули, остановился и крикнул:
– Сардар Бута Рам!
Бута, стоявший в стороне, опираясь на палку, услыхал голос Гангу и не отозвался. Он еще вчера узнал о смерти Саджани и чувствовал себя не совсем уверенно, так как был косвенным виновником свалившегося на Гангу несчастья, но не желал себе в этом признаться.
– Эй, Бута! – нетерпеливо повторил Гангу громче.
– Гангу Рам, – ответил Бута; его раболепная, трусливая душонка отозвалась на грубый окрик скорее, чем на вежливый зов; он подошел к Гангу.
– Друг, – сказал он тихо и грустно, с выражением печали на лице, – я был так огорчен, узнав, что мать Будху скончалась.
– Не можешь ли ты дать мне взаймы денег на похороны? – попросил Гангу, запинаясь. – У меня нет ни пайсы, а тело лежит в доме уже вторые сутки.
– К сожалению, у меня нет наличных денег, – ответил Бута. – Все свои небольшие сбережения я держу в банке, и не хочу из них брать, потому что требуется разрешение за подписью сахиба – и бабу тоже нужно дать за это. Ты можешь получить ссуду у сахиба под залог украшений твоей жены.
– Сахиб не дает мне ссуды, – сказал Гангу, – я только что от него. Он побил меня за то, что я вышел из карантина. Ах, друг Бута Рам, я не поехал бы сюда, если бы знал, что здесь так плохо! – И он вытер рукой слезы, навернувшиеся на глаза от жалости к самому себе и от обиды на сардара.
– Так сходи к банье на базар, – посоветовал Бута и добавил с напускным участием: – Конечно, он берет больше процентов.
– Мне придется нарушить обещание, которое я дал, – взять ссуду у ростовщика и платить большие проценты, – сказал Гангу. Он отлично знал цену соболезнования Буты, но все-таки старался убедить себя, что тот хорошо к нему относится, и добавил: – Ты понимаешь, брат, ведь не могу же я отдать на съедение шакалам и гиенам тело матери моих детей!
– Ах, извини меня, – коротко ответил Бута, отходя от него. – Мне надо смотреть за работой.








