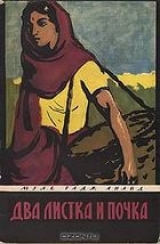
Текст книги "Два листка и почка"
Автор книги: Мулк Ананд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Глава 9
«Если бы можно было навсегда остаться здесь и никуда не уходить», – думала Барбара, сидя на диване в кабинете де ля Хавра, из окон которого была видна больница. Для нее в этой комнате было какое-то необъяснимое очарование. Ей почему-то всегда казалось, что здесь больше жизни, чем во всем ее доме. И она, уже в который раз, стала осматривать комнату, стараясь понять, в чем дело.
В глаза прежде всего бросались книги; они были повсюду – плотно стояли на высокой, почти до потолка, полке, лежали аккуратными стопками по всем четырем углам письменного стола, валялись на полу «в художественном беспорядке», как любил говорить де ля Хавр; книги были даже на камине, подпертые с двух сторон склоненными в задумчивости мужскими фигурками, и под единственной картиной. Как она ревновала его сначала к этой женской головке Модильяни!
Что влекло ее в эту комнату, зачем она пришла сюда сегодня, несмотря на запрещение матери? На стене, как раз против дивана, над грудой рукописей висела запыленная маска с лица статуи бога смерти Ямы, – темный, уродливый дьявол, воплощенная ненависть.
«Порядок в беспорядке», – говорил де ля Хавр о своей комнате; действительно беспорядок! Она встала и провела пальцем по корешкам наваленных на полу книг, чтобы посмотреть, стер ли он с них пыль после того, как она его дразнила, – он только смеялся над ее замечаниями: «Женщина превращает всякую комнату в будуар, а для мужчины это мастерская».
Он всегда умеет вывернуться! И как он говорит! Он становится высокомерным, презрительным и насмешливым – настоящий демон! В его небольшом лице нет ни одной правильной черты, оно просто некрасиво, но стоит ему открыть рот и заговорить о том, что его интересует, как он преображается. Глаза искрятся чувством, умный лоб собирается в складки, по щекам разливается бледность, а подбородок упрямо выдвигается вперед. Какой страстный огонь горит в нем, томя и испепеляя ее душу! Ее любовь к нему зажглась от искры этого огня. Он по-женски чуток – наверно, поэтому она и полюбила его. В порывах страсти он почему-то напоминал ей тигра, в его ласках была такая вкрадчивая нежность. Он не внушал ей ужаса, как все другие мужчины, такие огромные, такие неотесанные. Он говорил, что у нее пониженные половые рефлексы. Она не понимала, что это значит.
Во всяком случае это не отражается на ее чувстве к нему. Ему не на что жаловаться. Она отдалась ему без колебаний и их взаимная любовь так прекрасна; других мужчин до него она не знала. При одном воспоминании ее охватило такое чувство, как будто ее тело лежало на мягком, ласкающем шелку. Он всегда будил в ней ответную страсть, которая наполняла всю ее сладкой болью; и теперь она вся горела от воспоминаний, которые возбуждали и изумляли ее.
Как это у них хорошо получается, думала она, и никто решительно не знает. И ее родители ничего не подозревают, хотя и говорят, что не стоит с ним связываться. Но она ни за что с ним не расстанется. До тех пор, пока он и она не перестанут быть самими собою, их ничто не разлучит. Но где же он, в самом деле? Куда он запропастился? Конечно, было глупо явиться без предупреждения! Она его дожидается уже целую вечность.
Проанализировав свои мысли, она как-то вдруг отрезвела и с испугом подумала, до чего она еще наивна! Все ее чувства напряглись, как натянутые струны, словно ждали его прикосновения, которое должно было их успокоить. Мысль о нем звучала в ее душе, как неясная мелодия, которая лилась и не прерывалась. Она приподнялась на локте; недовольство собой боролось в ней с окружающим безмолвием, склонявшим к покою и безмятежности. Она как будто уже примирилась со всем, что неизбежно вставало между ними и в ней самой, и в окружающем их мире. Голова ее грустно опустилась; она решила оставить ему записку и уйти, боясь, как бы мать не начала беспокоиться.
Барбара встала с дивана, подошла к столу и начала искать чистый листок бумаги среди кипы, исписанной его неразборчивым почерком. «Опять какие-нибудь скучные писания, – подумала она с полупрезрительной улыбкой. – Наверно, это книга, которую он все пишет». Она взяла одну страницу и начала читать.
«В чем кроется действительная причина бедствий всего многомиллионного населения Индии, страдающего от недоедания, глазных болезней и паразитов? В том ли, что по воле судьбы они родились и живут в тропиках, где природа представляет собою настоящий рассадник всевозможных болезней, с которыми люди не в силах бороться? Вначале мне казалось, что это действительно так, что своенравная судьба как будто сговорилась здесь с климатом, чтобы стереть всех с лица земли. Мне представлялось, что я присутствую при разрушении остатков отжившей свой век цивилизации. Но потом я вспомнил, что никуда не годная система образования делает из нас, специалистов, людей с очень узким умственным кругозором, в результате чего мы поддаемся влиянию фраз и лозунгов, которые было бы стыдно приписать даже полковнику Блимпу. А врачи, «за немногими печальными исключениями» веселые, общительные, мужественные люди, питают пристрастие к пиву и глубоко убеждены в исцеляющей силе «прекрасной операции». Лишь очень немногие среди них наделены тем сознательно-творческим воображением, терпением и проницательностью, без которых нельзя приниматься за строительство упорядоченного мирового общества. С другой стороны, все они привыкают к отвлеченным обобщениям и поскольку не видят ничего дальше своего носа и ведут кабинетный образ жизни, то теряют связь с другими людьми, замыкаются в своих взглядах и проявляют мало сочувствия в обращении с человеческими существами. И я пребывал бы в таком же состоянии, если бы не попал в Индию и не столкнулся с трагедией неприкрашенной действительности. Странно подумать, что сотни врачей, работавших в Медицинской службе Индии, не поняли этой трагедии, за исключением, может быть, Росса. Нет никакой необходимости читать Маркса, чтобы разобраться в том, что здесь происходит, – как же это никому из них не пришло в голову? Темнокожие кули расчищают леса, засевают поля, гнут спину, собирая урожай, а жадные до денег, бездушные управляющие и директоры, которые их эксплуатируют, озабочены исключительно своими жалованьем и дивидендами и заняты укреплением своих монополий. Вот почему Индии нужна революция. С одной стороны – многомиллионные массы людей, скованных бесчисленными цепями; на них лежит печать горя, непосильной работы, обреченности; с другой стороны – бессердечные богачи, коснеющие в своем самодовольстве и самоуверенности, никогда не задумывающиеся над тем, что представляет собой их идеал славы, власти и богатства…»
«Как это на него похоже, эти вечные разглагольствования, – подумала Барбара. – Все та же ходульность!» Ее раздражал весь тон статьи, но начавши ее, она продолжала читать, потому что это писал он и это помогало ей понять, какая работа происходит в нем, когда он остается наедине с собой, – о чем он думает, что чувствует.
Она перелистала еще несколько страниц, просматривая заметки, написанные торопливым, неровным почерком.
«Отчет об условиях труда в Индии, – прочла она. – А. А. Парселл и…» вторую фамилию она не разобрала.
Она сначала отложила эти заметки, но потом опять взяла и стала просматривать внимательнее. По-видимому, это были цитаты, между которыми часто попадались замечания самого де ля Хавра.
«Положение кули на плантациях в Индии, – прочла она, – во многих отношениях сходно с положением рабов на плантациях хлопка в Южных штатах Северной Америки, как оно описано в «Хижине дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. Если и есть какая-либо разница, то, по-моему, обследование должно подтвердить, что существующие экономические условия для кули в Индии хуже, чем условия, в которых находились негры-рабы в Америке».
Она вспомнила, что как-то раз, когда она гостила у знакомых тетки на курорте у моря, она начала читать «Хижину дяди Тома». Она нашла эту маленькую коричневую книжку с очень мелкой печатью на верхней полке небольшого стенного шкафчика с книгами у себя в комнате; она чинно стояла рядом с «Церковными песнопениями» и Библией и показалась ей интереснее остальных книг.
Барбара пробежала несколько абзацев мелко написанного листа, который держала в руке, и ее внимание привлекла фамилия Уильберфорс, почему-то показавшаяся ей знакомой.
«Существующая система работы на плантациях, – писал автор, – не что иное, как ниспосланное человеку проклятие и преступление, чудовищное преступление против человечества. Все сказанное давным-давно уильберфорсами, каннингами, гаррисонами и линкольнами еще нашим прапрадедам про позор рабства следует повторить снова, да еще с добавлениями того, что происходит в настоящее время на чайных, кофейных, каучуковых и других плантациях Индии.
У семидесяти пяти процентов кули на плантациях Ассама пониженное зрение из-за плохого питания, недостатка растительных и животных жиров.
Пятьдесят процентов населения Индии страдает болезнями зубов из-за отсутствия молока в их питании.
Два миллиона женщин умирает в год во время родов вследствие недостаточного питания.
Двадцать процентов живущих в Индии англичан и представителей высших классов Индии умирает от обжорства – другой формы неправильного питания».
Затем она прочла еще одну заметку, написанную чернилами на полях. «Ставки зарплаты на индийских плантациях остаются без изменения уже семьдесят лет. Средний месячный заработок кули в 1870 году составлял пять рупий в месяц. В 1922 году зарплата кули на чайных плантациях Ассама не превышала семи рупий в месяц (около десяти шиллингов и шести пенсов). При этом следует отметить, что цена на рис, которым почти исключительно питаются кули, за этот же период времени поднялась больше чем вдвое. Фактически весь месячный заработок кули целиком уходит на рис. Расходы на одежду, или, вернее, лохмотья, которые носят кули в Индии, составляют незначительную долю их бюджета».
А внизу страницы еще одна выписка, последняя фраза которой была жирно подчеркнута: «На чайных плантациях в Ассаме мужчина получает восемь пенсов за восьмичасовой рабочий день, женщина – шесть пенсов, а ребенок – три пенса; на чайных фабриках рабочий получает девять пенсов за восьмичасовой рабочий день. Кули часто страдают не только от низкого уровня зарплаты, но и от задолженности владельцу, так как в отдаленных районах они вынуждены покупать продукты, топливо и прочее в лавках владельцев плантаций. Эта задолженность, а также удаленность плантации от населенных центров лишает кули возможности искать другую работу, и на практике их жизнь на плантации превращается в экономическое рабство. Обращаются с ними бесчеловечно, а возможность добиться правосудия и восстановить справедливость – бесплодная мечта. Д-р В. X. Резерфорд».
Она глубоко вздохнула; потом в ней поднялось раздражение, и она пожала плечами.
«Что ж, в конце концов…» – сказала она себе, но не докончила и со вздохом опять принялась перебирать перепутанные ею страницы; среди них было еще несколько листков с заметками и цитатами.
Потом она наткнулась на стихи; сверху было написано:
«Лирическое стихотворение в сущности – афоризм, эпиграмма, потому что оно отражает душевное настроение. Тогда зачем почти все поэты пишут так длинно, вытягивая из себя какие-то вымученные переживания, и только отклоняются от того, что они хотели выразить? Зачем выходить из границ того, что они почувствовали сначала, если нет необходимости давать какую-то оценку своему видению? Иначе это обратится в простое рифмоплетство кошка – мошка по правилам стихосложения, установленным обывателями и всякими шлюхами от литературы. Я не считаю свои стихи хорошими, но эти строчки пришли мне в голову про Барбару, и я бросил писать, когда не смог продолжать дальше:
У любви нет крыльев,
Чтобы подняться к мыслям человека,
У мысли нет мерила,
Чтобы измерить всю глубину любви.
И наша притворная добродетель…
«Дилетантство», – написал он на полях, и Барбара согласилась с этой оценкой, хотя едва ли сумела бы отличить хорошие стихи от плохих.
Дальше прочла название стихотворения, по-видимому, еще не написанного: «На смерть женщины-кули от лихорадки».
Он слишком озлоблен, думала Барбара. Если бы он хоть на минуту перестал думать о других и взглянул на себя. Он прямо как одержимый со своими идеями грозной и кровопролитной революционной борьбы; он из кожи лезет с этой своей добродетельностью. А Барбаре хотелось жить своей жизнью; у нее не было особого желания переделывать этот ужасный мир. Ей вспомнилось, как при первом знакомстве именно она заговорила об альтруизме, о том, что люди всегда заботятся о благе других.
Он горячо опровергал эго. «Нет, нет, тысячу раз нет! Откуда вы это взяли? Все люди злы и любят только себя, в мире нет ничего ужаснее жестокости человека к человеку». И она вспомнила, как онемела тогда от удивления, пораженная и сбитая с толку его раздраженным голосом, который он все повышал. Ах, если бы он только… она и сама не могла объяснить, чего ей хочется. Она начала писать на клочке бумаги, задумываясь, перечеркивая слова и исправляя буквы…
– Алло! – неожиданно раздался его голос на веранде; она остановилась на полуслове и увидела, что он стремглав, как мальчик, бежит к ней.
Она медленно пошла к нему навстречу, намеренно сдерживая себя, хотя иной раз была способна броситься к нему с распростертыми объятиями.
– Милая! Радость моя! – произнес он, нетерпеливо обнимая ее, и хотел уже поцеловать, но она отстранилась.
– Кого ты любишь больше, меня или революцию? – спросила она с загоревшимися глазами, подняв руки, готовая в случае чего оттолкнуть его.
– Дай, я тебя поцелую, любимая, – сказал де ля Хавр.
Барбара засмеялась.
Он поцеловал ее.
– Где ты пропадал? – стала она журить его. – Я так давно дожидаюсь, что уже решила уйти и начала писать тебе записку.
– Где записка? – спросил он. – Покажи!
– Нет, нет, теперь уже не дам, – воскликнула она и кинулась к столу, но он подбежал раньше, схватил записку так быстро, что она порвалась, толкнул Барбару на диван, а записку спрятал.
Она надула губы.
– Как маленькая, – сказал он и подтолкнул ее так, что она совсем опрокинулась на подушки. Затем он нагнулся и заглянул в глубину зрачков ее серых глаз, как будто ловя в их блеске отражение того, что, как солнце, согревало его чувства, будило жар в его крови, пока сердце не переполнялось избытком жизни…
Она лежала на диване, откинув голову на скользкие шелковые подушки, как обычно при их встречах; на ее полураскрытых губах блуждала улыбка, то готовая перейти в смех, то удивленно-грустная перед приливом нахлынувших ощущений…
Он любовался ею, опьяненный, как всегда в эти мгновения, когда страсть волной вздымалась в его крови; он с наслаждением вдыхал аромат ее молодого тела; как хорошо ему с ней! Он закрыл глаза и в жаркой дремоте отдался чувству, которое ощущал всем своим существом. Немного погодя он приоткрыл их и взглянул на ее разгоревшееся лицо, но тут же смущенно отвернулся, как будто зная, что благоуханная мимолетная нежность, которая от нее исходила, исчезнет, растает от его прикосновения, словит о золотистый луч солнца в зимний день, ясный и робкий, который не знает, остаться ему или скрыться. Лежа рядом, он взял ее лицо в обе ладони, но его душу уже омрачало безумие ночи, которое не выходило у него из головы, и он почувствовал внезапно подкрадывающуюся слабость…
– Можно мне еще поцеловать тебя? – спросил он.
– Ну, конечно, любимый, – рассмеялась она, – для чего же я сюда прихожу?
Он перегнулся над ней своим длинным, худощавым телом и поцеловал ее, сначала осторожно, потом все крепче, крепче, всеми силами удерживаясь от того, чтобы не укусить. И пока он лежал, трепеща и содрогаясь, пока кровь пела и бурлила в его жилах, ему казалось, что весь мир сосредоточился в них двоих, что море и суша, время и пространство навеки расплавились в этом солнце любви. Темная волна страсти захлестнула его сознание, и он стал покрывать поцелуями ее лоб, глаза, щеки, шею, пока краска не залила ее лицо ответным жаром. Он приподнялся, весь дрожа, и припал губами к ее рту; их тела сплелись в тесном объятии, словно подхваченные лучезарной волной… Вдруг де ля Хавр прислушался; ему почудилось, что гравий на дорожке под окном заскрипел под чьими-то шагами. Но он подумал, что ослышался, и опять опустил голову.
Он слышал учащенное дыхание Барбары; оторвавшись от нее, он заглянул в ее серо-зеленые глаза. Они блестели из-под полуопущенных век все тем же веселым задором, как и в первый раз, когда он ее увидел, «соблазняя на поступки, которые, говорят, неизбежно приводят в христианский ад». Но теперь он уже совершенно ясно слышал, что кто-то идет по гравию дорожки, которая вела к веранде. Он разжал руки, обнимавшие Барбару, и встал, еще переполненный жаром объятий. И украдкой взглянул на нее: лицо Барбары, светившееся внутренним огнем, в точности напоминало белокурого ангела Ботичелли, девственно-чистого, как будто она, даже любя его, чуждалась ласк мужчины. Он с изумлением спрашивал себя, неужели она всегда останется такой же непорочной, девственной и чистой, даже после той полноты страсти, которую они испытали? Ведь их руки, ноги, глаза, губы, волосы, все движения сливались в такой полной гармонии, что их дитя, его и ее, должно быть совершенным, даже если все дети в мире появляются в результате неосторожности и ошибок. Ее близость приводила его в восторженный трепет, но его внимание уже отвлеклось в сторону. Он нагнулся над ней в порыве, в котором смешались и желание, и боль, и счастье, и страх, и страдание, и несбыточность его чувства. Он зашептал в непонятном смятении о том, что он ее желает…
– Кого ты любишь больше, меня или революцию? – спросила она, снова надув губки, как ребенок, который просит сладкого.
– Революцию, – ответил де ля Хавр с нежной усмешкой, повернув голову к веранде; взглянув в окошко с места, где он стоял, он сказал вполголоса: – Это Гангу, тот кули, у которого умерла жена, – подошел к двери и крикнул: – Входи, Гангу, входи!
– Салаам, хузур, – поклонился Гангу и уселся, скрестив ноги, на дорожке.
– Входи, входи, – повторил де ля Хавр.
Смущенный Гангу неловко взошел на ступеньки веранды и опять сел.
– Да нет же, иди сюда. Покажись мисс сахиб, – приказал де ля Хавр.
Гангу ошеломило это проявление расположения, несмотря на то, что за последние дни он уже имел несколько случаев убедиться в благожелательности этого сахиба. Поэтому Гангу вошел, дрожа всем телом, волоча ноги, с наклоненной в знак смирения головой.
– Салаам, мисси сахиб, – приветствовал он Барбару, не поднимая глаз.
– Салаам, – ответила та. Она успела подняться с дивана и теперь поспешно приглаживала руками растрепавшиеся волосы.
– Ну, как себя чувствуешь? – спросил де ля Хавр, коверкая хиндустани.
– Мне теперь лучше, хузур, по милости бога.
– А дети здоровы?
– Да, ваша милость, здоровы.
– Они, наверно, тоскуют по матери?
– Да, хузур, на все воля божья. Они помнят мать. Но они скоро привыкнут и к тому, что ее нет.
– Смерть здесь поражает бедняков, – сказал де ля Хавр.
– Да, хузур, – согласился Гангу, – что правда, то правда. Бедным здесь не выбиться. Здесь все делается по чьему-нибудь покровительству. Сардары богатеют, а рабочие голодают. – И он замолчал.
Де ля Хавр заметил, что кули пытается что-то сказать, но у него не хватает духу.
– В чем дело, Гангу? – начал он допытываться. – Скажи, может быть, я чем-нибудь могу тебе помочь?
– Да, хузур, – ответил кули, в замешательстве опустив глаза. – Я пришел просить вас оказать мне милость.
– Какую? Да говори же, говори! – сказал де ля Хавр.
– Хузур! – начал Гангу. – Когда я собирался сюда ехать из своей деревни в округе Хошиарпур, сардар Бута обещал, что мне дадут здесь участок земли, чтобы посеять рис. А когда я приехал, сахиб заведующий сказал, что земли для меня нет. А тут у меня умерла жена, вы же знаете; на похороны денег не было, так что мне пришлось взять взаймы двадцать рупий у баньи. А теперь получается, что моего заработка и заработка детей не хватает, чтобы выплатить долг с процентами. Мы даже не в состоянии просуществовать на то, что мы зарабатываем. Если бы вы могли похлопотать, чтобы бура-сахиб дал мне участок, я был бы вам так благодарен, хузур!
– Хорошо, я это сделаю, – согласился де ля Хавр. – Конечно, тебе должны дать землю; в договорах сказано, что всякий, кто поступает сюда на работу, получает по приезде участок земли, чтобы выращивать рис. Я позабочусь, чтобы условия договора были обязательно выполнены.
Глаза Гангу наполнились слезами.
– Салаам, хузур, я так вам благодарен, – произнес он и повернулся, чтобы уйти, но де ля Хавр остановил его.
– Подожди, – сказал он, засовывая руку во внутренний карман пиджака, вытащил бумажник, вынул из него все деньги и протянул их Гангу.
– Не надо, не надо, хузур, – пробовал отказаться тот, но де ля Хавр сказал тоном, не допускающим возражений: – Бери, здесь пять… постой… десять рупий и восемь анна, все, что досталось на твое счастье! Возьми и снеси банье часть долга, а я постараюсь как-нибудь устроить насчет земли. Салаам, иди и береги свое здоровье.
– Салаам, хузур, – запинаясь, благодарил пораженный такой щедростью кули и стал уходить, пятясь задом, пока чуть не наткнулся на столб веранды.
– Осторожнее, – предупредил его де ля Хавр. – Салаам, – и вернувшись в комнату, обратился к Барбаре: – Вот что здесь происходит каждый день. Твой отец на днях ударил этого несчастного старика.
– Да что ты! – в ужасе воскликнула Барбара.
– Так тут все и делается, – пожал плечами де ля Хавр и взволнованно заходил по комнате.
– Какой ужас! Какое безобразие! – возмущалась Барбара; ей было стыдно, что она не может страдать за этого обиженного кули так же сильно, как страдал де ля Хавр; она никогда не будет в состоянии отозваться иначе, чем обыкновенными фразами соболезнования.
– Не к чему ненавидеть отдельных людей, – сказал де ля Хавр. – Дело не в них, а во всем строе. Мы должны возненавидеть существующий порядок. Нас с тобой воспитали и сделали тем, что мы есть, на деньги, полученные от того, что эти кули работали в поте лица.
В голосе де ля Хавра ей почудился упрек, направленный по ее адресу, какое-то скрытое презрение, какая-то ненависть к ней за то, что ее отец жестоко обращается с кули… И она почувствовала такое отвращение к себе, что даже вздрогнула. Весь ужас как раз в том, что она хочет отдать ему всю себя целиком, быть его душой и телом, а его это как будто не трогает… Разве не было мгновений, когда они всецело принадлежали друг другу, когда души их сливались воедино, не оставляя в них ни одного закрытого уголка, все чувства становились обнаженными и прозрачными? Тогда во всем мире не существовало ничего помимо них, точно на свете были только они вдвоем, деревья, горы и травы… Но иногда возникала натянутость, она взаимно отдаляла их, и это происходило каждый раз, когда они переставали прикасаться друг к другу. Быть может, это в порядке вещей, и настоящая близость между людьми – удел редких мгновений? Быть может, одному суждено отдавать себя всего, а другому отвергать этот дар? Быть может, человеку никогда не удается вполне выразить свои мысли?.. Но всего лишь несколько минут назад, пока не пришел этот кули, они были так близки…
А теперь Джон ходит взад и вперед по комнате, украдкой оглядывается по сторонам и сделался чужим и далеким…
– При чем же здесь существующий порядок? – с раздражением спросила она; что-то подсказывало ей, что он намеренно разыгрывает перед ней драму.
Де ля Хавр криво усмехнулся, потом вдруг сурово насупился, надменно вскинул голову и, остановившись в позе праведного обличителя, полушутя, полусерьезно выругался в лицо Барбары:
– Провались все к чертовой матери!
– О Джон! – позвала она его, напрягая всю силу своей любви, чтобы заставить его подойти поближе.
Но ее восклицание еще больше разделило их. Возникшая из этого отчуждения неловкость еще увеличивалась от испытываемого им чувства стыда, разочарования и угрызений совести за то, что он сблизился с дочерью человека, которого сам же называл эксплуататором, точно искал в ней объект, на котором можно выместить всю свою неудовлетворенную страсть и ущемленное самолюбие…
– Ведь эту вашу добрую королеву Елизавету, Бэсс, – королеву-девственницу, можно называть как угодно, только не девственницей. От нее-то и пошли все династии золотоискателей Бродвея. Она слыхала про драгоценности, алмазы, сапфиры, шелка, кисею и пряности Индостана и готова была продаться в любую минуту, как последняя девка, кому угодно – старому Акбару, Великому Моголу или его сыну Джехангиру – так же легко, как Филиппу Испанскому, лишь бы…
– Да что с тобой, милый? – спросила она. – Ты с ума сошел? – Ей до боли хотелось опять стать близкой его душе, понять его.
– Конечно, – продолжал он свою мысль, – эти индийцы с их гостеприимством и радушием сущие дураки. Они дают себя грабить. Джехангир в пьяном виде подарил все свое царство Нур Магал за ее любовь, за чашу вина, за ее песни. Заболела дочь шаха Джехана, врач-англичанин ее вылечил и что же? В награду за это император дарит нам важные порты… Один английский поэт сказал, что «из всех стран мира золото ценится меньше всего в Индии и больше всего в Англии», и добавил: «это потому, что индийцы – варвары, а мы – цивилизованная нация». Ну так вот, эта цивилизация крупными буквами написана на скрижалях истории, истории цивилизованной британской нации! Наши британцы, которые никогда, никогда не станут рабами, пришли и обратили в рабов многомиллионное население Азии…
– Но ведь ты сам тоже британец! – возразила Барбара, вся как-то сжавшись и ощущая неловкость от злобы, сквозившей в словах де ля Хавра. В самом деле, что за муха его укусила? Она недоумевала, но видела, что он уже сел на своего конька и теперь последует одна из его обычных вспышек, которая уведет его далеко, далеко от нее…
Он, по-видимому, не обратил внимания на ее возражение, а продолжал с неослабевающим воодушевлением:
– Они составили себе огромные состояния неприкрытым грабежом, вымогательством и взятками, чудовищными прибылями, которые они выкачивали из компании по своим акциям. А когда все это награбленное добро было распихано у них дома, в доброй старой Англии, британцы, которые никогда, никогда не станут рабами, пустили его в оборот, вложив все, что было добыто войной и разбоем, в промышленные предприятия Брэдфорда и Манчестера. Угля и железа кругом было достаточно, и можно было выгодно использовать труд рабочего класса. Уатт как раз изобрел тогда паровую машину. Сажа, которую изрыгали доменные печи, смешивалась с сыростью, поднимавшейся из старых болот и трясин Англии; так появился лондонский туман. Но все-таки это был какой-то прогресс!
Барбару, помимо ее воли, уже увлекла его горячность, хотя и пугало его озлобление, она одновременно и ненавидела и любила его, его худощавое, напряженное тело, его высокий, почти женский голос, даже его театральность.
– Ничто не сравнится с ужасами этого первого периода индустриализации в Ланкашире, – продолжал де ля Хавр, сразу почуяв, что он привлек ее внимание, – за исключением того, что происходит в Бомбее, Калькутте, Мадрасе в наши дни. Шестьдесят пять часов работы в неделю за один шиллинг; дети младше девяти лет работали по две смены в день! Пролетариат голодал, а буржуазия прочно внедрялась в ряды английских джентри.
А потом крупным тузам захотелось захватить источники сырья и дешевых рабочих рук в Индии; ремесленники, которые прежде выделывали ткани в этой стране, лишились работы, не будучи в силах бороться с бешеной конкуренцией Британии, и пытались снова осесть на землю, где крестьяне и без того нуждались и были задавлены налогами.
И вот британцы, которые никогда, никогда не станут рабами, отправились в Азию и обратили в рабство ее многомиллионное население, выстроили величественные особняки в готическом стиле в Бомбее, Калькутте и Мадрасе, и поселились в них сами. А в бараки, или просто сараи в два-три этажа, которые были, очевидно, достаточно хороши для цветных, поселили кули, ведь они не умирали, когда их помещали в эти сараи. Право, вид этих кули вовсе не заставлял предполагать, что им нужна кубатура в семьсот кубических футов или площадь в тридцать шесть квадратных футов, которые нормально требуются для человека. «Да помилуйте! Черт побери! – произносят джентльмены с истинно британским добродушием. – Рабочие даже у нас в Англии не имеют той кубатуры, о которой твердят учебники!» Что же говорить об этих язычниках, этом отребье рода человеческого, – у них вообще нет никакого представления о том, что такое гигиена и санитария. Они, по-видимому, достаточно счастливы и довольны тем, что вкусили от благ законности и порядка, которые приносят с собой британцы, им даже переплачивают, если принять во внимание, что они вполне могут существовать на такую ничтожную сумму, как фартинг в день. Разве они не отдали добровольно свою долю риса солдатам во время мятежа и не довольствовались одним отваром? Конечно, их необходимо направить на путь христианства и убедить, чтобы они отказались от своих языческих богов и божков. Миссионеры и стараются изо всех сил. И, конечно, туземцев надо, не торопясь, исподволь, учить грамоте. Правда, образование только делает народ строптивым. А пока что – «климат Пуны замечательно помогает мне от подагры» или «Мэри, не купить ли нам в Малабаре домик в горах с видом на море и пальмами?», а то еще: «может быть, нам удастся съездить «домой» этим летом и провести сезон в Бате; мы как раз поспеем ко дню рождения Ее Величества, и можно будет нанять яхту, чтобы посмотреть на регату в Кауэсе!»
Барбара с некоторым удивлением взглянула на его лицо, как будто желая удостовериться, что из всех его слов было правдой, которую он хотел высказать ей, и что просто говорилось для красного словца в пылу раздражения и придирчивой озлобленности. Может быть, он действительно обнажал перед ней незаживающую рану своей наболевшей души? Если бы только он лежал в ее объятиях, она сказала бы ему, что все, все поняла; пусть бы только на его лбу разгладились морщины от этого пагубного увлечения и он не стоял бы неподвижно перед ней в застывшей позе, недосягаемый, чужой, одержимый какой-то дьявольской страстью все ниспровергать. Она уже готова была сдаться, чтобы он взял обратно свои слова про строй, но в последнюю минуту все-таки сказала, как будто ей было безразлично:
– Продолжай, продолжай, – и сделала вид, что крутит ручку патефона.
– Так вот, – сказал он, понижая голос, – поколение короля Эдуарда нисколько не заботилось о доставшемся ему наследстве, эти люди никогда не жили в странах, которые открыли их предприимчивые предки, а вместо этого проводили зиму на Ривьере и возвращались в Англию весной. «Ах, как чудесно в Англии, когда настает апрель!» – Кто это сказал, а? Сэр Альфред Теннисон или кто-нибудь из этих шелопаев – поэтов девяностых годов? А может, этот педераст… Оскар Уайльд?








