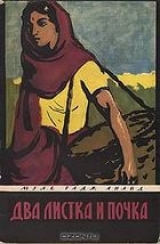
Текст книги "Два листка и почка"
Автор книги: Мулк Ананд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Перспектива была попрежнему заманчива, и Рэджи расправил плечи, словно он уже созерцал свою будущую славу. Вот только пот, сбегавший струйками по шее и спине, мешал предаваться радужным мечтаниям.
Этакая жарища! А ведь сейчас только апрель; в мае будет еще хуже. Скоро он будет жариться, как бифштекс на сковородке. Что ни говори, здесь тяжелая работа! А там, в Англии, они посиживают себе в холодке и рассуждают о том, какая в Индии чудесная весна. А тут еще эти надоедливые мухи и москиты! Только бы не заболеть малярией, боже избави! Как его трясло в прошлом году! Пока что его еще не схватило.
Было так душно, что у него мутилось в голове.
И до чего долго тянется этот проклятый рабочий день! С половины девятого до часу. То есть, по правде говоря, с половины десятого, потому что он редко являлся в контору раньше девяти. Тем не менее старик Крофт-Кук каждый раз напоминал ему об этом, с подчеркнутым неудовольствием глядя на часы. Экий вредный старикашка! От него ничего не ускользнет. Но тут Рэджи вспомнил с облегчением, что, наверно, уже скоро двенадцать, потому что кули шли к фабрике с корзинами. О господи! Сейчас на фабрике, где грохочут машины и пышет жаром от раскаленной крыши, настоящее пекло.
– Вперед, Тайпу! Вперед, милая старушка, – сказал он вслух, – давай поскачем немножко!
Заслышав ласковый голос хозяина, кобыла фыркнула и радостно заржала. Она сбавила было ходу, но он вонзил каблуки в ее бока, и она помчалась галопом мимо женщин, направлявшихся гуськом с полными корзинами к помещению, где сдавали листья.
– Смирно! – скомандовал сам себе сторож-гуркх у ворот фабрики и, щелкнув каблуками, сделал винтовкой на караул, отдавая честь сахибу.
Рэджи сразу повеселел и козырнул в ответ по-военному; это напомнило ему службу в армии и, как всегда, подбодрило его. Балвант Синг Таппа был единственным дельным парнем среди всего этого грязного отребья!
– Молодец! – сказал он сипаю; у него всегда было слово привета для хорошего бойца; а гуркхи – отличные стрелки и мастерски владеют своими кхокхри[12]12
Кхокхри – кривой нож.
[Закрыть].
Он спешился, передал поводья сторожу и вошел под чистый, сколоченный из нестроганых досок навес.
Сборщицы поднимались по ступенькам в просторное помещение, где находились весы. Возле них стоял плотный, темноволосый Туити; он взвешивал корзины, пристально всматриваясь в показания стрелки на шкале, и заносил вес в книгу.
«Потешный малый! С такой круглой жирной рожей ему бы не инженером быть, а коммивояжером», – подумал Рэджи, подходя к Туити.
– Алло, Рэджи, – приветствовал его тот.
– Алло, – отозвался Хант. – Много мошенниц поймал?
– Ох уж эти мне сестрички! – презрительно усмехнулся Туити, – им всегда хочется меня околпачить; теперь они норовят класть на дно корзины не кирпичи, а обрубки дерева, поросшие мхом. Одна положила даже ребенка, и он у нее чуть не задохнулся под листьями. А когда я его обнаружил и спросил, зачем она это сделала, она стала уверять, что ей некуда было его девать, пока она собирала чай. Хитрая бестия!
– С тех, кто жульничает, надо удерживать по три анна, – резко сказал Рэджи, – а этой вообще ничего не платить. Все до одной они поганые мошенницы, и не только на работе – даже в постели они устраивают такие фокусы, что в самый последний момент оставят тебя ни с чем.
Он засмеялся, но тут же осекся и весь вспыхнул от смущения. С минуту он молчал, придумывая, что бы еще сказать. Этот Туити больше помалкивал, а между тем Ханту всегда казалось, что за спокойствием и обходительностью инженера скрывается презрение.
– «Ты скажи-ка мне, малютка», – начал Рэджи с наигранной веселостью.
– Что?
– Тьфу, выскочило из головы…
– Ну, тогда, будьте добры, зайдите в сушильню и проверьте, хорошо ли рабочие раскладывают листья.
– Есть, начальник, – насмешливо козырнул Рэджи и прошел в соседнее здание; это был двухэтажный дом с шиферными стенами, железными стропилами и крышей. В просторном помещении вдоль стен до самого потолка тянулись на расстоянии фута друг над другом железные сетчатые полки в ярд шириной.
– Салаам, хузур, – встретил Рэджи сардар, наблюдавший, как по сетчатым полкам кули тонким слоем раскладывают листья, вынимая их из корзин, принесенных женщинами.
– Ну, как идет дело, все ли в порядке? – обратился к нему Рэджи.
Сардар взял горсть вялых листьев, легких, мягких, шелковистых на ощупь; это был признак хорошего качества.
– Да, хузур, – ответил он и принялся сбрасывать лист с полок в контейнеры, чтобы перенести его в другое отделение фабрики, к роллерам.
– Мистри[13]13
Мистри – искаженное «мистер».
[Закрыть] там? – указал Рэджи на дверь в помещение, откуда доносился оглушительный стук роллеровой машины.
– Там, хузур, – ответил сардар.
– Передай ему, чтобы он осторожней обращался с листьями, не давил их и не стирал в порошок, – сказал Рэджи. – Вчерашние цыбики были очень низкого качества.
– Это первый сбор, хузур, – промолвил сардар все с той же заученной почтительностью. – Апрельский чай всегда низкого качества, и зеленый и черный. Следующий сбор будет лучше, а к концу лета чай пойдет только высшего сорта.
У Рэджи не хватило духу подняться в бродильное отделение на втором этаже, где листья разбрасывали по цементному полу и оставляли для ферментации. Сильный запах готового черного чая, стоявший в сушильне, внушал ему отвращение. Он решил заглянуть в упаковочное отделение и проследить, чтобы в деревянные ящики с прокладкой из листового свинца не забивали слишком много гвоздей; этот столяр совершенный идиот, и потом он вечно что-нибудь мастерит для миссис Крофт-Кук. «Хорошо еще, что сегодня не надо отправлять караван с чаем, а за денежным ящиком поедет сам старик Крофт-Кук», – подумал он.
– Все в порядке, – сообщил он Туити. – Мне пора, у меня голова трещит от жары.
– Подождите, пока я кончу взвешивать, – попросил Туити. – Мы пропустим по стаканчику виски.
– Нет, спасибо, – ответил Рэджи. – Я уж поеду домой.
Выйдя из помещения, он заметил, что тусклое от зноя небо потемнело и заволоклось тучами. Нависла гнетущая духота. Рэджи инстинктивно заторопился.
Он подошел к сторожу, державшему его лошадь. Загремел гром, раскат за раскатом, словно в небе зарычала стая голодных львов, которых отпугивали бороздившие свинцовое небо молнии. Его гнедая кобыла рванулась в сторону.
Рэджи с трудом отвязал от седла непромокаемый плащ, второпях набросил его на плечи и вскочил в седло.
Пронесся порыв неистового ветра, и с потемневшего неба стали падать крупные капли дождя, как горячие слезы из печальных глаз. Благоразумнее было бы переждать грозу, но Рэджи был уверен, что успеет добраться до дому. Он погнал лошадь вскачь.
Но не успел он проехать и сотни ярдов, как хлынул ливень, какие бывают только в Ассаме. Ветер дул ему навстречу со скоростью пятидесяти миль в час. Все кругом скрылось из глаз за пеленой ливня, все звуки потонули в оглушительном реве бури. Рэджи нагнул голову и громко кричал:
– Кой хай? Кой хай? Кто там? – боясь, что ураган сбросит его в овраг.
Снова грянул гром, и его лошадь бросилась прямиком через поле, чутьем находя тропинку, которая самым кратким путем вела к дому хозяина. Ослепительные росчерки молний на мгновение озаряли долину призрачным золотисто-зеленым сиянием. За ворчанием и далекими раскатами раздавался удар и такой треск, словно небо и земля раскалывались на части, и Рэджи казалось, что того и гляди весь мир будет уничтожен и он тоже погибнет. Но он старался держать себя в руках и пристально всматривался в завесу дождя перед глазами и мутные потоки воды, бурно мчавшиеся под ногами лошади.
Из домов на краю поля группами выбегали кули с узенькой повязкой на бедрах и с мотыгой на плече. Рэджи догадался, что они будут очищать плантации от стеблей ползучих растений и сорных трав, занесенных туда ливнем с гор.
– Кой хай! – опять закричал он в отчаянии, зовя на помощь, как напуганное дитя; но его голос терялся в шуме ветра и дождя.
Несколько кули, увидев сахиба в затруднительном положении, подбежали и провели его лошадь до бунгало.
– Черт побери! – выругался он с раздражением, поднимаясь на веранду. Когда страх его прошел, он подумал: «А как жаль, что в стране, где так легко зарабатывать деньги, такой отвратительный климат».
– Салаам, сахиб, – простились с ним кули и пошли, борясь с ветром, наклоняясь вперед, словно сгибаясь под тяжестью мотыги, которую они несли на плечах, и неуверенно ступая по скользкой земле.
– А завтрак? – нетерпеливо спросил вышедшего ему навстречу слугу все еще взволнованный Рэджи топом капризного ребенка.
– Вот сухое платье, хузур, а здесь коньяк, – отвечал Афзал. – Завтрак сейчас будет готов.
Рэджи опустился в плетеное кресло, а слуга подошел и начал расшнуровывать ему ботинки.
Сначала Рэджи, как всегда, пытался не поддаваться чувству довольства и уюта, которое неизменно вызывали в нем заботы Афзала, – он не хотел быть чем-то обязанным слуге; но потом откинулся на спинку кресла и отдал себя в его распоряжение.
Между Рэджи и Афзалом установились прекрасные отношения, основанные на раз навсегда признанном факте, что один – хозяин, другой – слуга. Это подразумевалось само собой, и поэтому Рэджи был исключительно щедр, давая слуге не только обильные чаевые, но и свои старые шляпы, обувь и костюмы, в которые тот облачался по праздникам, а также совершенно новые клюшки для поло (Афзал участвовал в соревнованиях, устраиваемых на чайных плантациях). Разумеется, в рабочее время Афзал ходил в ливрее, присвоенной всем слугам на плантации, – в белом кафтане и тюрбане, перевитом зеленой лентой. Но Афзал отлично знал, когда можно сменить это платье на штатский костюм. Он щеголял в пиджаках сахиба главным образом перед женщинами-кули; вообще же старался вытянуть у хозяина как можно больше денег. Место было доходное, Афзал крепко держался за него и умел угождать сахибу, даже когда тот был не в духе.
Глава 5
Леила мечтала приобрести ожерелье, кольцо для носа и стеклянный браслет, какие она видела у жены Буты.
Будху просил, чтобы ему купили точно такой же мячик из цветной шерсти, какой был у Балу, сына Нараина.
Саджани хотела купить побольше продуктов для хозяйства, но в местной лавке все стоило баснословно дорого.
Некоторое время Гангу по какой-то непонятной причине откладывал эти покупки.
Однажды в воскресенье, которое было на плантациях днем отдыха не только для сахибов, но и для кули, Гангу с Саджани решили отправиться вдвоем на базар в деревню Бедхи, расположенную в соседней долинке, в двух милях к востоку от плантаций.
– Отец, возьми меня с собой, – просил Будху, хватая Гангу за колени.
– Да ведь ты устанешь, сынок, – отговаривал его Гангу. – Идти придется далеко; у нас с матерью не хватит сил нести тебя на руках.
– Я не устану, – настаивал Будху. – Ни за что не буду проситься на руки! Я буду идти, как пальван[14]14
Пальван – богатырь.
[Закрыть].
– Давай возьмем его, – пожалела сына Саджани. – Он целую неделю не дает мне покоя с этим пестрым мячиком. Мы ему что-нибудь купим.
– Ну, так и быть, – согласился Гангу; тут он бросил взгляд на свою дочь; она стояла в другом конце комнаты, опустив голову; ей тоже очень хотелось пойти с ними, по застенчивость не позволяла ей выразить свое желание даже взглядом. – Что ж, – продолжал Гангу, – если он пойдет, то иди уж и ты, Леила. Но как же быть с домом?
– Я попрошу жену Нараина, чтобы она присмотрела, – предложила Саджани.
– Незачем, – сказал Гангу, – лучше возьми с собой все деньги, они нам пригодятся, а украсть здесь больше нечего. Сколько у нас там?
Саджани приподняла щипцами кирпич в углу комнаты и вынула спрятанные под ним монеты.
– Семь рупий и несколько анна, – с трудом сосчитала она.
– Пять рупий осталось от денег, которые Бута дал нам на дорогу перед отъездом из деревни, – бормотал себе под нос Гангу. – Неужели мы заработали всего две рупии с тех пор, как сюда приехали?
– Я кое-что покупала в лавке у сетха Кану Мала, – сказала Саджани. – Не думай, что я утаила от тебя хотя бы один грош. Ведь немало денег пошло на питание.
Но Гангу и не думал обвинять жену в утайке денег. Мрачные мысли не давали ему покоя уже много дней: обещания Буты о большом заработке, бесплатном участке земли, о возможности откладывать часть денег, чтобы встать на ноги, когда кончится срок договора, – все оказалось обманом. Если не считать полученного аванса (а Гангу уже убедился, что это была просто подачка, – Бута сунул им эти деньги, чтобы они скорее согласились), сколько же получила вся семья почти за целую неделю работы? Меньше восьми анна в день на всех: три анна ему, по два анна жене и дочери и три пайсы мальчику. Даже у себя в деревне, когда у него отняли землю, он один зарабатывал по восемь анна на поденщине у помещика! А когда сахиб управляющий вручал Гангу подписанный договор, то сказал, что лишней земли сейчас нет. Гангу предпочел бы получать меньше, лишь бы ему дали землю и у него были свой рис и овощи.
– Ты же знаешь, они удержали за два дня с Будху. Мистри у весов сказал, что мальчик обрывал листья не так, как надо, – вставила Саджани, чутьем угадывая его мысли.
– Разве мы теперь можем купить ему шерстяной мячик? – сказал Гангу. – Пусть уж лучше остается дома.
– Я хочу мячик, мне нужен мячик, – упрямо твердил Будху, уже готовый заплакать.
– Ну ладно, не реви, – уступил Гангу. – Тебе восемь лет, ты уже большой, стыдно плакать из-за всякого пустяка. Пошли!
И он вышел из дома, ведя за руку мальчика; Саджани и Леила пошли следом за ними.
– Где мы сейчас живем, отец? Как называется это место? – спросил Будху.
– Ассам, сынок, – ответил Гангу. – Говорят, что к северу отсюда – Тибет, к востоку – Китай, на юге – Бирма, а к западу – Бенгалия.
– А зачем мы сюда приехали? – продолжал приставать к отцу любопытный мальчик.
– Заработать себе на жизнь, сынок.
Гангу машинально отвечал ребенку, почти не слушая его болтовни. Мысли его блуждали далеко: его обуревали сомнения и страхи. Он глядел на темную зелень аккуратных посадок; плантации тянулись по холмам вдоль дороги миля за милей; его изумлял гений людей, превративших в поля эту неблагодарную землю. Он видел на днях, как сахиб инженер вел трактор по голому, необработанному участку земли, и Гангу был совершенно очарован красотой этой чудесной машины. Но впечатление испортил заместитель управляющего, который с видом победителя расхаживал и распоряжался рабочими, размахивая хлыстом. «Ему, наверно, наплевать, какого мы о нем мнения, – с грустью подумал Гангу, пытаясь разобраться в сумбурных впечатлениях последних дней. – Неужели в стране, откуда он приехал, много таких чудес, как эта машина, и таких людей, как этот сахиб? Неужели все сахибы, которым принадлежит эта земля, нанимают себе работников, пуская в ход наглую ложь? Неужели они считают обман добродетелью и дают лучшие места заведомо дурным людям? Неужели всякий нахальный плут, вроде Буты, может пробить себе здесь дорогу и сделаться сардаром? Неужели сахибы потакают мошенникам? Неужели все хорошие люди здесь погибают, а дурные благополучно живут?» Тут до его слуха донесся мерный шум потока, и Гангу увидал на мосту группу отдыхающих кули. К северу от моста виднелась долина. Как ему говорили, отсюда шла тропинка к деревне.
– Смотри, мама, сколько народу идет на базар, – сказала Леила, поравнявшись с Саджани. Ее волновала мысль, что она идет вместе с этой толпой мужчин и женщин, которые вереницей тянулись по тропинке к деревне, как будто на ярмарку. Но она еще не вполне освоилась с разноплеменными людьми, среди которых они поселились; среди них были и черные, как сажа, с приплюснутым носом, и желтолицые с выдававшимися скулами и узкими глазами; у некоторых был огромный, похожий на жареную пышку, нос и некрасивое перекошенное лицо, изуродованное язвами, похожее на гнилую дыню; правильные черты лица были у очень немногих. Девушка старалась держаться поближе к матери, когда они поравнялись с группой кули, сидевших под исполинским деревом на восточном краю поселка. Но как только они смешались с толпой, шедшей по колеям разбитой буйволами и повозками дороги, Леила уже не испытывала смущения. Дорога извивалась по дну долины, между двумя параллельными грядами невысоких холмов.
Шедшие вокруг кули запели хором, и песня пробудила у Леилы заветные воспоминания, мерцавшие в ее душе, как звездочки в темном небе… Она вспомнила детские годы, дикие горные просторы, где паслись козы, маленьких пастушков, с которыми она играла; вспомнила, как она бродила с сыном сельского учителя Джасвантом, которого мачеха выгнала из дома. Эти холмы чем-то напомнили ей родные горы, только в Хошиарпуре было меньше зелени и козам приходилось карабкаться высоко, чтобы отыскать траву в укромных уголках и расщелинах. Однажды они с Джасвантом заблудились, и Леила чуть не свалилась в пропасть, поскользнувшись на поросших мохом камнях, но Джасвант подхватил ее и спас от неминуемой смерти. Как она тогда испугалась! Она сразу представила себе, как ее будет бранить мать. Потом вдруг возник образ Джасванта, рыдающего над ней! Она молча вытерпела бы все укоры матери, даже побои, но не вынесла бы слез Джасванта. Его худенькое, бледное лицо с грустными зеленоватыми глазами было так привлекательно! Ей хотелось, чтобы он был ее братом, родным братом. Правда, когда они играли в прятки, он всегда старался схватить ее и обнимал так крепко, что у нее хрустели суставы. И он вечно дразнил ее, дергал за фартук или, подкравшись сзади, закрывал ей глаза руками, заставляя догадываться, кто это. Где-то он теперь? Что он делает? Зачем отец увез их так далеко? Если бы они остались в деревне, она могла бы изредка видеть его, хотя мать запретила ей гулять и играть с мальчиками.
– Слышишь колокольчики за этими холмами? – обернувшись к жене, спросил Гангу. – Это караван идет через Кайлас Парбат. Он направляется в страну, где живет лама, который никогда не умирает.
– Как! Далай-лама никогда не умирает, отец? – воскликнула Леила. – Как же он может жить вечно?
– По крайней мере, все так говорят, – сказал Гангу и при этом подумал, что далай-лама, конечно, избранник божий, если он бессмертен, и, наверно, в мире нет другого такого человека. Но может ли это быть? За всю свою долгую жизнь Гангу еще не встречал человека, который достиг бы столь высокого совершенства; вечны только горы, реки, небо, леса; но ведь и горы иногда содрогаются от землетрясения, как он наблюдал в Кангра, будучи мальчиком; а разве реки не меняют русло и деревья не погибают? Наверно, это все выдумки – далай-лама не может быть бессмертен, если только не продлевает себе жизнь путем колдовства. Но все это не имеет никакого отношения к богу; ведь жрец у них в деревне говорил, что бог – невидимое существо, которое пребывает везде и вместе с тем ни в чем не заключено. Гангу еще ни разу не встречался с этим существом; но по временам, когда он смотрел на себя, на людей и на окружающий мир, когда его душа была переполнена счастьем, или когда умирал кто-нибудь из близких, или обламывалась ветка на дереве, – в эти мгновения он ощущал в себе присутствие какой-то необычайной силы, перед которой он невольно преклонялся. Но эта сила не могла быть богом. Никакого бога не было, хотя его жена и была готова молиться день и ночь каким-то камням; были только люди, и различные предметы, и смерть, – и все они делали свое дело, нередко наперекор друг другу, – словом, это была какая-то игра… Вся жизнь была игрой – «леилой». Он вспомнил, как улыбка на лице новорожденной дочери вызвала у него представление об этой чарующей игре, почему он и дал дочери это имя. Он взглянул на нее.
Звон колокольчиков, доносившийся с перевала, отдавался сладостной музыкой в сердце Леилы; она шла восторженная и притихшая, как бесплотный дух, реющий в вышине.
– Ты не устал? – спросила она брата. – Хочешь, я тебя понесу?
– Теперь уже недалеко до деревни, – заметил Гангу, показывая на разбросанные по склону хижины, которые то показывались, то исчезали из виду, пока путники медленно поднимались по извилистой дороге.
Гангу был прав; Леила увидела, как шумная толпа закутанных в белые покрывала, размахивающих руками кули быстрее зашагала босыми ногами по дороге, вздымая целые облака пыли.
Леила тоже прибавила шагу, но, заметив, что мать утомилась и отстает, пошла тише, остановилась и присела на придорожном камне, думая о том, какие чудеса она увидит на базаре.
Островерхие крыши, которые она заметила издалека, были уже совсем близко, и перед путниками открылось широкое плоскогорье, где теснились соломенные, каменные и глиняные хижины с шиферными крышами, над которыми возвышался сверкающий купол храма.
По обеим сторонам дороги стали попадаться полуразвалившиеся ларьки с грудами фруктов и овощей. Дальше пошли уже ряды палаток с пестрыми навесами; там были разложены и цветные ситцы, и белые хлопчатобумажные ткани, атлас, шелка; и куски мыла, четки, гребешки, бусы, зеркала, и детские игрушки, и медная кухонная посуда; там были сладости и лекарства, духи и разноцветная газированная вода; там же сидели знахари и гадалки.
Леила сразу оживилась при виде этого живописного, красочного беспорядка.
Будху вырвался из рук отца и побежал.
Возбужденная Саджани прикрикнула на сына, а сама уже проталкивалась к палатке с цветными тканями.
Гангу остановился; кругом теснилась разношерстная толпа; тут были и толстяки и худощавые, рослые горцы и карлики, все они пришли сюда со своими детьми, с поклажей, посохами и трубками. Некоторое время он раздумывал, в какой лавке покупать.
«Пожалуйте сюда, сюда!», «Милости просим!», «Купите у нас!», «Даю бесплатную премию всякому, кто купит у меня товару на восемь анна!», «К нам! К нам!» – выкликали на разные голоса хозяева ларьков, зазывая покупателей и стараясь перекричать друг друга.

– Я спрошу у хозяина этого ларька, где здесь торгуют мукой и чечевицей, – сказал Гангу дочери и стал проталкиваться к ларьку, где продавали мыло и браслеты.
– Здесь продают продукты, брат? – спросил он продавца.
– Ты что же, будешь жрать бусы да ожерелья? Или ты ослеп? – грубо ответил тот. – Там дальше есть лавка баньи сетха Кану Мала, – и продавец повернулся к женщине, перебиравшей жемчужные бусы. – Они настолько же белы, насколько черна твоя кожа. И не пачкай их своими грязными лапами, – заворчал он. – Вот такая же, как ты, на днях стянула ожерелье у меня с прилавка.
Леила, которая подошла было к ларьку вслед за отцом, сразу отпрянула, опасаясь, что хозяин начнет ругать и ее; но Будху уже тащил сюда мать, увидав в ларьке шерстяной мячик, о котором он так мечтал.
– Купи мне этот цветной мячик, отец! – закричал он.
– Сколько стоит шерстяной мячик? – спросил Гангу у хозяина.
– Четыре анна, ни пайсы меньше, – быстро ответил тот.
– Хочешь два анна? – предложил Гангу.
– Четыре анна, – повторил хозяин, – ни пайсы меньше. Бери его, если хочешь, или уходи; нечего толкаться у моего ларька.
– Пойдем, – сказал Гангу, – мы купим тебе мячик в другой лавке.
Но, разумеется, мальчишка не сдвинулся с места: он уже облюбовал именно этот мячик.
– Я хочу только этот шерстяной мячик, – заревел он, – купи мне этот мячик!
– Я тебя отшлепаю, если ты не будешь слушаться, – пригрозил Гангу, оттаскивая сына за руку.
– Хочу этот мячик! Хочу этот мячик! – вопил мальчишка, упираясь ногами и мотая головой.
– Эх, ладно, иди, мать Леилы, – в отчаянье сказал Гангу, – иди и купи ему мячик, какой он хочет. Идите и покупайте все, что хотите. Я буду вас ждать у лавки баньи.
Чем дальше шел Гангу по улице, где находились более солидные лавки, тем оглушительнее кричали разносчики, тем энергичнее толкались женщины и мужчины, у которых в руках были зонтики и палки.
Над толпой плавал тяжелый запах человеческого пота и коровьего навоза, к которому примешивалось острое зловоние, поднимавшееся от луж на дороге.
Саджани повела Леилу и Будху обратно к ларьку с мячиками.
Женщины вырывали друг у друга из рук бусы и четки на прилавке; некоторые щупали цветные шелковые платки, висевшие на палках, и шепотом выражали свое восхищение всей этой роскошью. Саджани заплатила четыре анна и купила сыну мячик.
– Пойдем, Леила, я и тебе что-нибудь куплю, – обратилась она к дочери.
– Мне что-то не нравятся эти браслеты, мама, – неожиданно сказала Леила. – Кольца для носа очень дороги, да и ожерелье стоит уйму денег.
– Что это на тебя нашло? – воскликнула мать. – Ты ведь очень хотела идти с нами покупать украшения.
– Да так, ничего, – ответила девушка, и они направились в ту сторону, куда ушел Гангу.
Но, конечно, с Леилой что-то случилось, от чего ее сердце, трепетавшее, как испуганная птичка, у нее в груди при виде этих желанных вещей, вдруг похолодело и замерло: она поняла, почему так страдает отец. Она вспомнила, какое у него было лицо, когда он, стоя в дверях хижины, спросил у матери, сколько у них осталось денег. И она отлично понимала, что они не могут тратить деньги на всякие ненужные вещи. Ведь они и уехали так далеко от родной деревни только потому, что обеднели. Отец наслушался россказней Буты и принял их за правду. А теперь ему стало стыдно за то, что он оказался таким простофилей. Но они должны облегчить страдания отца, снять с него тяжесть этих лишних расходов. Теперь ясно, что все его надежды погибли: надо как-нибудь просуществовать, пока ему не дадут землю, тогда положение, может быть, изменится. А сейчас ей хотелось плакать от радости и боли, которыми переполнилось ее сердце при виде всего, что ее окружало здесь, на базаре, с его пестротой и шумом, товарами и людьми, куда она пришла с матерью, маленьким братом и отцом.
Кучка горцев столпилась у огромной лавки сетха Кану Мала. В лавке стояли корзины, нагроможденные друг на друга до самой крыши, подпертой бамбуковыми шестами. Гангу остановился возле нее, посреди дороги, терпеливо дожидаясь, пока подойдет Саджани с детьми.
Маленький Будху погнался за воробьями, которые, задорно чирикая, прыгали на дороге возле мешков с зерном, разгружаемых с гималайских яков.
Над базарной площадью плавали всевозможные запахи: тянуло едким дымом кизяка – тибетцы в тюбетейках, сложив из него маленькие костры, сидели вокруг и курили опиум из своих хукка[15]15
Хукка – трубка.
[Закрыть]; запах листьев табака, разложенного для просушки на крыше соседнего дома, смешивался с запахом отбросов, разлагающихся остатков еды и помета, гниющего в лужах конской мочи. Леиле с непривычки стало не по себе, и она присела на железную гирю, стоявшую возле гигантских весов у лавки баньи.
Саджани поспешила подобрать свежий помет яка: она отнесет его домой, чтобы натереть им пол – на плантации было всего несколько буйволов, и навоза не хватало.
Гангу сидел в каком-то оцепенении, изредка отгоняя рукой жужжащего овода или москитов, у него замирало сердце при мысли, что ему предстоит сейчас иметь дело с баньи. Сетх был самоуверенный человек невысокого роста, в грубой рубахе и штанах, с огромным тюрбаном на голове. Прищуренные глаза, крючковатый нос, длинные обвисшие усы, тонкие поджатые губы и острый, колючий подбородок – все говорило о крутом характере и непреклонной воле. С ним шутки плохи, это видно хотя бы и по тому, как он подзывал тибетцев одного за другим, чтобы свести с ними счеты. Тибетцы, подходя к нему, словно теряли дар речи, иные нерешительно возражали, но вскоре соглашались на все его условия.
– Эй, ты, ойсипи, – насмешливо обратился сетх к одному из тибетцев, – протри глаза, почеши в затылке и ответь ясно и просто, что ты хочешь в обмен за эти мешки зерна, и, пожалуйста, не на своем тарабарском языке.
– Хорошо, сетх, – сказал тибетец, – только не называй меня «ойсипи», это по-нашему ругательство. Мне нужен отрез хлопчатобумажной материи, белой английской материи.
– Я продаю только шведскую хлопчатобумажную материю, – заявил сетх.
– Ладно, сетх, – согласился тибетец.
– Эй, – крикнул сетх помощнику, – дай ему отрез хлопчатобумажной материи марки «Ганди».
Повернувшись к тибетцу, он добавил:
– За мешок зерна по цене три рупии за маунд[16]16
Маунд, или май – мера веса от 11 до 35 кг состоит из 40 сер.
[Закрыть] причитается шесть рупий. Отрез материи стоит восемь рупий, по четыре с половиной анна за ярд. Я даю целый отрез, потому что я тебе доверяю, но одну четверть отреза я поставлю тебе в счет в своей книге и буду удерживать за неуплаченные деньги проценты из расчета по одной рупии, как всегда. Договорились?
– Договорились, хозяин, – согласился тибетец, который ничего не понял в этом расчете, потому что не умел считать.
– Нет, нет, – запротестовал стоявший позади старшина каравана, и тибетец у прилавка отрицательно затряс головой в ответ на слова сетха.
– Ах, так! – закричал лавочник. – Ну так проваливайте, будете лапу сосать. Вези свое зерно обратно через перевал. Если ты не хочешь продать, мне продадут другие. Вы, горцы, олухи, не понимаете своей выгоды. Недаром бог сделал вас робкими и подслеповатыми. Всемогущий наслал на вас оспу и изуродовал вас – так вам и надо!
– Слушай, сетх, – возразил старшина каравана. – Ты оценил мои двадцать мешков зерна по шести рупий за мешок; по твоему первому расчету выходило, что целый отрез материи стоит ровно столько же, то есть шесть рупий. А этому человеку ты даешь за мешки только три четверти отреза. Как же это так?
– Ах, вот оно что! – воскликнул Кану Мал. – Выходит, что я неправильно рассчитался с тобой? Теперь я запишу за тобой всю лишнюю материю, которую ты у меня забрал, – и, распахнув длинную ярко-желтую папку, он принялся перечеркивать цифры.
– Нет! – завопил старшина каравана. – Я беру обратно все зерно, которое тебе продал наш караван. Мы его продадим другому торговцу.
– Забирайте все, – крикнул сетх. – Вьючьте своих яков и убирайтесь, поганая горская сволочь. Знайте, что хозяин всех хлебных лавок на плантациях на двадцать миль кругом – я! Скатертью дорога! Счастливого пути! Тащитесь через Гималаи по талому снегу! Кланяйтесь от меня далай-ламе, когда вернетесь восвояси.
Старшина каравана, у которого от негодования появились красные пятна на скулах, отошел от лавки и приказал своим товарищам навьючивать яков.
– Эй, ты, кули, иди сюда! – повернулся сетх к Гангу. – Что тебе надо?
– Хорошей муки и рису, сетх, – сказал Гангу. – И нет ли у тебя чечевицы из Маха?
– Ты с какой плантации? – спросил лавочник. – У нас лавки почти всюду, кроме чайного хозяйства Стивенсона; надо покупать продукты на месте, а не ходить за ними сюда. Здесь у меня оптовый склад.
– Значит, это твой сын торгует на чайной плантации Макферсона? – догадался Гангу. – Он похож на тебя.
– Нет, это мой брат, – нехотя ответил сетх; он не любил упоминать о своем брате, который начал пользоваться слишком большой популярностью у сахибов, потому что кое-как объяснялся по-английски и был образованнее Кану Мала.








