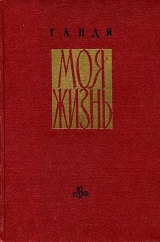
Текст книги "Моя жизнь"
Автор книги: Мохандас (Мохандус) Карамчанд Ганди
Жанр:
Самопознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
всегда пользовался расположением учителей. Родители ежегодно получали
свидетельства о моих успехах в науках и поведении. У меня не бывало плохих
отметок. Второй класс я окончил даже с наградой, в пятом и шестом классах
получал стипендию: сначала – четыре, а потом – десять рупий. Они доставались
мне скорее по счастливой случайности, чем за какие-либо особые заслуги. Дело
в том, что стипендию давали не всем, а только лучшим ученикам из округа
Сорат в Катхиаваре. В классе из 40-50 учеников было, конечно, не так уж
много мальчиков из Сората.
Насколько помню, сам я был не очень хорошего мнения о своих способностях.
Я обычно удивлялся, когда получал награды или стипендии. При этом я был
крайне самолюбив: малейшее замечание вызывало у меня слезы. Для меня было
совершенно невыносимо получать выговоры, даже если я заслуживал их. Помню, как однажды меня подвергли телесному наказанию. На меня подействовала не
столько физическая боль, сколько то, что наказание оскорбляло мое
достоинство. Я горько плакал. Я был тогда в первом или во втором классе.
Такой же случай произошел, когда я учился в седьмом классе. Директором школы
был тогда Дорабджи Эдульджи Гими. Он пользовался популярностью среди
учеников, так как умел поддерживать дисциплину и был хорошим преподавателем, прекрасно владевшим методикой. Он ввел для учеников старших классов
гимнастику и крикет как обязательные предметы. И то и другое мне не
нравилось. Я ни разу не занимался гимнастикой и не играл в крикет или
футбол, пока они не стали обязательными предметами. Одной из причин, по
которой я уклонялся от игр, была моя робость. Теперь я вижу, что был неправ: у меня было тогда ложное представление, будто гимнастика не имеет отношения
к образованию. Теперь я знаю, что физическому воспитанию должно уделять не
меньше внимания, чем умственному.
Должен отметить, что, отказываясь от гимнастики и игр, я нашел им не такую
уж плохую замену. Я прочел где-то о пользе длительных прогулок на свежем
воздухе, и это понравилось мне. Я приучил себя много ходить и до сих пор
сохранил эту привычку. Она закалила мой организм.
Причиной моей неприязни к гимнастике было также страстное желание
ухаживать за отцом. Как только занятия кончались, я мчался домой и
принимался прислуживать ему. Обязательные физические упражнения мешали мне в
этом, и я попросил м-ра Гими освободить меня от гимнастики, чтобы иметь
возможность прислуживать отцу. Но он не слушал меня. Однажды в субботу
занятия у нас были утром, а на гимнастику я должен был вернуться к четырем
часам. Часов у меня не было, а облака, закрывшие солнце, ввели меня в
заблуждение. Когда я пришел, все мальчики уже разошлись. На следующее утро
м-р Гими, просматривая список, увидел, что я отсутствовал. Он спросил меня о
причине, и я объяснил, как это случилось. Но он не поверил и приказал
заплатить штраф – одну или две ана (не помню уже, сколько именно).
Меня заподозрили во лжи! Это глубоко огорчило меня. Чем могу я доказать
свою невиновность? Выхода не было. Потрясенный до глубины души, я горько
плакал и понял, что правдивый человек должен быть внимателен и аккуратен.
Это был первый и последний случай моего беспечного поведения в школе.
Насколько помню, мне удалось все-таки доказать свою правоту, и штраф с меня
сняли. Было, наконец, получено и освобождение от гимнастики. Отец сам
написал директору о том, что я нужен ему дома сразу после занятий в школе.
Если отказ от гимнастики не причинил мне вреда, то за другие упущения я
расплачиваюсь до сих пор. Не знаю, откуда я взял, что хороший почерк вовсе
не обязателен для образованного человека, и придерживался этого мнения до
тех пор, пока не попал в Англию. Впоследствии, особенно в Южной Африке, я
увидел, какой прекрасный почерк у адвокатов и вообще у молодых людей, родившихся и получивших образование в Южной Африке. Мне было стыдно, и я
горько раскаивался в своей небрежности. Я понял, что плохой почерк – признак
недостаточного образования. Впоследствии я пытался исправить свой почерк, но
было поздно. Пусть мой пример послужит предостережением для юношей и
девушек. Я считаю, что детей сначала следует учить рисованию, а потом уже
переходить к написанию букв. Пусть ребенок выучит буквы, наблюдая различные
предметы, такие, как цветы, птицы и т. д., а чистописанию пусть учится, только когда сумеет изображать предметы. Тогда он будет писать уже хорошо
натренированной рукой.
Мне хотелось бы рассказать еще о двух событиях своей школьной жизни. Из-за
женитьбы я потерял год, и учитель хотел, чтобы я наверстал упущенное и
перепрыгнул через класс. Такие привилегии обычно предоставлялись прилежным
ученикам. Поэтому в третьем классе я учился только шесть месяцев и после
экзаменов, за которыми последовали летние каникулы, был переведен в
четвертый. Начиная с этого класса большинство предметов преподавалось уже на
английском языке, и я не знал, что делать. Появился новый предмет -
геометрия, в котором я был не особенно силен, а преподавание на английском
языке еще более затрудняло его усвоение. Учитель объяснял прекрасно, но я не
успевал следить за его рассуждениями. Часто я терял мужество и думал о том, чтобы вернуться в третий класс: я чувствовал, что взял на себя непосильную
задачу, уложив два года занятий в один. Но такой поступок опозорил бы не
только меня, но и учителя, который рекомендовал меня для перехода в
следующий класс, рассчитывая на мое усердие. Боязнь этого двойного позора
заставила меня остаться на месте. Но когда я ценой больших усилий добрался
до 13-й теоремы Эвклида, то вдруг понял, что все чрезвычайно просто.
Предмет, требовавший лишь чистой и простой способности рассуждать, не мог
быть трудным. С этого времени геометрия стала для меня легким и интересным
предметом.
Более трудным оказался санскритский язык. В геометрии нечего было
запоминать, а в санскрите, как мне казалось, все надо было заучивать
наизусть. Этот предмет мы начали изучать тоже с четвертого класса. В шестом
классе я совсем упал духом. Учитель был очень требователен и, на мой взгляд, слишком утруждал учеников. Между ним и преподавателем персидского языка было
нечто вроде соперничества. Учитель персидского был человек весьма
снисходительный. Мальчики говорили, что персидский язык очень легок, а
преподаватель хороший и внимателен к ученикам. "Легкость" соблазнила меня, и
в один прекрасный день я очутился в классе персидского языка. Учитель
санскрита сильно огорчился. Он подозвал меня к себе и сказал:
– Как ты мог забыть, что ты сын отца, исповедующего вишнуизм? Неужели ты
не хочешь изучить язык своей религии? Если ты столкнулся с трудностями, то
почему не обратился ко мне? Я прилагаю все силы, чтобы научить вас, школьников, санскриту. Если ты продолжишь свои занятия, то найдешь в
санскрите много интересного и увлекательного. Не падай духом и приходи снова
в класс санскритского языка.
Доброта его смутила меня. Я не мог пренебречь вниманием учителя и теперь
вспоминаю Кришнашанкара Пандья не иначе, как с благодарностью. Мне было бы
трудно изучать наши священные книги, если бы я не усвоил тогда основы
санскрита, хотя бы и в скромном объеме. Глубоко сожалею, что не изучил этот
язык более основательно. Впоследствии я пришел к убеждению, что все дети
индусов, мальчики и девочки, должны хорошо разбираться в санскрите.
Я считаю, что во всех индийских средних школах надо, кроме родного языка, преподавать хинди, санскрит, персидский, арабский и английский. Пугаться
этого длинного перечня не следует. Если бы у нас преподавание было более
систематическим и не велось на иностранном языке, уверен, что изучение всех
этих языков было бы удовольствием, а не утомительной обязанностью. Твердое
знание одного языка в значительной степени облегчает изучение других.
В сущности, хинди, гуджарати и санскрит можно рассматривать как один язык, так же как персидский и арабский. Хотя персидский принадлежит к арийской, а
арабский – к семитической группе языков, между ними существует тесное
родство, так как оба они развивались в период складывания ислама. Урду я не
считаю языком особым, так как он воспринял грамматику хинди, а в его
словарном составе преобладающей является персидская и арабская лексика. Тот, кто хочет хорошо знать урду, должен знать персидский и арабский, так же, как
тот, кто хочет овладеть гуджарати, хинди, бенгали или маратхи, должен
изучить санскрит.
VI. ТРАГЕДИЯ
Из немногих друзей по средней школе особенно близки мне были двое. Дружба
с одним из них оказалась недолговечной, но не по моей вине. Этот друг отошел
от меня, потому что я сошелся с другим. Вторую дружбу я считаю трагедией
своей жизни. Она продолжалась долго. Я завязал ее, поставив себе целью
исправить друга.
Друг этот был сначала приятелем моего старшего брата. Они были
одноклассниками. Я знал его слабости, но считал верным другом. Мать, старший
брат и жена предупреждали меня, что я попал в плохую компанию. Я был слишком
самолюбивым, чтобы внять предостережениям жены. Но я не осмеливался
противиться матери и старшему брату. Тем не менее я возражал им:
– Я знаю его слабости, о которых вы говорите, но вы не знаете его
достоинств. Он не может сбить меня с пути, так как я сблизился с ним, чтобы
исправить его. Я уверен, что он будет прекрасным человеком, если изменит
свое поведение. Прошу вас обо мне не беспокоиться.
Не думаю, чтобы это удовлетворило их, но они приняли мои объяснения и
оставили меня в покое.
Впоследствии я понял, что просчитался. Исправляющий никогда не должен
находиться в слишком близких отношениях с исправляемыми. Истинная дружба
есть родство душ, редко встречающееся в этом мире. Дружба может быть
длительной и ценной только между одинаковыми натурами. Друзья влияют один на
другого. Следовательно, дружба вряд ли допускает исправление. Я полагаю, что
вообще необходимо избегать слишком большой близости: человек гораздо быстрее
воспринимает порок, чем добродетель. А тот, кто хочет быть в дружбе с богом, должен оставаться одиноким или сделать своими друзьями всех. Может быть, я
ошибаюсь, но мои попытки завязать с кем-нибудь тесную дружбу оказались
тщетными.
Когда я впервые столкнулся с этим другом, волна "реформ" захлестнула
Раджкот. Он сообщил мне, что многие наши учителя тайком едят мясо и пьют
вино. Он назвал многих известных в Раджкоте лиц, которые делали то же самое
в компании с ними, а также нескольких учащихся средней школы.
Я удивился и огорчился. Я спросил своего друга о причине такого явления, И
он объяснил мне это так:
– Мы – слабый народ потому, что не едим мяса. Англичане питаются мясом, и
потому они способны управлять нами. Ты ведь видел, какой я крепкий и как
быстро бегаю. Это потому, что я ем мясо. У тех, кто питается мясом, никогда
не бывает нарывов и опухолей, а если и бывают, то они быстро проходят. Ведь
не дураки же наши учителя и другие известные в городе лица, питающиеся
мясом. Им известны преимущества мясной пищи. Ты должен последовать их
примеру. Ничего не стоит попробовать. Попробуй, и сам увидишь, какую силу
дает мясо.
Все эти соображения в пользу употребления в пищу мяса были высказаны не
сразу. Они отражают лишь сущность множества тщательно продуманных доводов, которыми мой друг время от времени старался воздействовать на меня. Мой
старший брат уже пал, почему и поддерживал доводы друга. Я действительно
выглядел слабосильным рядом с братом и приятелем. Оба они были крепче, сильнее и смелее меня. Меня совершенно околдовала ловкость моего друга. Он
мог бегать на большие расстояния и удивительно быстро. Он хорошо прыгал в
высоту и в длину, мог вынести любое телесное наказание. Он часто хвастал
передо мной своими успехами и ослеплял меня ими, потому что нас всегда
ослепляют в других качества, которыми мы сами не обладаем. Все это вызывало
во мне сильное желание подражать ему. Я плохо прыгал и бегал. Почему бы и
мне не стать таким же сильным и ловким, как он?
Кроме того, я был трусом. Я боялся воров, привидений и змей. Я не решался
выйти ночью из дому. Темнота приводила меня в ужас. Я не мог спать в
темноте, мне казалось, что привидения подкрадываются ко мне с одной стороны, воры – с другой, змеи – с третьей. Поэтому я спал только при свете. Разве
мог я рассказать о своих страхах жене, спавшей со мной рядом? Она уже не
была ребенком, она вступила на порог юности. Я знал, что она смелее меня, и
мне было стыдно. Она не боялась ни привидений, ни змей. Она могла пойти в
темноте куда угодно. Друг же знал о моих слабостях. Он рассказывал, что
может брать в руки живых змей, не боится воров и не верит в привидения. И
все это потому, что он ест мясо.
Среди школьников было распространено плохонькое стихотворение
гуджаратского поэта Нармада:
Смотри на могучего англичанина:
Он правит маленьким индийцем,
Потому что, питаясь мясом,
Он вырос в пять локтей.
Оно произвело на меня соответствующее впечатление. Я был сражен. Мне стало
казаться, что мясо сделает меня сильным и смелым, и если вся страна начнет
питаться мясом, мы одолеем англичан.
День для опыта был, наконец, назначен. Его нужно было провести тайком.
Ганди поклонялись Вишну, а мои родители были особенно ревностными
вишнуитами. Они регулярно посещали хавели. Нашему роду принадлежали даже
собственные храмы. В Гуджарате был силен джайнизм. Его влияние чувствовалось
повсюду и при всяких обстоятельствах. Нигде в Индии и даже за ее пределами
не наблюдается такого отвращения к мясной пище, как среди джайнов и
вишнуитов Гуджарата. Я вырос и воспитывался в этих традициях. Кроме того, я
был очень предан родителям, и я понимал, что они будут глубоко потрясены, если узнают, что я ел мясо. К тому же любовь к истине заставляла меня быть
чрезвычайно осторожным. Не могу сказать, чтобы я не понимал, что шел на
обман родителей, собираясь питаться мясом. Но мой разум был всецело поглощен
"реформой". О возможности полакомиться я и не думал и даже не знал, что мясо
очень вкусное. Я хотел быть сильным и смелым и желал видеть такими же своих
соотечественников, чтобы мы могли побороть англичан и освободить Индию.
Слова "сварадж" я тогда еще не слыхал, но знал, что такое свобода. Меня
ослепляло безумное увлечение "реформой", и я убедил себя, что, скрыв свои
поступки от родителей, я не погрешу против истины, если все действительно
останется в тайне.
VII. ТРАГЕДИЯ (продолжение)
Решительный день настал. Трудно передать мое тогдашнее состояние. С одной
стороны, я был охвачен фанатическим стремлением к "реформе", с другой – меня
увлекала новизна положения – сознание, что я делаю решительный шаг в жизни.
Вместе с тем я сгорал со стыда из-за того, что принимался за это тайно, как
вор. Не могу сказать, какое чувство преобладало. Мы нашли укромный уголок на
берегу реки, и там впервые в жизни я увидел мясо. Был также и хлеб из
булочной, которого я никогда не пробовал. Козлятина была жесткой, как
подошва. Я просто не мог ее есть. Я ослабел и должен был отказаться от еды.
Ночь я провел очень скверно. Меня мучили кошмары. Едва я засыпал, как мне
начинало казаться, что в моем желудке блеет живая коза, и я вскакивал, мучимый угрызениями совести. Но тут я вспоминал, что есть мясо мне
повелевает долг, и тогда становилось легче.
Мой друг был не из тех, кто быстро сдается. Он стал приготовлять
изысканные мясные блюда в приятной сервировке.
Мы ели их уже не в укромном местечке на берегу реки, а в ресторане
правительственного здания, где стояли столы и стулья. Мой приятель сумел
здесь договориться с главным поваром.
Эта приманка сделала свое дело. Я поддался соблазну, поборол свое
отвращение к хлебу, справился с жалостью к козам и пристрастился, если не к
самому мясу, то, во всяком случае, к мясным блюдам. Так продолжалось около
года. Но пиршеств этих в общей сложности было не более шести, так как в
правительственное здание пускали не каждый день, и, кроме того, было просто
затруднительно часто заказывать дорогие мясные блюда. У меня не было денег, чтобы платить за "реформу". Моему другу постоянно приходилось изыскивать для
этого средства. Я не знаю, где он их брал. Но он их доставал, так как твердо
решил приучить меня к мясу. Однако, видимо, и его возможности были
ограничены, поэтому пиршества устраивались через большие промежутки времени.
В те дни, когда я принимал участие в этих тайных пиршествах, я не обедал
дома. Мать звала меня и хотела знать причину моего отказа. Я обычно отвечал
ей: "У меня сегодня нет аппетита, что-то неладно с желудком". Придумывая
отговорки, я испытывал угрызения совести, так как сознавал, что лгу и притом
лгу матери. Я знал также, что если мать с отцом узнают о том, что я ем мясо, они будут глубоко потрясены. Мысль об этом терзала мое сердце.
Поэтому я сказал себе: "Хотя есть мясо, конечно, нужно и провести в нашей
стране реформу питания необходимо, все же лгать отцу и матери еще хуже, чем
есть мясо. Следовательно, пока живы родители, надо от мяса отказаться. Когда
их не станет и я буду свободным, я буду открыто есть мясо, а пока
воздержусь".
О своем решении я сообщил другу и с тех пор ни разу не прикоснулся к мясу.
Мои родители так и не узнали, что два их сына ели мясо.
Я отказался от мяса, руководствуясь лишь чистым побуждением не лгать
родителям. Но с другом я не порвал. Мое стремление исправить его оказалось
для меня гибельным, но я этого совершенно не замечал.
Дружба с ним однажды чуть не довела меня до измены жене. Я спасся чудом.
Друг повел меня в публичный дом. Он дал мне необходимые разъяснения. Все
было предусмотрено, даже счет был оплачен. Я направился прямо в объятия
греха, но бог в своей безграничной милости спас меня от меня самого. Я
внезапно оглох и ослеп в этом прибежище порока. Я сел около женщины на ее
постель и молчал. Ей это, конечно, надоело, и, осыпав меня бранью и
оскорблениями, она указала на дверь. Тогда я почувствовал, что мое мужское
достоинство унижено, и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но
впоследствии я не переставал благодарить бога за то, что он спас меня. У
меня было в жизни еще четыре подобных злоключения, и каждый раз меня спасала
моя счастливая судьба, а не какое-либо усилие с моей стороны. С чисто
этической точки зрения эти случаи необходимо рассматривать как моральное
падение. Налицо было плотское желание, а это равносильно действию. Но с
точки зрения обычной морали человек, физически устранившийся от греха, считается спасенным. И я был спасен именно в этом смысле. В некоторых
случаях человеку удается избежать греха в силу счастливой случайности. Как
только человек вновь обретает способность истинного познания, он благодарит
божественное милосердие за то, что ему удалось избежать грехопадения. Как
известно, человек часто подвергается искушению, как бы он ни старался
противостоять ему. Мы знаем также, что очень часто провидение вмешивается и
спасает его вопреки его желанию. Как все это происходит, в какой степени
человек свободен и в какой степени он жертва стечения обстоятельств, в каких
пределах имеет место свободное волеизъявление и когда на сцене появляется
судьба – все это тайна и останется тайной.
Однако продолжим наше повествование. Но и это не открыло мне глаза на
порочность моего друга. Мне пришлось пережить еще более горькие
разочарования, пока, наконец, мои глаза по-настоящему раскрылись, ибо я
наглядно убедился в некоторых его недостатках, о которых даже и не
подозревал. О них я расскажу дальше, так как наше повествование ведется в
хронологическом порядке.
Должен отметить еще один факт, относящийся к тому же периоду. Безусловно, одной из причин моих разногласий с женой была дружба с этим человеком. Я был
верным и в то же время ревнивым мужем. Друг же всячески раздувал пламя моей
подозрительности по отношению к жене. Я не сомневался в его искренности, и я
никогда не прощу себе страданий, которые я причинял жене, действуя по его
наущению. Вероятно, только жена индуса может вынести такие испытания.
Поэтому я привык смотреть на женщину как на воплощение терпения.
Несправедливо заподозренный слуга может бросить работу, сын при подобных
обстоятельствах может покинуть дом отца, друг – порвать дружбу. Жена же, если она и заподозрит мужа, будет молчать, но если он заподозрит ее, – она
погибла. Куда она пойдет? Жена индуса не может требовать развода в судебном
порядке. Закон ей не поможет. И потому я не могу забыть и простить себе, что
доводил жену до отчаяния.
Яд подозрений исчез только тогда, когда я понял ахимсу во всех ее
проявлениях. Я постиг все величие брахмачария и понял, что жена не раба, а
товарищ и помощник мужа, призванный делить с ним поровну все радости и
печали. Как и муж, жена имеет право идти собственным путем. Когда я
вспоминаю эти мрачные дни сомнений и подозрений, меня охватывает гнев. Я
презираю себя за безумие и похотливую жестокость, за слепую преданность
другу.
VIII. ВОРОВСТВО И ВОЗМЕЗДИЕ
Должен поведать еще о нескольких случаях своего падения, относящихся к
периоду, когда я ел мясо, и до того, то есть еще до своей женитьбы или
вскоре после нее.
Вместе с одним из своих родственников я пристрастился к курению. Нельзя
сказать, чтобы курение или запах сигарет доставляли нам удовольствие. Просто
нам нравилось пускать облака дыма изо рта. Дядя мой курил, и мы решили, что
должны последовать его примеру, а так как денег у нас не было, мы стали
подбирать брошенные дядей окурки.
Но не всегда можно было найти окурки и, кроме того, в них почти нечего
было докуривать. Тогда мы стали красть у слуги медяки из его карманных денег
и покупать на них индийские сигареты. Но где их хранить? Мы не смели, конечно, курить в присутствии старших. Несколько недель мы обходились
ворованными медяками. Тем временем мы прослышали, что стебли какого-то
растения обладают пористостью и их можно курить, как сигареты. Мы достали их
и начали курить.
Но этого было мало. Нам хотелось независимости. Казалось невыносимым, что
ничего нельзя предпринять без разрешения старших. Недовольство наше в конце
концов достигло такой степени, что мы решили покончить самоубийством.
Но как это сделать? Где достать яд? Где-то прослышав, что семена датуры
действуют как сильный яд, мы отправились в джунгли и набрали их. Самым
подходящим временем для свершения нашего дела нам казался вечер. Мы пошли в
Кедарджи мандир, положили гхи в храмовый светильник, совершили даршан и
стали искать укромный уголок. Но вдруг мужество нас покинуло. А что, если мы
умрем не сразу? Да и что хорошего в том, чтобы самим убить себя? Не лучше ли
примириться с отсутствием независимости? Но мы все-таки проглотили по
два-три зерна, не отважившись на большее. Мы оба побороли свой страх перед
смертью и решили отправиться в Рамаджи мандир, чтобы успокоиться и отогнать
от себя мысль о самоубийстве.
Я понял, что гораздо легче задумать самоубийство, чем совершить его. И с
тех пор, когда мне приходилось слышать угрозу покончить с собой, это не
производило на меня почти никакого впечатления.
Эпизод с самоубийством закончился тем, что мы оба перестали подбирать
окурки и красть медяки у прислуги для покупки сигарет.
Желания курить не появилось у меня и тогда, когда я стал взрослым.
Привычку эту считаю варварской, нечистой и вредной. Я никогда не понимал, почему во всем мире существует такое увлечение курением. Я не могу
путешествовать, если в купе много курящих – задыхаюсь.
Но я совершил еще более серьезную кражу несколько позже. Медяки я воровал
в двенадцать-тринадцать лет. Следующую кражу я совершил в пятнадцать лет. На
этот раз я украл кусочек золота из запястья своего брата, того самого, который ел мясо. Брат как-то задолжал 25 рупий. Он носил на руке тяжелое
золотое запястье. Вынуть кусочек золота из него было совсем нетрудно.
Мы так и сделали, и долг был погашен. Но меня стала мучить совесть. Я дал
себе слово никогда больше не красть и решил признаться во всем отцу. Однако
у меня не хватало смелости заговорить с ним об этом. Не то, чтобы я очень
боялся побоев. Нет. Я не помню, чтобы отец бил кого-нибудь из нас. Я боялся
огорчить его. Но я чувствовал, что рискнуть необходимо, что нельзя
очиститься без чистосердечного признания.
Наконец, я решил покаяться письменно, вручить это покаяние отцу и
попросить прощения. Я написал покаяние на листе бумаги и отдал отцу. В этой
записке я не только сознался в своих грехах, но и просил назначить мне
соответствующее наказание. Заканчивал я письмо просьбой, чтобы он не сам
наказывал меня. Я обещал никогда больше не красть.
Дрожа, я передал свою исповедь отцу. Он был тогда болен: у него был свищ, и он вынужден был лежать. Постелью ему служили простые деревянные нары. Я
отдал ему записку и сел напротив.
Отец прочел мое письмо и заплакал. Жемчужные капли катились по его щекам и
падали на бумагу. На минуту он в задумчивости закрыл глаза, потом разорвал
письмо. Читая письмо, он сидел, теперь снова лег. Я тоже громко зарыдал. Я
видел, как страдает отец. Будь я художником, я и сегодня мог бы нарисовать
эту картину – так жива она в моей памяти.
Жемчужные капли любви очистили мое сердце и смыли грех. Только тот, кто
пережил такую любовь, знает, что это такое. Как говорится в молитве:
Только тот,
Кто пронзен стрелами любви,
Знает ее силу.
Для меня это был предметный урок по ахимсе. В то время я видел в
происходившем только проявление отцовской любви, но сегодня я знаю, что это
была настоящая ахимса. Когда ахимса бывает всеобъемлющей, она преобразует
все, чего коснется. Тогда нет пределов ее власти.
Так великодушно прощать отнюдь не было свойственно отцу. Я думал, что он
будет сердиться, хмуриться и резко выговаривать мне. Но он был удивительно
спокоен. И я думаю, что это произошло лишь благодаря чистосердечности моего
признания. Чистосердечное признание и обещание никогда больше не грешить, данное тому, кто имеет право принять его, является самой чистой формой
покаяния. Я знаю, что мое признание совершенно успокоило отца и беспредельно
усилило его любовь ко мне.
IX. СМЕРТЬ ОТЦА И МОЙ ДВОЙНОЙ ПОЗОР
Мне шел шестнадцатый год. Отец мой был прикован к постели: у него, как я
уже говорил, был свищ. Ухаживали за ним главным образом мать, старая
служанка и я. На мне лежали обязанности сиделки, которые в основном
сводились к тому, что я делал отцу перевязки, давал лекарства и составлял
снадобья, если они приготовлялись дома. Каждую ночь я массировал отцу ноги и
уходил только тогда, когда он просил об этом или же засыпал. Мне было
приятно выполнять эти обязанности, и не помню, чтобы я хоть раз пренебрег
ими. Время, которым я располагал после выполнения своих ежедневных
обязанностей, я делил между школой и уходом за отцом. Я выходил погулять
только вечером, и то только тогда, когда он давал разрешение или чувствовал
себя хорошо.
Жена моя ожидала в то время ребенка. Обстоятельство это, как я сейчас
понимаю, усугубляет позор моего поведения. Во-первых, я не воздерживался, как это полагалось учащемуся; во-вторых, плотское желание брало верх не
только над обязанностью учиться, но и над более важной обязанностью – быть
преданным своим родителям: ведь Шраван был с детства моим идеалом. А между
тем каждую ночь, массируя ноги отцу, я мыслями был уже в спальне, и это
тогда, когда и религия, и медицина, и здравый смысл запрещают половые
сношения. Я всегда с радостью освобождался от своих обязанностей и, попрощавшись с отцом, шел прямо в спальню.
Отцу с каждым днем становилось хуже. Аюрведические врачи испытали все свои
мази, хакимы – все свои пластыри, а местные знахари – свои средства от всех
болезней. Был призван на помощь и хирург-англичанин. Он предложил как
единственное и последнее средство операцию. Но вмешался наш домашний врач.
Он возражал против операции в таком преклонном возрасте. Авторитет домашнего
врача был чрезвычайно высок, и его мнение одержало верх. От операции
пришлось отказаться, а лекарства отцу не помогали. У меня такое впечатление, что если бы домашний врач разрешил операцию, рана легко бы зажила, тем
более, что оперировать должен был известный в Бомбее хирург. Но бог решил
иначе. Когда смерть неминуема, какой смысл искать средства спасения? Отец
вернулся из Бомбея со всеми необходимыми для операции материалами, но все
это теперь было бесполезно. Он не надеялся поправиться. С каждым днем он
становился все слабее. Его упрашивали производить отправление естественных
потребностей не вставая с постели. Но до последней минуты он отказывался это
делать. Правила вишнуитов относительно внешней чистоты весьма строги.
Такая чистоплотность бесспорно имеет большое значение, но западная
медицина считает, что можно совершать все отправления в постели, в том числе
и мытье пациента, не причиняя ему никакого неудобства, и при этом постель
останется безукоризненно чистой. Я считаю это вполне совместимым с
требованиями вишнуизма. Но настойчивое желание отца вставать с постели
поражало меня и вызывало восхищение.
Настала страшная ночь. Дядя мой был в это время в Раджкоте. Он приехал, получив известие, что отцу хуже. Братья были глубоко привязаны друг к другу.
Дядя сидел возле больного весь день, а ночью, настояв на том, чтобы мы шли
спать, лег возле постели больного. Никто не думал, что эта ночь будет
роковой.
Было половина одиннадцатого или одиннадцать часов вечера. Я массировал
отца. Дядя предложил сменить меня. Я обрадовался и отправился прямо в
спальню. Жена моя, бедняжка, крепко спала. Но разве она могла спать в моем
присутствии? Я разбудил ее. Однако минут через пять-шесть слуга постучал в
дверь. Я в тревоге вскочил.
– Вставайте, – сказал слуга, – отцу очень плохо. Я, конечно, знал, что
отец очень плох, и догадался, что означают в такой момент эти слова. Я
вскочил с постели.
– Что случилось? Говори.
– Отца больше нет в живых.
Все было кончено! Мне оставалось только в отчаянии ломать руки. Мне было
страшно стыдно, я чувствовал себя глубоко несчастным. Я помчался в комнату
отца. Если бы животная страсть не ослепила меня, мне не пришлось бы мучиться
раскаянием за разлуку с отцом за несколько минут до его смерти. Я массировал
бы его, и он умер бы у меня на руках. А сейчас дядя воспользовался этим
преимуществом. Он был так предан старшему брату, что удостоился чести
оказать ему последнюю услугу! Отец чувствовал приближение конца. Он сделал
знак подать перо и бумагу и написал: "Приготовь все для последнего обряда".
Затем он сорвал с руки амулет и с шеи золотое ожерелье из шариков туласи и
отбросил их в сторону. Через минуту его не стало.








