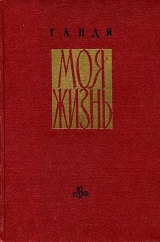
Текст книги "Моя жизнь"
Автор книги: Мохандас (Мохандус) Карамчанд Ганди
Жанр:
Самопознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
удается, это все же лучше, чем брать на себя чужие обязанности, какими бы
прекрасными они ни казались. Умереть, выполняя долг, не есть зло, но ищущий
других путей будет блуждать по-прежнему".
XXVIII. ПУНА И МАДРАС
Благодаря сэру Фирузшаху дело мое наладилось. Из Бомбея я отправился в
Пуну. Здесь действовали две партии. Я добивался поддержки со стороны людей
любых взглядов. Прежде всего я посетил Локаманью Тилака.
– Вы совершенно правы, что стремитесь заручиться поддержкой всех партий. В
вопросе, касающемся Южной Африки, не может быть разных мнений. Но нужно, чтобы на митинге председательствовал беспартийный. Повидайтесь с проф.
Бхандаркаром. Он давно не принимает участия в общественной деятельности. Но
возможно, этот вопрос затронет его. Встретьтесь с ним и сообщите мне, что он
вам ответит. Я хочу всячески помочь вам. Конечно, мы с вами увидимся, когда
вы пожелаете. Я в вашем распоряжении.
Это была моя первая встреча с Локаманьей. Она открыла мне секрет его
исключительной популярности.
Потом я пошел к Гокхале. Я нашел его в парке колледжа Фергасона. Он очень
любезно меня приветствовал, а его манера держаться совершенно покорила меня.
С ним я также встретился впервые, но казалось, будто мы старые друзья. Сэр
Фирузшах представлялся мне Гималаями, Локаманья – океаном, а Гокхале -
Гангом. В священной реке можно искупаться и освежиться. На Гималаи нельзя
взобраться, по океану нелегко плавать, но Ганг манит в свои объятия. Так
приятно плыть по нему в лодке. Гокхале устроил мне серьезный экзамен, как
учитель ученику, поступающему в школу. Он сказал, к кому мне следует
обратиться за помощью и как это сделать. Он попросил разрешения просмотреть
текст моей речи. Затем, показав мне колледж, заверил, что всегда будет рад
мне помочь, и попросил сообщить ему о результатах переговоров с д-ром
Бхандаркаром. Расставшись с ним, я ликовал от радости. Как политик Гокхале
на протяжении всей своей жизни занимал, да и теперь занимает в моем сердце
особое место.
Д-р Бхандаркар принял меня с отеческим радушием. Я пришел к нему в
полдень. Уже самый факт, что в такой час я занят деловыми свиданиями, очень
понравился этому неутомимому ученому, а мои настояния, чтобы на митинге
председательствовал беспартийный, встретили с его стороны полное одобрение, которое он выражал восклицаниями: – Так, так!
Выслушав меня, он сказал:
– Все подтвердят вам, что я стою в стороне от политики. Но я не могу
отказать вам в вашей просьбе. Вы делаете важное дело и проявляете достойную
восхищения энергию, так что я просто не в состоянии уклониться от участия в
вашем митинге. Вы правильно поступили, посоветовавшись с Тилаком и Гокхале.
Пожалуйста, передайте им, что я охотно возьму на себя председательствование
на собрании, которое организуется двумя партиями. Я не назначаю часа начала
собрания. Любое время, удобное для вас, будет удобно и для меня.
С этими словами он распрощался со мной, напутствовав всяческими
благословениями.
Без всякой шумихи эти ученые самоотверженные люди организовали в Пуне
митинг в небольшом скромном зале. Я уехал в приподнятом настроении, еще
глубже уверовав в свою миссию.
Затем я отправился в Мадрас. Там митинг прошел с небывалым подъемом.
Рассказ о Баласундараме произвел большое впечатление на собравшихся. Моя
речь была напечатана и показалась мне очень длинной. Но аудитория с
неослабевающим вниманием ловила каждое слово. После митинга публика
буквально расхватала "Зеленую брошюру". Я выпустил второе, исправленное
издание тиражом десять тысяч экземпляров. Их раскупали, как горячие пирожки, но я понял, что тираж все же был чересчур большой. Я увлекся и переоценил
спрос. Моя речь предназначалась только для людей, говорящих по-английски, а
в Мадрасе они не могли раскупить все десять тысяч экземпляров.
Большую поддержку оказал мне ныне покойный адвокат Г. Парамешваран Пиллаи, редактор "Мадрас стандард". Он тщательно изучил вопрос, часто приглашал меня
к себе в контору и помогал советами. Адвокат Г. Субрахманьям из "Хинду" и
д-р Субрахманьям также сочувственно отнеслись к моему делу. Адвокат Г.
Парамешваран Пиллаи предоставил в полное мое распоряжение страницы "Мадрас
стандард", и я не преминул воспользоваться этим. Насколько мне помнится, д-р
Субрахманьям председательствовал на митинге в "Пачаяппа холл".
Любовь, проявленная ко мне большинством друзей, с которыми я встречался, и
их энтузиазм в отношении моего дела были столь велики, что, хотя мы
вынуждены были говорить по-английски, я чувствовал себя совсем как дома. Да
разве существуют препятствия, которых не устранила бы любовь!
XXIX. "ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ СКОРЕЕ"
Из Мадраса я направился в Калькутту, где столкнулся с рядом затруднений. Я
никого не знал в этом городе и поэтому поселился в Большой восточной
гостинице. Здесь я познакомился с представителем "Дейли телеграф" м-ром
Эллерторпом. Он пригласил меня в Бенгальский клуб, где остановился. Однако
Эллерторп не учел, что индийцев не пускают в гостиную клуба. Узнав об этом, он повел меня в свою комнату. Он выразил сожаление по поводу предрассудков, господствующих среди местных англичан, и извинился передо мной, что не смог
повести меня в гостиную.
Я посетил, конечно, Сурендранатха Банерджи, "идола Бенгалии". Я застал его
в кругу друзей. Он сказал:
– Боюсь, наша публика не заинтересуется вашей деятельностью. Вы знаете, что у нас и здесь немало трудностей. Но попытайтесь сделать все возможное.
Вам следует заручиться поддержкой махараджей. Повидайтесь с представителями
Британской Ассоциации Индии. Побывайте также у раджи сэра Пьяримохана
Мукерджи и махараджи Тагора. Оба они настроены либерально и принимают
активное участие в общественных делах.
Я посетил этих господ, но безрезультатно. Оба приняли меня холодно и
сказали, что в Калькутте нелегко созвать митинг, и если что-нибудь можно
сделать, то практически это всецело зависит от Сурендранатха Банерджи.
Я понял, как трудно мне будет достигнуть цели. Я зашел в редакцию "Амрита
базар патрика". Господин, встретивший меня там, принял меня за бродягу. Но
"Бангабаси" превзошла всех. Редактор заставил ждать меня целый час. У него
было много посетителей, но, даже освободившись, он не обращал на меня
никакого внимания. Когда же после долгого ожидания я попытался изложить цель
своего визита, он сказал;
– Разве вы не видите, что у нас и так дела по горло? Таких посетителей, как вы, тысячи. Идите-ка лучше отсюда. У меня нет ни малейшего желания с
вами разговаривать.
Сначала я почувствовал себя обиженным, но потом понял положение редактора.
Я знал, какой популярностью пользовалась "Бангабаси". Я видел, как без конца
шли посетители. И всех их редактор знал. Газета не испытывала недостатка в
темах, а о Южной Африке едва ли тогда кто слышал.
Какой бы серьезной ни казалась обида потерпевшему, он был всего лишь одним
из многих, приходивших в редакцию со своими бедами. Разве мог редактор
удовлетворить всех? Более того, обиженная сторона воображала, что редактор
представляет силу в стране. И только сам редактор знал, что его сила едва ли
будет силой за порогом его учреждения. Но я не был обескуражен и продолжал
заходить к редакторам других газет. Я побывал также в редакциях
англо-индийской прессы. "Стейтсмен" и "Инглишмен" поняли важность вопроса. Я
дал им обширные интервью, которые они напечатали полностью.
Для м-ра Сондерса, редактора газеты "Инглишмен", я стал совсем своим. Он
предоставил в мое распоряжение редакционное помещение и газету. Он даже
разрешил мне внести по моему усмотрению поправки в корректуру написанной им
передовой статьи о положении в Южной Африке. Мы, можно сказать без
преувеличения, подружились. Он обещал оказывать мне всяческое содействие, что в точности выполнил, и поддерживал со мной переписку, пока серьезно не
заболел.
Мне не раз в моей жизни удавалось завязывать такие дружеские отношения
совершенно неожиданно. Сондерсу понравилось во мне отсутствие склонности к
преувеличению и приверженность истине. Прежде чем сочувственно отнестись к
моему делу, он подверг меня строжайшему допросу и убедился, что я стараюсь
совершенно беспристрастно обрисовать не только положение индийцев в Южной
Африке, но даже позицию белых.
Опыт научил меня, что можно добиться справедливости, если только
относиться и к противнику справедливо.
Неожиданная помощь, оказанная мне Сондерсом, обнадежила меня, и я стал
думать о том, что, может быть, все-таки удастся созвать митинг в Калькутте.
Но в это время я получил телеграмму из Дурбана: "Парламент начинает работу в
январе. Возвращайтесь скорее".
Тогда я написал письмо в газету, в котором объяснял причину своего
внезапного отъезда из Калькутты, и выехал в Бомбей. Предварительно я
телеграфировал бомбейскому агенту фирмы "Дада Абдулла и К°" с просьбой
достать мне билет на первый же пароход, отплывавший в Южную Африку. Как раз
в это время Дада Абдулла купил пароход "Курлянд" и настаивал, чтобы я
отправился именно на этом пароходе, предложив бесплатный проезд для меня и
моей семьи. Я с благодарностью принял это предложение и в начале декабря
вторично отправился в Южную Африку, на этот раз с женой, двумя сыновьями и
единственным сыном овдовевшей сестры. Одновременно с нами в Дурбан отошел
еще один пароход "Надери". Обслуживала его компания, представителем которой
была фирма "Дада Абдулла и К°". На обоих пароходах было около 800 человек, половина из которых направлялась в Трансвааль.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I. ПРИБЛИЖЕНИЕ ШТОРМА
Это было мое первое путешествие с женой и детьми. Я уже говорил, что в
результате детских браков между индусами, принадлежащими к средним слоям
населения, только муж мог получить какое-то образование, а жена фактически
оставалась неграмотной. Вследствие этого они оказывались разделенными
глубокой пропастью, и обучать жену должен был муж. Так, я должен был
позаботиться о подходящей одежде для жены и детей, следить, чтобы их питание
и поведение соответствовали правилам, принятым в этом новом для них
окружении. Некоторые воспоминания, относящиеся к тому времени, довольно
занимательны.
Жена индуса считает своим высшим религиозным долгом беспрекословное
повиновение мужу. Муж-индус чувствует себя господином и повелителем жены, обязанной всегда служить ему.
Я полагал тогда, что быть цивилизованным – значит возможно больше походить
в одежде и манерах на европейцев. Я думал, что только таким путем можно
приобрести значение, без которого невозможно служение общине.
Поэтому я тщательно выбирал одежду для жены и детей. Мне не хотелось, чтобы их считали катхиаварскими бания. В то время наиболее цивилизованными
среди индийцев считались парсы, а так как европейский стиль нам не подходил, мы стали придерживаться стиля поведения парсов. Так, моя жена носила сари
парсов, а сыновья – куртки и штаны, как у парсов, и, разумеется все надевали
ботинки и чулки. К этой обуви они тогда еще не привыкли и натирали себе
мозоли, а носки их пахли потом. У меня всегда были наготове ответы на все их
возражения. Но я чувствовал, что убеждали не столько ответы, сколько сила
авторитета. Мое семейство мирилось с новшествами в одежде только потому, что
иного выбора не было. Еще с большим отвращением они стали пользоваться
ножами и вилками. Когда же мое увлечение этими атрибутами цивилизации
прошло, вилки и ножи снова вышли из употребления. От них легко отказались
даже после длительного пользования. Теперь я вижу, что мы чувствуем себя
гораздо свободнее, когда не обременяем себя мишурой "цивилизации".
Тем же пароходом, что и мы, ехали наши родственники и знакомые. Я часто
навещал их, также как и пассажиров других классов. Мне разрешалось ходить
куда угодно, так как пароход принадлежал друзьям моего клиента.
Поскольку пароход направлялся прямо в Наталь, не заходя в другие порты, наше путешествие продолжалось всего восемнадцать дней. Но как бы в
предзнаменование уготованной нам бури на суше разразился ужасный шторм, когда мы были всего в четырех днях пути от Наталя. Декабрь – месяц летних
муссонов в южном полушарии, и на море в это время часто бывают штормы. Но
шторм, в который попали мы, был таким сильным и продолжительным, что
пассажиры начали тревожиться. Это выглядело величественно: все сплотились
перед лицом общей опасности. Мусульмане, индусы, христиане и все остальные
забыли о религиозных различиях в мольбе, обращенной к единому богу.
Некоторые давали различные обеты. Капитан стал уверять молящихся, что шторм
хотя и опасен, но ему приходилось испытывать и сильнее; он убеждал
пассажиров, что хорошо построенный корабль может выдержать почти любую
непогоду. Но люди были безутешны. Непрерывный грохот и треск создавали
впечатление, что корабль опрокидывается. Его так кружило и бросало из
стороны в сторону, что казалось, он вот-вот перевернется. Разумеется, все
ушли с палубы. "Да исполнится воля господня", – было на устах у каждого.
Насколько помню, шторм продолжался около суток. Наконец небо прояснилось, появилось солнце, и капитан сказал, что буря кончилась. Лица людей просияли, опасность миновала, и имени бога уже не было на их устах. Они опять стали
есть и пить, петь и веселиться. Страха смерти как не бывало, и
кратковременное состояние искренней молитвы уступило место майя. Пассажиры, разумеется, совершали намаз и читали другие молитвы, но все это утратило ту
особую торжественность, которая была в те ужасные часы.
Шторм сблизил меня с пассажирами. Я не очень боялся бури, у меня в этом
отношении уже был некоторый опыт. Я хорошо переношу качку и не подвержен
морской болезни, поэтому во время шторма я свободно мог ходить от одного
пассажира к другому, ухаживая за ними и ободряя их. Каждый час я приносил им
известия от капитана. Дружба, приобретенная таким образом, как увидим, сослужила мне хорошую службу.
18 или 19 декабря пароход бросил якорь в порту Дурбан. В тот же день
прибыл и "Надери".
Но настоящий шторм был еще впереди.
II. БУРЯ
Как я уже сказал, оба парохода пришли в Дурбан 18 или 19 декабря. В
южноафриканских портах пассажирам не разрешается высаживаться, пока их не
подвергнут тщательному медицинскому осмотру. Если на корабле имеется
пассажир, больной заразной болезнью, объявляется карантин. Когда мы вышли из
Бомбея, там была чума, и мы опасались, что нам придется пробыть некоторое
время в карантине. Пока не пройден медицинский осмотр всеми пассажирами, над
кораблем развевается желтый флаг, который спускают только после выдачи
врачом соответствующего свидетельства. Родственникам и знакомым доступ на
корабль разрешается только после спуска желтого флага.
На нашем пароходе тоже вывесили желтый флаг. Прибыл доктор, осмотрел нас и
назначил пятидневный карантин. Он исходил из расчета, что бациллам чумы для
полного развития требуется двадцать три дня и поэтому мы должны оставаться в
карантине до истечения этого срока, считая со дня нашего отплытия из Бомбея.
Но на этот раз карантин был объявлен не только из соображений медицинского
порядка.
Белое население Дурбана требовало отправки нас обратно на родину. Это и
явилось одной из причин установления карантина. Фирма "Дада Абдулла и К°"
регулярно сообщала нам о том, что делалось в городе. Белые устраивали
ежедневно многолюдные митинги, всячески угрожая нам и пытаясь соблазнить
фирму "Дада Абдулла и К°" предложением возместить убытки, если оба парохода
будут отправлены обратно. Но фирму не так легко было уговорить. Управляющим
фирмы был тогда шет Абдул Карим Хаджи Адам. Он решил отвести суда на верфь и
любой ценой добиться высадки пассажиров. Ежедневно он присылал мне подробные
сообщения обо всем происходившем. К счастью, тогда в Дурбане находился
адвокат Мансухлал Наазар, ныне покойный, который приехал, чтобы встретить
меня. Этот способный и бесстрашный человек возглавлял индийскую общину.
Адвокат общины м-р Лаутон тоже был не из робких. Он осуждал поведение белых
и помогал индийской общине не только как состоящий на жалованье адвокат, но
и как истинный друг.
Таким образом, Дурбан стал ареной неравной борьбы. С одной стороны, была
горстка бедных индийцев и их немногочисленных друзей-англичан, с другой -
белые, сильные своим оружием, численностью, образованием и богатством, пользовавшиеся к тому же поддержкой государства (правительство Наталя
открыто помогало им). М-р Гарри Эскомб, самый влиятельный член
правительства, принимал участие в их митингах.
Таким образом, подлинная цель установления карантина состояла в том, чтобы, запугав пассажиров и агентов компании, заставить индийцев вернуться в
Индию. Слышались такие угрозы: "Если не поедете назад, мы вас сбросим в
море. Но если вы согласитесь вернуться, то сможете даже получить обратно
деньги за проезд". Я все время обходил своих товарищей-пассажиров, всячески
их подбадривая. Кроме того, я посылал успокоительные послания пассажирам
"Надери". Люди держались спокойно и мужественно.
Чтобы как-то развлечься, мы на корабле затевали различные игры. На
рождество капитан пригласил пассажиров первого класса на обед. Я со своей
семьей оказался в центре внимания. После обеда я произнес речь, в которой
говорил о западной цивилизации. Я знал, что серьезная тема неуместна в
данном случае, но иначе поступить не мог. Я принимал участие в развлечениях, а душою был с теми, кто вел борьбу в Дурбане. Эта борьба была направлена
главным образом против меня. Мне предъявлялись два обвинения: во-первых, в
том, что во время пребывания в Индии я позволил себе несправедливые нападки
на белых в Натале, и, во-вторых, – что я привез два парохода с колонистами
специально, чтобы наводнить Наталь индийцами.
Я понимал, какая на мне лежит ответственность. Взяв меня на борт своего
корабля, фирма "Дада Абдулла и К°" пошла на большой риск. Жизнь пассажиров, так же как и членов моей семьи, была в опасности.
Однако я ни в чем не был виноват. Я не побуждал никого из пассажиров ехать
в Наталь. Я даже не знал их, когда они садились на пароход, да и теперь, за
исключением своих родственников, едва ли знал по имени одного из сотни. Во
время своего пребывания в Индии я не сказал о белых Наталя ничего нового по
сравнению с тем, что уже говорил прежде в самом Натале. На все это у меня
было множество доказательств.
В своем выступлении на обеде я осуждал цивилизацию, продуктом, представителями и поборниками которой являлись белые в Натале. Я уже давно и
много думал об этой цивилизации и теперь в своей речи высказал соображения
по этому поводу перед собравшимся небольшим обществом. Капитан и остальные
мои друзья терпеливо слушали меня и поняли мою речь именно в том смысле, который я хотел вложить в нее. Не знаю, произвела ли она на них должное
впечатление. Впоследствии мне случалось беседовать только с капитаном и
другими офицерами о западной цивилизации. В своей речи я утверждал, что
западная цивилизация в отличие от восточной основана главным образом на
насилии. Задававшие вопросы стремились поколебать мою убежденность в этом.
Кто-то, кажется капитан, сказал:
– Допустим, белые осуществят свои угрозы; что вы тогда будете делать со
своим принципом ненасилия?
На что я ответил:
– Надеюсь, господь даст мне мужество и разум, чтобы простить им и
воздержаться от привлечения их к суду. Я не сержусь на них, а только скорблю
по поводу их невежества и ограниченности. Я знаю, что они искренне верят, будто бы все, что они делают сейчас, справедливо и хорошо. У меня поэтому
нет оснований сердиться на них.
Вопрошавший улыбнулся, возможно, недоверчиво.
Дни тянулись уныло: когда кончится карантин, было все еще неизвестно.
Начальник карантина говорил, что вопрос этот изъят из его компетенции и он
сможет разрешить нам сойти на берег, только когда получит распоряжение от
правительства.
Наконец, пассажирам и мне был предъявлен ультиматум. Нам предлагали
подчиниться, если нам дорога жизнь. В своем ответе мы настаивали на нашем
праве сойти в Порт-Натале и заявили о своем решении высадиться в Натале, чем
бы это нам ни угрожало.
Через двадцать три дня было получено разрешение ввести пароходы в гавань
и спустить пассажиров на берег.
III. ИСПЫТАНИЕ
Итак, суда пришвартовались в гавани, а пассажиры начали сходить на берег.
Но м-р Эскомб передал через капитана, что белые крайне озлоблены против меня
и что моя жизнь в опасности, а потому лучше, чтобы я с семьей сошел на
берег, когда стемнеет, и тогда управляющий портом м-р Татум проводит нас
домой. Капитан передал мне это, и я решил последовать совету. Но не прошло и
получаса, как к капитану явился м-р Лаутон и заявил:
– Если вы не возражаете, я хотел бы забрать м-ра Ганди с собой. Как
юрисконсульт пароходной компании должен сказать, что вы не обязаны следовать
указаниям м-ра Эскомба.
Затем он подошел ко мне и сказал примерно следующее:
– Если вы не боитесь, то я предложил бы, чтобы м-с Ганди с детьми поехала
к м-ру Рустомджи, а мы пойдем вслед за ними пешком. Мне не хотелось бы, чтобы вы проникли в город ночью, словно вор. Я не думаю, чтобы вам угрожала
какая-либо опасность. Теперь все успокоилось. Белые разошлись. Во всяком
случае я убежден, что вам не нужно пробираться в город тайком.
Я охотно согласился. Жена с детьми благополучно отправилась к Рустомджи, а
я с разрешения капитана сошел на берег вместе с Лаутоном. Дом Рустомджи
находился на расстоянии около двух миль от порта.
Как только мы сошли на берег, какие-то мальчишки узнали меня и стали
кричать: "Ганди! Ганди!" К ним присоединилось еще несколько человек. Лаутон
испугался, что соберется толпа, и подозвал рикшу. Я не любил пользоваться
рикшей и впервые в жизни прибег к этому способу передвижения, но мальчишки
не дали мне сесть. Они так испугали рикшу, что тот убежал. По мере того как
мы шли дальше, толпа росла и, наконец, загородила нам дорогу. Лаутона
оттеснили в сторону, а меня забросали камнями, осколками кирпичей и тухлыми
яйцами. Кто-то стащил с моей головы тюрбан, меня стали бить. Я почувствовал
себя дурно и попытался опереться на ограду дома, чтобы перевести дух. Но это
было невозможно. Меня продолжали избивать. Случайно мимо проходила жена
старшего полицейского офицера, знавшая меня. Эта смелая женщина пробралась
сквозь толпу ко мне, раскрыла свой зонтик, хотя никакого солнца уже не было, и стала между мною и толпой. Это остановило разъяренную толпу, меня
невозможно было достать, не задев м-с Александер.
Тем временем какой-то индийский юноша, видевший всю эту сцену, побежал в
полицейский участок. Старший полицейский офицер, м-р Александер, послал
полицейский отряд, чтобы окружить меня и в сохранности доставить к месту
назначения. Отряд пришел как раз вовремя. Полицейский участок находился по
дороге к дому Рустомджи. Когда мы дошли до участка, м-р Александер предложил
мне укрыться там. Но я с благодарностью отклонил его предложение. "Они, наверное, успокоятся, когда поймут свою ошибку, – сказал я. – Я верю в их
чувство справедливости". Под эскортом полиции, без дальнейших приключений я
дошел до дома Рустомджи. Все мое тело было покрыто синяками, но ссадин почти
не было. Судовой врач Дадибарджор тут же оказал мне необходимую медицинскую
помощь.
В доме было тихо, но вокруг собралась толпа белых. Надвигалась ночь, а из
толпы неслись крики: "Давайте сюда Ганди!" Предусмотрительный старший
полицейский офицер уже прибыл к дому и старался образумить толпу не при
помощи угроз, а вышучивая ее. Но все-таки он тревожился и послал сказать
мне: "Если вы не хотите, чтобы вашей семье, а также дому и имуществу вашего
друга нанесли ущерб, советую вам покинуть этот дом, переодевшись в чужое
платье".
Таким образом, в один и тот же день я последовал двум совершенно
противоположным советам. Когда опасность для жизни существовала только в
воображении, м-р Лаутон посоветовал мне выступить открыто, и я принял его
совет. Когда же опасность стала вполне реальной, другой друг дал мне совет
прямо противоположный, и я его тоже принял. Почему я так поступил? Потому
ли, что моя жизнь была в опасности, или потому, что я не хотел подвергать
риску жизнь и имущество друга, жизнь жены и детей? И в каком из этих случаев
поступил я правильно? Тогда ли, когда в первый раз вышел к толпе, или во
второй раз, когда скрылся переодетый?
Но нет смысла судить о правильности или неправильности уже совершенных
поступков. Необходимо разобраться во всем, чтобы по возможности извлечь урок
на будущее. Трудно с уверенностью сказать, как тот или иной человек будет
вести себя при определенных обстоятельствах. Но трудно и оценить человека по
его поступкам, поскольку такая оценка не будет достаточно обоснованной.
Как бы то ни было, подготовка к побегу заставила меня забыть об ушибах. По
предложению м-ра Александера я надел форму индийского полицейского, а голову
обернул мадрасским шарфом так, чтобы он меня закрывал, как шлем. Один из
двух сопровождавших меня агентов сыскной полиции переоделся индийским купцом
и загримировался, чтобы быть похожим на индийца. Как был одет другой, я
забыл. Тесным переулком мы пробрались в соседнюю лавку; через склад товаров, набитый джутовыми мешками, вышли на улицу и, проложив себе дорогу через
толпу, подошли к экипажу, который уже ждал нас в конце улицы. В нем мы
приехали в тот самый полицейский участок, где недавно м-р Александер
предлагал мне укрыться. Я был благодарен ему и агентам сыскной полиции.
В то время как я осуществлял свой побег, м-р Александер развлекал толпу
песенкой:
Повесьте старого Ганди
На дикой яблоне!
Узнав, что мы благополучно добрались до полицейского участка, он преподнес
эту новость толпе:
– Вашей жертве удалось улизнуть через соседнюю лавку. Расходитесь-ка лучше
по домам!
Некоторые рассердились, другие засмеялись, а кое-кто просто не поверил
ему:
– Ну хорошо, – сказал м-р Александер, – если вы мне не верите, выберите
одного-двух представителей, и я разрешу им войти в дом: если они найдут там
Ганди, я охотно его вам выдам. Но если Ганди там не окажется, вы должны
разойтись. Ведь не собираетесь же вы разрушить дом Рустомджи или причинять
беспокойство жене и детям Ганди?
Толпа послала своих представителей обыскать дом. Вскоре они вернулись и
сказали, что никого не нашли. Толпа стала расходиться, наконец, большинство
одобрительно высказывались о поведении старшего офицера, но некоторые
ворчали и злились.
Ныне покойный м-р Чемберлен, бывший тогда министром колоний, телеграфировал правительству Наталя, предложив ему возбудить дело против
лиц, участвовавших в нападении. М-р Эскомб пригласил меня к себе и сказал:
– Поверьте, я очень сожалею обо всех, даже самых незначительных
оскорблениях, нанесенных вам. Вы были вправе принять предложение м-ра
Лаутона и пойти на риск, но я уверен, что если бы вы более благосклонно
отнеслись к моим словам, то этой печальной истории не произошло бы. Если вы
сможете опознать виновных, я готов арестовать их и привлечь к суду. М-р
Чемберлен тоже хочет, чтобы я это сделал.
На это я ответил:
– Я не желаю возбуждать никакого дела. Вероятно, я и сумел бы опознать
одного или двух виновных, но какая польза от того, что они будут наказаны?
Кроме того, я считаю, что осуждать следует не тех, кто нападал на меня. Им
сказали, будто я распространял в Индии неверные сведения относительно белых
в Натале и оклеветал их. Они поверили этим сообщениям и не удивительно, что
пришли в бешенство. Осуждать надо их руководителей и, прошу прощения, вас.
Вам следовало бы должным образом направлять народ, а не верить агентству
Рейтер, сообщившему, будто я позволил себе какие-то нападки. Я не собираюсь
никого привлекать к суду и уверен, что когда эти люди узнают правду, то
пожалеют о своем поведении.
– Не изложите ли вы все это в письменном виде? – спросил Эскомб. – Дело в
том, что мне нужно ответить на телеграмму м-ру Чемберлену. Я не хочу, чтобы
вы делали поспешные заявления. Можете, если хотите, посоветоваться с м-ром
Лаутоном и другими друзьями, прежде чем примете окончательное решение.
Должен признаться, однако, что если вы откажетесь от своего права привлечь
виновных к суду, то в значительной степени поможете мне восстановить
спокойствие и, кроме того, поднимете свой престиж.
– Благодарю вас, – сказал я. – Мне не надо ни с кем советоваться. Я принял
решение до того, как пришел к вам. Я убежден, что не должен привлекать
виновных к ответу, и готов тотчас изложить свое решение в письменном виде.
И я написал требуемое заявление.
IV. СПОКОЙСТВИЕ ПОСЛЕ БУРИ
За мной пришли от Эскомба на третий день моего пребывания в полицейском
участке. Для охраны прислали двух полицейских, хотя необходимости в этом уже
не было.
В тот день, когда нам разрешили сойти на берег, сразу же после спуска
желтого флага ко мне явился представитель газеты "Наталь адвертайзер", чтобы
взять интервью. Он задал мне ряд вопросов, и своими ответами я сумел
опровергнуть все выдвинутые против меня обвинения. Следуя совету сэра
Фирузшаха Мехты, я произносил в Индии только предварительно написанные речи
и сохранил их копии, как и копии всех моих статей. Я передал корреспонденту
весь этот материал и доказал ему, что не говорил в Индии ничего такого, что
не было бы сказано мною раньше в Южной Африке и в еще более резкой форме. Я
доказал также, что совершенно непричастен к прибытию пассажиров на пароходах
"Курлянд" и "Надери". Многие из прибывших жили здесь уже с давних пор, а
большинство даже не собиралось оставаться в Натале, намереваясь отправиться
в Трансвааль. В то время в Трансваале для людей, жаждущих разбогатеть, перспективы были заманчивее, чем в Натале, и индийцы предпочитали ехать
туда.
Это интервью и мой отказ привлечь к суду лиц, напавших на меня, произвели
такое сильное впечатление, что европейцы в Дурбане устыдились своего
поведения. В печати признавалась моя невиновность и осуждалось нападение
толпы. Таким образом, попытка линчевать меня в конечном счете пошла на
пользу мне, т. е. моему делу. Этот инцидент поднял престиж индийской общины
в Южной Африке и облегчил мне работу.
Дня через три-четыре я вернулся домой и вскоре вновь принялся за свои
дела. Происшествие способствовало также расширению моей юридической
практики.
Хотя это и подняло престиж индийской общины, но расовая ненависть к
индийцам усилилась. Убедившись, что индийцы способны мужественно бороться, белые увидели в этом опасность для себя. В Натальское законодательное
собрание было внесено два законопроекта: один был направлен против индийских
торговцев, другой устанавливал строгие ограничения иммиграции индийцев.
Существовало особое постановление, принятое в результате борьбы за








