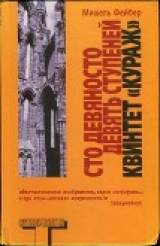
Текст книги "Сто девяносто девять ступеней. Квинтет «Кураж»"
Автор книги: Мишель Фейбер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Англы. Такое простое, короткое слово. Но Шейн вдруг стало грустно. История – дама безжалостная. Эти кости в земле… шестьдесят человек, шестьдесят душ… это были живые люди, они боролись за право иметь свою собственную индивидуальность, они пытались чего-то добиться в жизни, чтобы родители ими гордились, чтобы их дети были им благодарны, чтобы их уважали соседи… а теперь они все обратились в прах, и все, чем они жили, за что страдали, чего добивались, свелось к одному архаичному слову.
– Англы, скорее всего. – Шейн вздохнула. – Но пока мы не сделали углеродную датировку, нельзя сказать наверняка. Пока что мы знаем только, что они жили уже после римлян, но еще до нормандского завоевания.
– А какой-нибудь клад вы нашли?
– Клад?
– Ну, там… золото, драгоценные камни… Браслеты или мечи, которые можно потом хорошенько отполировать и сфотографировать для иллюстраций в брошюрах «Английского наследства»…
Он явно пытался ее поддразнить, но Шейн твердо решила не поддаваться на провокации. С ним надо быть тверже, напомнила она себе. Чтобы он сразу себе уяснил, что у меня тоже есть чувство собственного достоинства.
– Люди, которые здесь похоронены, это ранние христиане, – сказала она. – Они не брали с собой в могилу никаких ценностей бренного мира. «Я голым пришел в этот мир, и голым уйду из него»…
– Ха! – усмехнулся Мак и поднял вверх указательный палец в этаком торжествующем театральном жесте. – Теперь я все знаю. Вы же сами мне дали книжки, и я их честно прочел. А как же все эти цацки, которые тут откопали в двадцатых годах? Броши, кольца и прочее? Монашки из общины святой Хильды в них просто купались, если я все правильно понял.
Шейн наклонилась вперед и ласково потрепала Адриана по голове, не удостоив Магнуса даже презрительным взглядом. Она заговорила, обращаясь к собаке, как будто решила, что пес гораздо толковее хозяина, и разговаривать надо с ним.
– В наше время всем нравится думать, что монахини были безнравственными и испорченными, как сам дьявол, – пробормотала она, глядя в доверчивые собачьи глаза. – Вот такие дела, Адриан. – Она потрепала его за ушами и сочувственно кивнула, как бы подтверждая, что невинная псина даже представить себе не может, что такое бесстыдный цинизм двуногих. – Люди вообще-то самодовольные и ограниченные существа, и им хочется верить, что другие еще хуже их. Почему-то их греет мысль, что монахини и монашки, эти религиозные идеалисты, вовсю нарушали свои обеты – в частности, обет бедности – и красовались в роскошных нарядах, увешанные драгоценностями с головы до ног.
– А что? Разве не так?
Шейн повернулась к Магнусу и посмотрела ему прямо в глаза, продолжая гладить собаку.
– Я вообще не люблю думать о людях плохо. В монастырях и аббатствах жили не только монахини и монахи, но и миряне тоже. Они приезжали сюда в поисках уединения и покоя. И здесь принимали любого. Очень многие из богатых и знатных женщин доживали жизнь в монастырях – незамужние принцессы, вдовые королевы… Они не давали никаких обетов. У них были слуги и все, что положено. И лично мне хочется думать, что все эти кольца, броши и пряжки, которые тут откопали, принадлежали таким вот богатым дамам.
– Вам хочется думать, – проговорил он с нажимом, явно желая ее поддразнить.
– Да, мне хочется думать, – отозвалась она, с трудом подавив раздражение. – Я понимаю, сейчас уже ничего не докажешь, но зачем столько цинизма? Почему обязательно нужно думать о людях плохо? Почему не подумать о них хорошо?!
Его глаза зажглись озорным огоньком.
– Так я как раз и пытаюсь подумать о них хорошо! – Он похлопал ресницами, изображая святую невинность. – Насколько я понял, у этих монашек жизнь была явно не сахар. Вот я и пытаюсь придумать им что-то приятное… всякие мелкие женские радости… чтобы немного их развеселить. Ну, чтобы им было не так уныло. Чтобы и у них был кусочек хорошей жизни.
Шейн представляла себе развалины аббатства XII века, которые она знала, как свои пять пальцев, и пыталась мысленно реконструировать первоначальное здание VII века, разрушенное викингами.
– Забавно сравнить, – проговорила она с тоской, – что понятие «хорошая жизнь» значит теперь, в наше время… И что оно значило…
– В средневековье, когда вы были бы монахиней в монастыре? – Похоже, он понял, что несколько переборщил со своим ехидством, и чтобы как-то сгладить неловкость, раскрыл свой пластиковый пакет и осторожно достал оттуда картонную коробку.
– Собственно, я зачем вас искал? Хочу вам кое-что показать. Я уверен, вы это оцените, как… как там, напомните… консервант?
– Консерватор, – поправила Шейн, поневоле заинтригованная. Мак открыл крышку. В коробке, в гнезде из смятой туалетной бумаги, лежала стеклянная бутылка без этикетки. Стекло было тусклым и каким-то не то чтобы бесцветным, а скорее, обесцвеченным. Вещь явно старинная, антикварная. Внутри, в бутылке, была свеча – нет, не свеча, а листы бумаги, скрученные в тугой свиток. С первого взгляда Шейн поняла, что бумага сильно пострадала, причем не только от воды, но и от неправильной сушки. Листы сморщились и, надо думать, намертво склеились друг с другом. На листах было что-то написано. Шейн пригляделась к заглавным буквам в видимой части рукописного текста. XIX век. Даже, может быть, XVIII.
Хочу, хочу, хочу, пронеслось у нее в голове.
Мак поднес бутылку поближе, так чтобы Шейн было лучше видно, и принялся медленно поворачивать ее по продольной оси, держа за горлышко и за донце: текст на свитке пополз, как прокрутка на начальной странице веб-сайта на самом древнем в мире мониторе.
– Смотрите, – сказал он. – Там еще можно что-то прочесть.
Покаянная исповедь Томаса Пирсона,
собственноручно записанная им самим
в году 1788 от Рождества Господа нашего Иисуса Христа
Полностью отдавая себе отчет, что у меня мало времени, поскольку моя дорогая супруга только что
И все: дальше лист загибался, и текст уходил внутрь свитка.
– Где вы это нашли?! – Голос Шейн дрожал от волнения. Но когда она это заметила, было уже слишком поздно: Мак тоже это заметил. Вот черт.
Он усмехнулся.
– Это не я. Это папа. Нашел ее в пятьдесят девятом, когда здешние градостроители перестраивали причал и сносили Жестяную Пристань. Отец, можно сказать, ее спас. Забрал домой, пока не вернулись бульдозеры.
Шейн смотрела, как он убирает бутылку обратно в коробку. Она сделала глубокий вдох и проговорила, как бы между прочим, то есть она очень надеялась, что ее голос звучит именно так, «как бы между прочим», вроде это как ей и не особенно интересно:
– Знаете, этот ваш свиток… его в принципе можно развернуть. И мы сможем узнать, в чем он каялся… тот человек.
– Вряд ли, – ответил Мак, с сожалением поглаживая бутылку. – Я пытался достать бумаги. Даже пинцетом. Но они затвердели, а свиток шире, чем горлышко. Конечно, я мог бы разбить бутылку… но, понимаете… ведь она не разбилась даже, когда ее выкопали бульдозером. Мой отец думал, что это чудо, и это действительно круто, надо признать. И если сейчас я ее разобью, это будет… ну, я не знаю… неправильно.
Шейн очень тронуло это рудиментарное благоговение Мака перед древней вещью, но ее раздражало его невежество.
– У нас есть инструменты, чтобы вскрыть бутылку, не разбивая, – сказала она. – Мы можем открыть бутылку, достать бумаги, развернуть их, разделить и прочесть…
– «Мы» – это кто? – спросил он. – Вы и я?
Шейн улыбнулась. Похоже, он снова пытался ее поддразнить, но она не поддалась на провокацию. Нет. Она вообще вся из себя белая и пушистая, только что хвостиком не виляет. Потому что сама мысль о том, что сейчас он закроет коробку – этот картонный ларец с сокровищем, – уберет ее в пакет, унесет домой, и она больше уже никогда не увидит эти бумаги, была просто невыносимой. Дай их мне, дай их мне, дай их мне, твердила она про себя.
– У меня есть знакомый в Нортумбрийском университете, – сказала она. – Я его попрошу, он откроет бутылку. А с бумагами я разберусь сама, прямо здесь.
– М-мм, – уклончиво промычал Мак.
Адриану, видимо, надоело сидеть на месте, и он решил сбегать обратно на церковный двор. Или, может быть, он обиделся, что о нем все забыли: никто не чешет его за ушком, никто не предлагает побегать. Он снова принялся обнюхивать каменных лошадей на барельефе у основания Кедмонова Креста – такие маленькие лошадки, больше похожие на игрушечных собачек в конуре.
– Ну так что… – тихо проговорила Шейн. – Что вы решили? Попробуем вскрыть?
Мак снова достал из коробки бутылку и поднял ее на свет.
– Но вы уверены, что потом ее можно будет склеить обратно? Чтобы она снова стала такой, как сейчас? – Он держал бутылку твердо, но бережно. Из него выйдет очень хороший врач, подумала Шейн.
– Конечно, – сказала она. – Тонкий шов на стекле – и все. И мы его сделаем в таком месте, где его будет совсем не видно.
Он взглянул на нее с сомнением, приподняв бровь.
– Совсем не видно?
Но, слава Богу, он отдал бутылку Шейн. Еще секунду назад она была у него в руках, и вот Шейн уже держит ее сама. Их пальцы соприкоснулись на краткий миг, когда он отдавал ей бутылку.
– Доверьтесь мне. – Шейн как будто ударило молнией. Но это была неопасная молния – просто разряд нервной дрожи.
Она смогла приступить к работе уже ближе к ночи. Сперва ей пришлось ждать, пока Невилл, ее приятель из Нортумбрийского университета, не закончит вечернюю лекцию. А потом он заявил, что жена ждет его к ужину. Но Шейн все-таки уговорила его позвонить жене по мобильному телефону и объяснить, что ему неожиданно подвернулась работа. Шейн даже не постеснялась прибегнуть к грубой топорной лести, мол, ты, Невилл, у нас просто Бог лазерной резки, и все в таком духе.
– Нет, правда, Шейн, тебе что, горит? Неужели нельзя подождать до завтра? – пробурчал Невилл, но все же провел Шейн в святая святых – в свою мастерскую.
– Эта штука и так ждала меня с 1788 года, – сказала она.
И вот Шейн наконец-то вернулась в гостиницу. Прежде чем взять листы в руки, она надела перчатки. Сухая бумага была очень легкой, но так и должно было быть. Шейн не понравилось другое: бумага сильно пересохла и была ломкой и хрупкой. Гораздо более хрупкой, чем Шейн смела надеяться. Она-то тешила себя мыслью, что можно будет просто развернуть свиток и разгладить листы. Но нет. Как оказалось, работы тут не на один день. И это будет непростая работа: трудоемкая, медленная, кропотливая – как это бывает всегда, когда ты пытаешься что-то спасти от губительного воздействия времени. В общем, как говорится, легко ничего не дается.
Понятно, что эта бумага была пропитана желатином – причем очень густым желатином, на изготовление которого ушло немало животных отходов: кожи, копыт и костей. Когда-то это была очень хорошая и дорогая бумага: плотная, гладкая, глянцевая, – но от воды желатин размок и превратился в клей. А сушили бумагу неправильно – от такой сушки она затвердела и превратилась в подобие папье-маше. Шейн аккуратно потыкала свиток пинцетом. Ощущение такое, как будто тыкаешь в деревяшку, что сначала размокла, а потом высохла.
Шейн недовольно нахмурилась, но тут же сказала себе: не глупи. Тебе еще повезло: худо-бедно, но эти листы сохранились, а ведь могли бы вообще расползтись в воде, превратившись в кашу. Но почему любая работа с вещами из далекого прошлого должна обязательно быть трудоемкой и сложной? Почему эти вещи не возникают из прошлого чистыми, свежими, целыми и невредимыми? Почему все бумаги должны быть обязательно хрупкими и испорченными, все вазы – разбитыми, все скелеты – неполными, все браслеты и кольца – ржавыми, все статуи – варварски искалеченными?! Почему от поэзии Сапфо сохранилось лишь несколько кратких фрагментов – почему не всё?!
Шейн сидела и грызла ногти. Она понимала, что ее раздражение – это просто нервозность: волнение и предвкушение – что там, на этих листах, какую тайну они откроют? – и страх, что она все испортит, и тайна так и останется нераскрытой. Шейн набросила куртку и вышла на улицу. Она дошла до вокзала и купила в киоске четыре разных шоколадных батончика, причем умяла три штуки еще на обратном пути в гостиницу. Вернувшись в номер, Шейн взяла из бесплатного минибара бутылочку минеральной воды и выпила чуть ли не всю одним жадным глотком. Потом, дрожа от волнения и борясь с тошнотой – ее немного мутило от всех съеденных сладостей, – она выложила на стол свои «хирургические инструменты».
К трем часам ночи исповедь Томаса Пирсона начала потихонечку проявляться «на свету» XXI века. В течение долгих часов Шейн увлажняла свиток, то аккуратно катая его по металлической решетке, установленной над лотком с теплой водой, то убирая на время в пластиковый пакет. Наконец, бумага впитала достаточно влаги и немного «расслабилась», то есть стала уже не такой хрупкой, а желатиновый клей утратил часть своих клеящих свойств. Теперь уже можно было попробовать отделить верхний лист от остальных – при помощи тонкого рогового шпателя.
Покаянная исповедь Томаса Пирсона,
собственноручно записанная им самим
в году 1788 от Рождества Господа нашего Иисуса Христа
Полностью отдавая себе отчет, что у меня мало времени, поскольку моя дорогая супруга только что проводила доктора Кабитта и, заперев за ним дверь, рыдает теперь у себя внизу, я пишу эти строки.
Волокна бумаги были на редкость ломкими; тряпье, из которого делали эту бумагу, было явно не лучшего качества. В смысле, изрядно потрепанное изначально и небрежно измельченное впоследствии. Коричневые чернила читались относительно хорошо – бумага если и выцвела, то не сильно. Но ее белизна достигалась не столько за счет тщательной предварительной стирки тряпичного сырья, сколько благодаря обильной пропитке хлорным отбеливателем, новейшему изобретению – то есть, конечно, новейшему в 1788 году. Понятно, что подобная обработка сильно ослабила текстуру бумаги, так что – хотя Шейн и старалась не делать резких движений – при каждом движении шпателя лист грозил расползтись. Да и сами слова, кажется, распадались буквально на глазах: галловая кислота и сульфат железа, что входили в состав чернил, проели дырки внутри почти всех «е» и «о».
внизу, я пишу эти строки. В свои пятьдесят лет от роду я был
Был – кем? Бумага разорвалась под шпателем, захватив верхнюю часть одного слова на строчке внизу. Шейн отложила шпатель и протерла глаза рукавом. Надо, чтобы бумага еще полежала во влажном месте. А самой Шейн надо хотя бы немного поспать.
Снаружи, на улице, какой-то пьяный мужик выкрикнул древнее слово спорной этимологии, и в ответ раздался женский смех. Наверное, это и вправду забавно, что действие, определявшее происхождение каждого человека, определяется словом, происхождение которого давно утрачено.
Шейн прилегла на краешек кровати, свесив одну ногу вниз. Она закрыла глаза, чтобы они отдохнули. Буквально на пару минут. А потом она снова вернется к работе.
– Я люблю тебя… если ты мне не веришь, то ты поверь, – прошептал ей на ухо мужчина с большими руками. – Чтобы спасти твою душу, я готов погубить свою.
Его слова прозвучали так искренне, в них было столько любви и участия… и Шейн прижалась щекой к его плечу и обняла его крепко-крепко. Теперь их ничто не разлучит. Она так решила. Они всегда будут вместе. Всегда.
И конечно, уже через пару минут (или, может, часов?) ее опять полоснули ножом по горлу, а снаружи кричали чайки.
Чуть позже в то утро, когда солнце уже поднялось высоко над Церковной улицей, так что все сто девяносто девять ступеней, вырубленных в камне на Восточном Утесе, заискрились в его лучах, Шейн подошла к подножию лестницы и остановилась на пару минут, собираясь с духом перед подъемом. С утра было прохладно. Морской воздух, насыщенный солью, бодрил, но в то же время и вызывал легкое головокружение, и Шейн никак не могла решить, что ей делать: еще постоять у подножия лестницы и подышать полной грудью или уже прекратить страдать этим самым на букву «х» и начать подниматься. Она бы, наверное, еще долго не вышла из этого сонного ступора, но тут откуда-то сзади раздался истошный вопль:
– Дичь, Адриан! Взять!
Это был голос Магнуса, такой… насмешливо приказной… но самого Магнуса Шейн не увидела. Она увидела только огромного зверя, заходящегося хриплым лаем, который вдруг возник перед ней и встал, скаля зубы, готовый в любой момент сбить ее с ног.
– Эй! – закричала она, отчасти – от страха, отчасти – от облегчения, потому что, конечно же, она узнала это взлохмаченное чудовище. Адриан, ужасно довольный собой, присел на задние лапы и задышал, приоткрыв пасть. Он по-прежнему морщил морду и скалил зубы, но это был вполне дружелюбный оскал.
– И не давай ей пощады, малыш, – сказал Мак, подбегая к ним. Он опять был в костюме для бега, то есть в одних в шортах и свободной футболке, на которой виднелись влажные подтеки пота. Надо сказать, что такой наряд очень выгодно подчеркивал его атлетическое сложение. Он был выше ростом и гораздо красивее, чем Шейн запомнила с первого раза. Его голые ноги сверкали на солнце.
– Вы меня напугали, – с упреком проговорила Шейн, когда он подбежал к ней и остановился. Вернее, не остановился, а продолжал бежать – только на месте.
– Прошу прощения. Идиотское чувство юмора. Это все папенька виноват.
Шейн смерила его презрительным взглядом. Она еще не оправилась от первоначального потрясения. Он был весь красный, и он, конечно же, не мог не заметить, как она на него смотрит, но все равно продолжал бег на месте. Как будто просто не мог остановиться. Ни на секунду. Шейн где-то читала, что любительский спорт – это тоже наркотик. А люди, повернутые на физических упражнениях для укрепления здоровья, – те же наркоманы, только от физкультуры.
– Да не мельтешите вы, ради всего святого. Постойте спокойно.
– Сегодня такой замечательный день! – объявил он, широко раскинув руки навстречу солнцу. Он как будто не слышал, что сказала ему Шейн. – А что бы нам не пробежаться вверх по ступенькам?!
– Да, пожалуйста, кто вам мешает?
– Нет, я хотел сказать вместе. – Он запрыгнул на первую ступеньку. Адриан радостно тявкнул и побежал вверх по лестнице – сплошное мохнатое счастье на четырех лапах. Он поднялся ступеней на десять и снова вернулся к Шейн.
– Давайте-ка, покажите, в какой вы физической форме!
Шейн даже как-то опешила от такого хамства. Она так сильно смутилась, что ее стало плохо. То есть по-настоящему плохо. Но если Мак и заметил ее состояние, то это лишь подстегнуло его на дальнейший натиск.
– Ну, давайте… такая стройная молодая женщина, – он выразительно посмотрел на нее, – вполне в состоянии пробежать сотню-другую ступенек.
– Пожалуйста, Мак… – Его неприкрытая лесть была еще более жестокой, чем откровенное оскорбление. – Не надо.
– Главное, задать себе правильный темп, – продолжал он, пропустив ее реплику мимо ушей. Его лицо стало совсем уже красным, просто багровым. Наверное, ему было стыдно, но он зашел уже слишком далеко, чтобы теперь пойти на попятный. – И следить за дыханием. Вдох… через каждые три ступеньки… всего шестьдесят шесть вдохов…
– Мак, – сказала она, – у меня ампутирована нога.
Он еще пару секунд потоптался на месте и вдруг резко замер.
– Господи, – прошептал он, уронив руки. – Прошу прощения.
За это время Адриан успел еще разок сбегать наверх и обратно. Пес так и лучился простым песьим счастьем. Кажется, он был совсем не в обиде на Мака и Шейн, что они его дразнят: мол, побежали наверх, но никто не бежит. Он вертел головой, переводя вопросительный взгляд с лица Шейн на лицо хозяина и обратно, как бы спрашивая у них: И чего теперь?
Мак вытер лицо своей огромной ладонью, а потом – еще раз. Нижним краем футболки. Словно нашкодивший маленький мальчик, который нашел предлог, чтобы спрятать лицо от рассерженной мамы. Красивый и статный молодой человек, обнаживший живот с мускулатурой, как у греческой статуи.
Ну, ты и скотина, подумала Шейн. Хочу, хочу, хочу.
– Какая нога? – спросил Мак, оправившись от потрясения. – Правая или левая?
Шейн приподняла левую ногу и покачала ею в воздухе. Правда, недолго. Потому что боялась не удержать равновесия.
– А так вообще не скажешь. У вас, наверное, очень хороший протез, – теперь он принял манеру и тон в лучших традициях практикующего врача.
– Нет, совсем не хороший, – отозвалась она с раздражением. – Российского производства. Почти весь деревянный. Весит целую тонну.
– А вы не думали заменить его на другой, из пластика? Они действительно очень легкие и удобные, и за последние годы…
– Магнус, – перебила она, разрываясь между смущенным смехом и горькой яростью, – это не ваше дело.
К ее несказанному облегчению, он не стал развивать эту тему и оставил при себе свои, без сомнения, обширные, даже энциклопедические познания в области искусственных конечностей – если «энциклопедический» подходящее слово для поверхностно-профессионального ознакомления с рекламными брошюрками, которые компании по производству протезов рассылают врачам.
– Прошу прощения. – Он произнес это искренне. Похоже, ему действительно было стыдно. Адриан, которому уже надоело носиться вверх-вниз по ступенькам, нетерпеливо просунулся между ними, умоляюще сморщив свой черный пушистый лобик. Мол, побежали уже наверх – ну, чего вы застряли? Шейн погладила его по мягкой шерстке. Это было приятное ощущение. Она опустилась на колени и принялась чесать ему шею, запустив пальцы в густую шерсть.
Мак тоже встал на колени. Поскольку Шейн гладила Адриана по голове и по шее, сам он занялся его боками. Он очень надеялся, что она на него не злится. То есть не сильно злится. В общем, что она сейчас не поднимется и не уйдет.
– А где вы потеряли ногу? – тихо спросил он уже не как врач, который расспрашивает пациента, а как самый обыкновенный среднестатистический гражданин, которому и самому неудобно за свое праздное любопытство, но очень хочется вызнать побольше кровавых подробностей.
Шейн тяжко вздохнула. Она уже не сердилась на Магнуса, но ее просто убило слово «потеряли»: такое нелепое и неуместное в данном контексте, такое стеснительное и робкое и в то же время – такое поверхностное. Как будто Шейн по рассеянности оставила ногу в автобусе, и она так и лежит, одинокая и невостребованная, где-нибудь в бюро находок. Как будто когда-нибудь в будущем она «потеряет» и жизнь, словно какой-нибудь зонтик – когда боль у нее внутри приготовится нанести свой последний, смертельный удар.
– В Боснии, – сказала она.
Это произвело на него впечатление.
– На войне? – спросил он с уважением. Шейн поняла, что ему представляется этакая экзотически-героическая картина с ее участием: например, как она помогает выносить раненых детишек из-под горящих обломков, и тут ее настигает вражеская пуля.
– Да, во время войны. Только война тут совсем ни при чем, – сказала она. – Я поехала в Боснию вместе со своим бойфрендом. Он был журналистом. Мы выходили из бара в Горажде, и меня сбила машина. Прямо на тротуаре. За рулем сидел пьяный подросток. – Она раздраженно поморщилась, поймав недоверчивый взгляд Магнуса. – Пьяные подростки – они есть везде. Даже в Боснии. Даже во время войны.
– А ваш друг?
– Что мой друг?
– Его тоже… ранило?
– Он погиб…
– Простите…
– …через месяц. От снайперской пули. Но к тому времени мы расстались. То есть он меня бросил. Сказал, что он просто не представляет, как он будет жить с инвалидом. Почему-то он вбил себе в голову, что ему придется возиться со мной всю жизнь.
Мак поморщился, как будто низкий поступок какого-то там мужика, которого он даже не знал, замарал и его тоже.
– Но вы неплохо справляетесь и сама.
– Спасибо.
– Нет, правда. Если бы вы не сказали, я бы в жизни не догадался.
– А я бы и не сказала, если бы кто-то не стал подбивать меня на пробежку вверх по лестнице.
– Мне ужасно неловко. Вы уж простите меня, дурака.
Шейн погладила Адриана по голове. Она вовсе не собиралась облегчать Магнусу жизнь и вот так вот с ходу его прощать. Пускай попотеет, решила она. Разумеется, в метафорическом смысле. Потому что в буквальном смысле он и так уже был весь мокрый.
– Кстати, о покаянии и раскаянии… – сказала она. – Это ваше письмо в бутылке… покаянная исповедь…
– Да? – Он ужасно обрадовался этой возможности перевести разговор на другую тему.
– Оказалось, что все не так просто. В смысле, работы с бумагами. Вам нужно решить, что для вас более важно, Мак: узнать, что там написано, или сохранить свиток в его изначальном виде. Если у меня получится разделить эти листы, это будет большая удача. Но потом их уже не свернешь в аккуратный свиток и не засунешь обратно в бутылку.
– И что вы предлагаете?
– Я ничего не предлагаю, – сказала Шейн, хотя она, безусловно, пыталась его подтолкнуть к нужному ей решению. Но так… очень тонко и деликатно. – Это ваша фамильная ценность, Мак. Я могу вернуть свиток на место, заклеить бутылку и отдать ее вам уже завтра.
Она отвлеклась, чтобы помахать рукой Майклу, который подошел к лестнице и начал подниматься, старательно глядя под ноги, чтобы никто, не дай Бог, не подумал, что он собирается помешать Шейн и ее знакомому. Когда Шейн помахала ему, он кивнул ей в ответ и украдкой покосился на Мака, при этом он чуть не споткнулся. Такой неуклюжий, нескладный и милый Майкл. Шейн поняла, что в его близоруких глазах они с Маком смотрелись как некая романтическая загадка, своего рода археологическая находка, на которую можно наткнуться по чистой случайности, но тогда уже выкопать из земли и передать в лабораторию на экспертизу. Мягкий, застенчивый человечек… Шейн всегда презирала таких мужчин…
– Даже не знаю, – ответил Мак. – В ней есть что-то волшебное, в этой бутылке… когда она такая, как есть…
– Хотя, погодите… кое-что тут можно сделать, – сказала Шейн, решив, что он уже достаточно подготовлен. – Я могу сделать вам новый свиток из папье-маше и наклеить на внешнюю сторону факсимиле верхней страницы. Я знаю, как делать копии с древних оригиналов, чтобы они смотрелись такими же старыми и достоверными. Подлинные листы можно будет растянуть на досках и обработать для лучшей сохранности, может быть, даже отдать в музей, где им обеспечат необходимые условия для хранения, а у вас будет копия, неотличимая от оригинала.
Он рассмеялся:
– Очередная историческая фальсификация?
Она посмотрела ему прямо в глаза:
– Вы хотите узнать, что написано в исповеди, или нет?
Он думал не более трех секунд.
– Да, хочу.
В тот день Шейн и ее коллеги прощались с Кайрой и Тревором, которые отбывали на Ближний Восток. Те самые «очень приятные люди» из Северного Уэльса, что приехали им на замену, уже заняли боевые позиции на их месте – тоже семейная пара, муж и жена, которые прожили вместе «всю жизнь». Они пришли на участок в похожих толстовках и в одинаковых ботинках. За работой они постоянно перешептывались друг с другом и целовали друг друга то в плечо, то в висок. Да, это были действительно очень приятные люди – милые, очаровательные, – но Шейн они раздражали донельзя. Они буквально лучились счастьем, так что даже самый воздух вокруг них, казалось, светился и слепил глаза.
Хочу, хочу, хочу.
После обеда неожиданно набежали тучи, и в половине четвертого хлынул дождь. Нина – начальница – объявила, что на сегодня работы закончены. Тринадцать из четырнадцати археологов в мгновение ока растворились в дожде, сгорбившись под капюшонами нейлоновых курток и легких пластиковых дождевиков – словно толпа монахов, что бегут без оглядки, спасаясь из разрушенного монастыря. Те, кто был помоложе, сразу умчались в город – поскорее окунуться в невообразимые удовольствия современного мира.
Шейн, хотя у нее не было ни плаща, ни зонта, все равно не спешила. Она медленно шла по размытой, предательски скользкой земле, сосредоточенно глядя под ноги. Струйки дождя заливались за шиворот. Мокрые волосы липли к лицу.
Она то и дело поглядывала на каменную лестницу, надеясь вопреки здравому смыслу, что Мак и Адриан поднимутся ей навстречу. Разумеется, их там не было и в помине. Но Шейн все равно предавалась бредовым фантазиям, что вот сейчас Мак нарисуется на горизонте и бросится к ней со всех ног с раскрытым зонтом в руке. Как романтично… и глупо. Знай об этом святая Хильда, она бы лишь безнадежно махнула рукой.
Автостоянка между развалинами аббатства и часовней Святой Марии, которую Шейн всегда проходила не замечая, сегодня ужасно ее раздражала. Зачем здесь – в святом месте – устроили эту уродливую площадку, залитую бетоном?! Когда-то на этом месте были молельни и другие постройки древних христиан – постройки чуть ли не тысячелетней давности. И вот теперь они погребены под толстым слоем бетона в вонючих подтеках бензина. И что теперь нужно сделать, чтобы до них добраться? Бомбу сбросить на эту дурацкую автостоянку?! Устроить массированный артобстрел?
Шейн болезненно поморщилась. При мысли об артобстреле ей вспомнилась Босния: грохот выстрелов, взрывы гранат… они с Патриком лежали в постели, и Шейн прижималась к нему крепко-крепко, чтобы было не так страшно. А ей было страшно. Хотя стреляли достаточно далеко – на расстояние в несколько миль.
– Представь, что это гроза, – посоветовал Патрик. – Просто гроза. Она тебе ничего не сделает.
– Если только молнией не шарахнет, – сказала она.
– Ну, если шарахнет, ты уже ничего не почувствуешь, – сказал он, почти сквозь сон.
Только это неправда. Смерть безболезненной не бывает. Боль есть всегда. Даже нога, которой давно уже нет, все равно продолжает болеть.
Шейн почти час бродила по улицам Уитби в поисках где бы поесть. Она была в том капризном, дерганом настроении, когда то, что тебе предлагают, тебя не устраивает, и ты даже вроде бы знаешь, чего тебе нужно – вот только поблизости ничего этого нет. Шейн с большим удовольствием пообедала бы в турецком или греческом ресторанчике, где всегда подают много разных подливок и соусов, и где большой выбор всяких деликатесов и сладостей, и где официантки с манерами дремучих крестьянок громко переговариваются друг с другом через весь зал. Или, скажем, в китайской закусочной – где горячий суп, фаршированные блинчики и лапша со специями. Да где угодно, только чтобы там не было рыбы с картошкой – традиционного блюда Уитби.
Шейн бродила по улицам, изучая меню ресторанчиков, выставленные в окне. Но всегда попадала на неизменную треску с картошкой с различными «дополнениями» в виде горохового пюре, пряной подливки, вареных яиц в маринаде и соуса карри. Шейн сунулась было в гостиницу «Большая медведица», но там на двери висело объявление: «К сожалению, кухня сегодня закрыта». Ей приглянулось одно бистро, но оно тоже было закрыто – до вечера. В «Тандури», индийском ресторанчике у вокзала, кормили очень неплохо, но Шейн ужинала там вчера. И ей не хотелось долго дожидаться заказа – хотелось просто по-быстрому перекусить.








