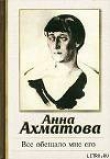Текст книги "Жизнь не здесь"
Автор книги: Милан Кундера
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
8
В микроавтобусе, которым поэты возвращались в потемневшую Прагу, кроме них сидела еще и красивая киношница. Поэты окружили ее, и каждый из них из кожи лез вон, чтобы привлечь ее внимание. Яромил по злополучной случайности занял слишком отдаленное место, так что не мог принять участие в сем развлечении; он думал о своей рыжуле и с несомненной ясностью сознавал, что она неисправимо уродлива.
Потом микроавтобус остановился где-то в пределах Праги, и некоторые поэты решили ненадолго заглянуть в винный погребок. Яромил и киношница пошли с ними; сидя за большим столом, они болтали, пили, затем выбрались из погребка, и киношница предложила им зайти к ней. Поэтов осталась горстка: Яромил, шестидесятилетний поэт и редактор издательства. Все уселись в кресла в прекрасной комнате на втором этаже современного особняка, где девушка снимала квартиру, и продолжали попивать вино.
Старый поэт с непревзойденным задором увивался вокруг киношницы. Он сидел рядом с ней, восхищался ее красотой, читал ей стихи, сочинял поэтические оды ее чарам, то и дело вставал перед ней на колено и хватал ее за руки. Примерно таким же манером увивался вокруг Яромила редактор издательства; хотя он и не воспевал его красоту, зато бессчетно повторял: Ты поэт, ты поэт!(Нельзя не заметить, что, ежели поэт называет кого-то поэтом, это нечто другое, чем называть инженера инженером или крестьянина – крестьянином, ибо крестьянин тот, кто возделывает поле, а поэт не тот, кто пишет стихи, а тот, кто – вспомним это слово! – избраних писать, и лишь поэт способен безошибочно распознавать в собрате по перу поэта милостью Божьей, ибо – вспомним письмо Рембо – все поэты братьяи лишь брат у брата способен распознать тайное знамение рода.)
Киношница, перед которой стоял коленопреклоненный шестидесятилетний поэт и руки которой стали жертвой его ретивых пожатий, неотрывно смотрела на Яромила. Яромил, вскоре заметив это, был в высшей степени околдован ее взглядом и также стал неотрывно смотреть на нее. Это был восхитительный четырехугольник! Старый поэт, созерцавший киношницу, редактор – Яромила, а Яромил с киношницей – друг друга.
Разве что однажды на минуту была нарушена эта геометрия взглядов, когда редактор взял Яромила под руку и повел его на прилегавший к комнате балкон; он попросил его вместе с ним помочиться через перила на двор. Яромил с удовольствием выполнил его просьбу, ибо страстно хотел, чтобы редактор не забыл своего обещания издать его книжку.
Когда оба вернулись в комнату, старый поэт поднялся с колен и сказал, что пора и честь знать: он, мол, прекрасно видит, что вовсе не о нем мечтает молодая девушка. И предложил редактору (тот был гораздо менее внимателен и деликатен) оставить наконец наедине тех, которые жаждут и заслуживают этого, ибо, как он выразился, именно они принц и принцесса сегодняшнего вечера.
Теперь уже и редактор понял, о чем речь, и готов был уйти, и старый поэт, взяв его под руку, потащил к двери, когда Яромил вдруг осознал, что остается наедине с девушкой, которая сидит на широком кресле, скрестив под собой ноги, распустив черные волосы, и не сводит с него глаз…
История двоих, ее и его, которым предстоит стать любовниками, столь вечная, что мы чуть было не забыли о времени, когда она происходит. А как было бы приятно рассказывать о таких любовных историях! Как было бы сладостно забыть о той, что высосала из нас сок наших коротких жизней, чтобы употребить его во имя своих ненужных дел, как было бы прекрасно забыть об Истории!
Но ее призрак стучится в дверь и входит в наш рассказ. Она не всегда приходит в образе тайной полиции или нежданного переворота, История шагает не только по драматическим вершинам жизни, а бывает, просачивается, как сточная вода, в повседневность; в наш рассказ она входит в образе исподнего. Во времена, о которых мы повествуем, на родине Яромила элегантность считалась прегрешением; женские платья (впрочем, прошло лишь несколько послевоенных лет, и люди все еще бедствовали) были безобразными, а элегантность белья и вовсе в ту строгую пору воспринималась как распутство, поистине наказуемое! Мужчины, которым все-таки претила безобразность подштанников, что тогда продавались (широких, доходивших до колен, с комичным разрезом на животе), вместо них носили короткие полотняные шорты или трусы, в основном предназначенные для тренировок на спортивных площадках или в физкультурном зале. Дико было, когда в Чехии той поры в постель возлюбленных ложились мужчины в одеянии футболистов, то бишь в том виде, в каком ходят на спортплощадку, но с точки зрения элегантности это было не самым худшим: шорты или трусы содержали некий спортивный дух и были веселенького цвета: голубые, зеленые, красные, желтые.
Яромил о своей одежде не думал, ибо был целиком на попечении матери; она подбирала ему костюмы, подбирала белье, заботилась о том, чтобы он не простыл и одевался по погоде достаточно тепло. Она точно знала, сколько подштанников должно быть сложено в комоде, и одним взглядом в ящик определяла, какие из них сегодня надел Яромил. Когда видела, что все подштанники на месте, сердилась; не любила, если Яромил надевал трусы, ибо считала их не бельем, а штанишками, пригодными лишь для спортивного зала. Когда Яромил сопротивлялся и говорил, что подштанники безобразны, она отвечала ему с затаенным злорадством, что в них, надо думать, он ни перед кем выставляться не будет. И так, стало быть, отправляясь к рыжуле, Яромил всегда вытаскивал одни подштанники из комода, прятал их в ящик письменного стола и тайком надевал трусы.
Однако на сей раз он не знал, чем встретит его вечер, и был в ужасно безобразных подштанниках, грубых, вытянутых, грязно-серых!
Вы можете сказать, что это осложнение пустяковое, на худой конец, Яромил мог бы выключить свет, чтобы его не было видно. Но в комнате горела маленькая лампочка под розовым абажуром, нетерпеливо ожидавшая минуты, чтобы осветить влюбленным их любовь, и он даже не представлял себе, какими словами мог бы попросить девушку погасить свет.
Или вы скажете, что Яромил мог бы стянуть мерзкие подштанники вместе с брюками. Но он не знал, как это сделать, ибо никогда так не делал; столь мгновенный прыжок в наготу пугал его; он раздевался всегда постепенно и долго нежничал с рыжулей, оставаясь в трусах, и снимал их только под прикрытием возбуждения.
Итак, испуганно стоя перед большими черными глазами, он объявил, что тоже должен уйти.
Старый поэт чуть было не разгневался: он сказал Яромилу, что ему не следует обижать женщину, и уже шепотом стал расписывать ему блаженство, которое его ожидает; но слова поэта как бы все больше и больше убеждали Яромила в мерзости его подштанников. Он видел прекрасные черные очи и с разбитым сердцем пятился к двери.
Но стоило ему выйти на улицу, как он до слез пожалел о своем поступке; он не мог освободиться от образа прекрасной женщины. Да еще старый поэт (с редактором они расстались на трамвайной остановке и шли теперь вдвоем по ночным улицам) не переставал терзать его, вновь и вновь укоряя в том, что он оскорбил даму и вел себя донельзя глупо.
Яромил сказал поэту, что вовсе не хотел оскорблять даму, но что он влюблен в свою девушку, которая и его до смерти любит.
Вы чудак, сказал ему старый поэт. Как-никак вы поэт, вы любитель жизни, и вы не обидите свою девушку тем, что одарите любовью другую; жизнь коротка, и упущенные возможности не возвращаются.
Было невыносимо все это слушать. Яромил ответил старому поэту, что, на его взгляд, одна большая любовь, которой мы отдаемся целиком, больше, чем тысячи коротких Любовей; что он, обладая одной своей девушкой, обретает в ней всех остальных женщин; что его девушка столь многолика и ее любовь столь бесконечно притягательна, что он может пережить с ней больше неожиданных приключений, чем Дон Жуан с тысячью и тремя женщинами.
Старый поэт остановился; слова Яромила явно задели его; «Пожалуй, вы правы, – сказал он, – но я старый человек и принадлежу старому миру. Признаюсь вам, что хоть я и женат, но с наслаждением остался бы у этой женщины вместо вас».
Поскольку Яромил продолжал выкладывать свои соображения о величии моногамной любви, старый поэт запрокинул голову и сказал: «Ах, возможно, вы и правы, дружище, даже безусловно правы. Разве я тоже не мечтал о великой любви? Об одной-единственной любви? О любви бесконечной, как вселенная? Однако я растранжирил ее, приятель, потому что в старом мире, мире денег и шлюх, великой любви не везло».
Оба были в подпитии, и старый поэт, обняв молодого поэта за плечи, остановился с ним посреди проезжей дороги. Он вскинул руку и воскликнул: «Да сгинет старый мир, да здравствует великая любовь!»
Эти слова показались Яромилу восхитительными, богемными и поэтичными, и они оба долго и восторженно выкрикивали их во тьму Праги: «Да сгинет старый мир! Да здравствует великая любовь!»
Потом вдруг старый поэт опустился на колени перед Яромилом и стал целовать ему руку: «Приятель, преклоняюсь перед твоей молодостью! Моя старость преклоняется перед твоей молодостью, потому что только молодость спасет мир!» Потом он немного помолчал и, касаясь своей плешивой головой колена Яромила, добавил голосом очень меланхоличным: «И преклоняюсь перед твоей великой любовью».
Наконец они расстались, и Яромил очутился дома, в своей комнате. И снова перед глазами всплыл образ красивой женщины, которую он прозевал. Подстегнутый желанием наказать себя, он подошел к зеркалу. Снял брюки, чтобы увидеть себя в безобразных, вытянутых подштанниках; он долго и ненавистно смотрел на свое комичное уродство.
А потом понял, что это не он, о ком думает с ненавистью. Он думал о матери; о матери, которая выдает ему белье, о матери, от которой он должен тайком надевать трусы и прятать подштанники в письменный стол, думал о матери, которая знает о каждом его носке и о каждой рубашке. Он с ненавистью думал о матери, которая держит его на длинном, невидимом шнуре, что врезается ему в шею.
9
С того времени он стал к рыжей девочке еще более жесток; эта жесткость была, конечно, в торжественном уборе любви: как так, что она не понимает, о чем он сейчас думает? Как так, что ей невдомек, в каком он сейчас настроении? Значит, она совсем чужая ему, раз не чувствует, что творится в его душе? Если бы она действительно любила его, как он любит ее, она не могла бы не чувствовать этого! Но она занята вещами, о которых он и слышать не хочет! Ведь она без конца твердит об одном брате и о другом брате, об одной сестре и о другой сестре! Разве она не чувствует, что именно сейчас Яромил занят серьезными делами и нуждается в ее участии, ее сочувствии, а вовсе не в ее вечной эгоистичной болтовне?
Девочка, конечно, защищалась. Почему, например, она не может рассказывать ему о своей семье? Разве Яромил не говорит о своей? А разве ее мать хуже Яромиловой? И она напомнила ему (впервые с тех пор), как его мамочка ворвалась к ним в комнату и стала совать ей в рот кусочек сахару с каплями.
Яромил ненавидел и любил мать; и он сразу же стал защищать ее от нападокрыжули: что плохого втом, если она хотела оказать ей помощь? Это значит, что она любит ее, что относится к ней как к своей!
Рыжуля засмеялась: его мамочка не так глупа, чтобы не отличить любовных вздохов от стонов при желудочных спазмах! Яромил обиделся, замолчал, и девочке пришлось просить у него прощения.
Однажды они шли по улице, рыжуля взяла ею под руку, и они опять упрямо молчали (ибо если они не укоряли друг друга, то молчали, а если не молчали, то укоряли друг друга); и вдруг Яромил увидел, что навстречу им идут две красивые женщины. Одна была помоложе, другая постарше; та, что помоложе, была элегантнее и красивее, но (на удивление!) и та, что постарше, была вполне элегантна и тоже поразительно красива. Яромил знал обеих женщин: более молодая была киношница, а та, что постарше, его мамочка.
Покраснев, Яромил поздоровался. Обе женщины тоже поздоровались с ним (мамочка с показной веселостью), и он в обществе неприглядной девочки почувствовал себя так, словно красивая киношница увидела его в позорно безобразных подштанниках.
Дома он спросил мамочку, откуда она знает киношницу. И мамочка ответила ему с игривым кокетством, что знает ее уже давно. Яромил продолжал расспрашивать, но мамочка все время увиливала от ответа; так, похоже, любовник спрашивает любовницу о какой-то интимной подробности, а она, дразня его, медлит с ответом. Наконец она сказала ему: эта симпатичная женщина пришла к ней две недели назад. Она в невероятном восторге от поэзии Яромила и мечтает снять о нем короткометражный фильм; хоть это будет и любительская съемка, сделанная под патронажем клуба Корпуса национальной безопасности, зато фильму обеспечен весьма широкий круг зрителей.
«Почему она пришла к тебе? Почему не обратилась прямо ко мне?» – удивился Яромил.
Как оказалось, она не решалась утруждать его, но хотела по возможности больше разузнать о нем от матери. Ведь кто так знает сына, как мать? Впрочем. молодая дама так мила, что предложила мамочке вместе с ней поработать над сценарием; да, они совместно придумали (утаив это от Яромила) сценарий о молодом поэте.
«Почему вы ничего не сказали мне?» спросил Яромил, которому связь мамочки с киношницей была инстинктивно неприятна.
«Нам не повезло, что мы встретились с тобой; мы хотели приготовить тебе сюрприз. В один прекрасный день ты пришел бы домой и нашел бы здесь людей с камерой, которым оставалось бы только снять тебя». Что было Яромилу делать? В один прекрасный день он пришел домой и подал руку девушке, в чьей квартире сидел несколько недель назад, и почувствовал себя столь же жалким, как и тогда, хотя на этот раз у него под брюками были красные трусики. С того самого поэтического вечера у полицейских он уже не надевал уродливых подштанников, однако в присутствии киношницы их роль всегда выполняло что-то другое: когда он встретил ее на улице с матерью, ему казалось, что его, подобно гнусным подштанникам, обвивают рыжие волосы его девушки, а на сей раз в шутовское исподнее обратились кокетливые разговоры и судорожная болтливость матери.
Киношница объявила (его мнения никто не спрашивал), что сегодня они отснимут документальный материал; его детские фотографии будут сопровождаться мамочкиным комментарием, ибо (сообщили ему мимоходом) весь фильм задуман как рассказ мамочки о сыне-поэте. Он хотел спросить, о чем мамочка собирается рассказывать, но боялся услышать ответ; покраснел. В комнате, кроме него и двух женщин, возле камеры и двух прожекторов стояли еще трое парней; ему казалось, что они следят заним и мрачно улыбаются; он и слова не осмелился вымолвить.
«У вас прекрасные детские фотографии. Я бы с удовольствием использовала их все», – сказала киношница, листая семейный альбом.
«А они получатся на экране?» – спросила мамочка с профессиональным интересом, и киношница уверила мамочку, что у нее не должно быть никаких опасений; затем она объяснила Яромилу, что первые эпизоды фильма будут представлять собой чистый монтаж его фотографий, которые мамочка за кадром будет сопровождать своими воспоминаниями. Только потом в кадре появится она сама, а следом и поэт; поэт в родном доме, поэт пишущий, поэт в саду среди цветов и, наконец, поэт на природе, в своих излюбленных местах; здесь посреди привольного пейзажа он прочтет стихотворение, которым и завершится фильм.
(«А какое мое излюбленное место?» – спросил он строптиво; и узнал, что он больше всего любит романтический пейзаж в окрестностях Праги, где холмится земля и торчат валуны. «Как так? Я вовсе его не люблю», – отрубил он, но никто не принял его всерьез.)
Яромилу ужасно не нравился сценарий, и он сказал, что хотел бы еще поработать над ним сам; заметил, что в нем много банального (показывать фотографии годовалого ребенка просто смешно!); он утверждал, что желательно было бы сосредоточить внимание на более интересных проблемах; они спросили, какие проблемы он имеет в виду, и он ответил, что не может сказать это с ходу и именно потому хотел бы со съемкой немного повременить.
В самом деле, любой ценой он хотел отложить съемку фильма, да не тут-то было. Мамочка обняла ею за плечи и сказала черноволосой коллеге: «О, вечный мой привереда. Он никогда не бывает доволен…» – а потом наклонилась к его лицу: «Разве это не так?» Яромил не отвечал, и она повторила: «Ты мой маленький привереда, признайся, что это так!»
Киношница сказала, что неудовлетворенность – достоинство авторов, только на этот раз автор не он, а они обе, готовые пойти на любой риск; но пусть он позволит им сделать фильм так, как они его себе представляют, они ведь позволяют ему писать стихи так, как он их себе представляет.
И мамочка добавила, что Яромил не должен опасаться, что фильм каким-то образом унизит его, ибо они обе, и мамочка, и киношница, создают его с величайшей симпатией к нему; она сказала это очень кокетливо, и было неясно, кокетничает она больше с ним или со своей неожиданной приятельницей.
Но, так или иначе, она кокетничала. Яромил никогда не видел ее такой; еще утром она зашла к парикмахеру, и сейчас голова ее была кричаще молодо причесана; говорила она громче обычного, без устали смеялась, острословила, как умела, и с большим удовольствием играла роль хозяйки, угощавшей мужчин-осветителей чашечками кофе. К черноокой девице она обращалась с показной доверительностью подруги (таким образом как бы приравниваясь к ней по возрасту) и одновременно снисходительно обнимала Яромила за плечи, называя его маленьким привередой (тем самым загоняя сына назад, в его девственность, в его детство, в его пеленки). (Ах, какое прекрасное зрелище являют собою эти двое, стоящие лицом к лицу и толкающие друг друга: она толкает его в пеленки, а он толкает ее к могиле, ах, какое прекрасное зрелище являют собою эти двое…)
Яромил сдался; он видел, что обе женщины распыхтелись, как паровозы, и что ему не под силу противостоять их неуемной красноречивости; он видел троих парней у прожекторов и камеры, и они казались ему глумливой публикой, которая освистала бы его при каждом неверном шаге; поэтому он говорил почти шепотом, в то время как дамы отвечали ему во весь голос, дабы публика слышала их, поскольку ее присутствие благоприятствовало им, а не ему. Итак, он сказал, что подчиняется, и хотел было уйти; но они настояли (и опять же кокетливо) на том, чтобы он остался: дескать, ему приятно будет наблюдать за их работой; послушавшись, он то смотрел, как оператор переснимает отдельные фотографии из альбома, то уходил в свою комнату и делал вид, что читает или работает; в мозгу вертелись сбивчивые мысли; он пытался найти что-то привлекательное в ситуации, столь непривлекательной, и ему вдруг пришло в голову, что киношница, пожалуй, придумала всю эту съемку для того, чтобы снова встретиться с ним; и значит, его мать здесь не что иное, как препятствие, которое надо терпеливо обойти; он попытался побыстрее успокоиться и продумать, каким образом он мог бы обратить эту дурацкую съемку в свою пользу, то есть исправить оплошность, которая мучила его с той самой ночи, когда он так опрометчиво покинул квартиру девушки; стараясь превозмочь стыд, он иногда ходил смотреть, как продвигается съемка, чтобы хоть один раз повторилось то их взаимосозерцание, тот их застывший долгий взгляд, который в ее доме так заворожил его; но киношница в этот день была целиком захвачена работой, и их взгляды встречались редко и бегло; отказавшись от этих попыток, он решил предложить киношнице проводить ее по окончании работы.
Когда трое парней стали сносить в фургон камеру и прожекторы, он вышел из своей комнаты. И тут услыхал, как мамочка говорит девушке: «Пойдем я провожу тебя. Впрочем, мы можем еще где-нибудь посидеть».
За несколько послеполуденных часов работы, когда он был заперт в своей комнате, женщины перешли на «ты»! В его мозгу это преломилось так, будто кто-то у него из-под носа увел любовницу! Он холодно простился с киношницей и после ухода обеих женщин ушел и сам; поспешно и раздраженно направился к дому, где жила рыжуля, но ее не было; он ходил по улице около получаса во все более мрачном настроении, пока наконец не увидел, что она приближается к дому; ее лицо выражало счастливое удивление, его – злобный укор; как так, что ее нет дома? как ее даже не осенило, что он может прийти? куда она ходит, если возвращается домой только вечером?
Она не успела и дверь закрыть, как он уже срывал с нее платье; овладел ею, представляя себе, что под ним лежит черноокая женщина; он слышал вздохи своей рыжули, но, видя при этом черные очи, воображал себе, что вздохи эти неотделимы от тех очей, и потому был так возбужден, что обладал рыжулей много раз подряд, но всякий раз не более нескольких секунд. Для рыжули это было столь непривычно, что она рассмеялась; Яромил же, в этот день особо чувствительный к любой издевке, не уловил в смехе рыжули дружеской снисходительности; почувствовав себя оскорбленным, дал ей одну пощечину за другой; она расплакалась, и Яромила это безмерно порадовало, она плакала, а он еще несколько раз ударил ее; плач девушки из-за нас – искупление; это Иисус Христос, который ради нас умирает на кресте; Яромил с минуту наслаждался слезами рыженькой, потом стал их целовать, потом утешал ее и уходил домой уже немного умиротворенным.
Двумя днями позже съемка возобновилась; опять приехал фургон, вышли трое парней (та самая угрюмая публика), и вышла красивая девушка, чьи вздохи он слышал позавчера в комнате рыженькой; и конечно, здесь опять была мамочка, еще более помолодевшая, подобная музыкальному инструменту, который звучал, гремел, смеялся и убегал из оркестра, чтобы играть соло.
На сей раз глаз камеры был направлен прямо на Яромила; требовалось показать его в семейной обстановке, у его письменного стола, в саду (ибо Яромил якобы любит сад, любит клумбы, цветы, газон); требовалось показать его рядом с мамочкой, которая до этого, как мы заметили, на протяжении длинного кадра рассказывала о своем сыне. Киношница посадила их в саду на скамейку и заставила Яромила непринужденно беседовать с мамочкой; репетиция непринужденности длилась битый час, но мамочка ни на миг не утратила бодрости духа; она без устали что-то говорила (о чем они говорят, в фильме не озвучивалось, их немую оживленность должен был все время сопровождать мамочкин комментарий), а обнаружив, что выражение лица Яромила недостаточно приветливое, взялась рассказывать ему, насколько нелегко быть матерью такого мальчика, как он, такого робкого, нелюдимого, вечно сконфуженного.
Потом его посадили в фургон и повезли в тот самый романтический край за Прагой, где, по мамочкиному убеждению, Яромил был зачат. Мамочка была слишком целомудренна, чтобы когда-либо кому-либо поведать, почему этот пейзаж для нее так дорог; она не хотела об этом говорить, но говорить ей все-таки хотелось, и сейчас она с надрывной двусмысленностью во всеуслышание сообщала, что именно этот пейзаж всегда для нее лично значил пейзаж любви, пейзаж по преимуществу необыкновенно чувственный:
«Вы только обратите внимание, как здесь холмится земля, как она напоминает женщину, ее округлости, ее материнские формы! Обратите внимание и на валуны, на эти блуждающие валуны, что торчат здесь в одиночестве! Нет ли в этих валунах, торчащих, стоящих, возвышающихся валунах, чего-то мужского? Не пейзаж ли это мужчины и женщины? Не эротичен ли этот пейзаж?»
Яромила одолевало желание взбунтоваться; он хотел сказать им, что их фильм – полная белиберда; в нем росла гордость человека, знающего, что такое хороший вкус; возможно, он был готов устроить даже маленький, незадачливый скандал или по крайней мере убежать, как убежал когда-то из влтавской купальни; но на сей раз не получалось; здесь были черные очи киношницы, и он чувствовал себя бессильным против них; боялся потерять их во второй раз; эти очи отрезали ему путь к бегству.
Затем его приставили к какому-то огромному валуну, где он должен был прочесть свое самое любимое стихотворение. Мамочка была в высшей степени возбуждена. Как давно ей не приходилось бывать здесь! Именно на том месте, где в давнее воскресное утро она отдавалась любви с молодым инженером, стоял сейчас ее сын; словно он вырос здесь годы спустя, как гриб (ах, именно так, будто в том месте, где родители бросили семя, как грибы рождаются дети!); мать пришла в восхищение, глядя на этот странный, прекрасный, невероятный гриб, читавший дрожащим голосом стихотворение о том, что он хотел бы умереть в пламени.
Яромил чувствовал, что читает плохо, но ничего не мог поделать; он убеждал себя, что он совсем не робкого десятка, что тогда на вечере у полицейских он читал мастерски, с блеском; но сейчас – полный провал; поставленный у нелепого валуна на фоне нелепого пейзажа, в страхе, что мимо пройдет какой-нибудь пражанин, выгуливающий собаку или нежно держащий под руку девушку (надо же, он был озабочен теми же мыслями, что и его мамочка более двадцати лет назад!), он не мог сосредоточиться и все слова проговаривал затрудненно и неестественно.
Они заставляли его вновь и вновь повторять свое стихотворение и наконец сдались. «Мой неисправимый трусишка, – вздыхала мамочка, – еще в гимназии он дрожал перед каждым экзаменом, сколько раз мне приходилось буквально выталкивать его в школу, такой сидел в нем страх!»
Киношница заявила, что стихотворение мог бы прочитать в последующем дубляже какой-нибудь актер, а Яромилу у валуна, пожалуй, достаточно будет лишь бессловесно открывать рот. Так и сделали.
«Святый Боже, – потеряв терпение, кричала на него киношница, – открывайте рот в точном соответствии со словами стихотворения, а не так, как вам заблагорассудится. Актер должен все наговорить на движения ваших губ!»
Итак, Яромил, стоя у валуна, открывал рот (послушно и точно), и камера наконец зажужжала.