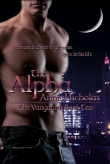Текст книги "Сладкий роман"
Автор книги: Мила Бояджиева
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
В 1943 году немецкой торпедой был потоплен корабль, на котором Штоффены отправили в Америку с друзьями и гувернанткой двоих своих сыновей – девятилетнего Хельмута и семилетнего Юргена. А через два года барон был застрелен неким человеком, любившим баронессу... Его звали Теофил Ленцер, он обладал слабым зрением и не мог воевать... Говорят, что вся дворня собиралась под окнами, когда господин Ленцер играл на этом рояле, а баронесса пела... У неё был очень хороший голос и до замужества, как рассказывала мама, Клавдия мечтала об оперной сцене...
Часто слышали, как она пела на Башне, надеясь, что звуки уносит ветер...
– Неужели, Труда, этот подслеповатый музыкант Теофил убил барона? Как-то странно...
– Да, господин Штоффен вызвал его на дуэль и нарочно встал прямо под пулю. Он, вероятно, надеялся, что госпожа Клавдия обретет счастье с другим... Ведь она была на пятнадцать лет младше мужа.
– Вряд ли, – задумалась Дикси. – Скорее всего, своей смертью Герхардт хотел убить их любовь.
Труда пожала плечами:
– Все это уже никогда не прояснится... Но, говорят, что Клавдия вовсе не любила господина Ленцера. Поэтому сразу после дуэли он пытался убить себя. Как-то неудачно. Три дня лежал здесь с развороченным животом и не мог умереть. Просил в бреду, чтобы Клавдия пела... Страшная история... Бедняжка баронесса – сразу два гроба! Я слышала, то она и сама едва пережила все это... Такая несчастная судьба.
– Довольно, Труда. Расскажешь в другой раз.
– Да больше, вроде, и нечего. Баронесса часто доставала свадебное платье, в котором венчалась с господином Штоффеном. Ему было 33, а ей восемнадцать...Она плакала здесь одна, опустив шторы, а иногда играла... Подолгу играла, до самого рассвета...
... "Кого оплакивали вы, тетушка Клавдия? – Дикси посмотрела в дерзкое лицо на портрете. – Героического супруга или незадачливого музыканта? Придется выбирать версию по вкусу. И я догадываюсь: кажется, баронесса оплакивала себя – то, что не сумела уйти первой".
Но в комнатах баронессы витала подлинная, какая-то нелепая скорбь, несовместимая с их нарядной, кокетливой жизнерадостностью.
Владелица выпорхнула отсюда, позвав за собой Дикси. Письмо, это её письмо... Дикси перечла его дважды, а потом, отпустив Труду, достала подвенечное платье Клавдии. Пожелтевшие брюссельские кружева, множество кропотливых мелочей – вставок, вышивок, серебряного и стеклярусного шитья. Целомудренно закрывающий шею стоячий воротничок и подозрительно узкая талия, рассчитанная, видимо, на корсет. А, впрочем, – невесте ведь было всего восемнадцать... Выскользнув из своих одежд, Дикси шагнула в облако старых кружев, дохнувших ароматом сладких, увядших цветов. Ее руки слегка дрожали, застегивая узкие манжеты и воротничок. А корсаж на спине не стягивался, оставляя узкую прореху. Обнаружив широкий атласный пояс, Дикси обернула его вокруг талии два раза и завязала концы спереди.
Подхватив фату из нежного газа – измятого, пожелтевшего, едва не рассыпающегося – она приблизилась к зеркалу... "Вот так выглядит Дикси, обрядившая себя для последней роли. Театр, конечно, театр... А то парижское платье, предназначавшееся для свадьбы с Алом – из шелестящей лазурной тафты с узким декольте, доходящим чуть не до пупка, с золотым житьем и алмазными стразами – разве оно было настоящим? Вряд ли. Просто реквизит из другого спектакля. Наверняка, более веселого...
"Лишь только смерти дано подарить любви вечность", ? прочла она ещё раз письмо Клавдии, подчиняясь гипнотической власти её слов. Все встало на свои места: не мелочная ревность обманутой влюбленной жаждала меси. Вечная Любовь, озарившая избранницу-Дикси молила о спасении. Ради нее, стремящейся к бессмертию, ради Майкла, запутавшегося в житейской пошлости, приговаривала себя Дикси к уничтожению...
Она достала магнитофон и нажала кнопку. В бело-голубой комнате нежно запела скрипка... "Маэстро Луи Карно услышал в этой музыке весеннее дуновение, ликование юного счастья. Так и писал её Майкл, когда думал, что любит меня. Теперь он сочинит другой финал, с черными звуками, вороньем кружащим над смертью".
Папку с нотами "Dixi de Visu" она положила у портрета Клавдии. Здесь, вместе с письмом, которое она сейчас напишет, её найдет Михаил Артемьев, получив завещание. А может быть, раньше, прибыв на траурную церемонию.
Волнение, охватившее Дикси, перешло в крупную дрожь. Рыдание и смех подступали к горлу одновременно. Только не думать о камнях, которые раздробят упавшее на них тело. Говорили, что одна престарелая парижская дива, сиганувшая в пролет лестницы своего шикарного дома, предусмотрительно привязала к лицу подушку, заботясь о том, чтобы выглядеть в гробу достаточно привлекательно.
"Мною некому любоваться. Похороны будут совсем скромными и я ничего не имею против прикрывающей гроб крышки. – Язвительно думала Дикси, стараясь разжечь злость. – А уж сколько будет роз! Наконец-то они придутся кстати". Дикси даже удалось засмеяться, вспомнив прячущегося за огромным букетом Курта Санси. Почему ужасное так любит компанию пошлого или идиотски смешного? Наверно, оно торопится спрятать за их широкую неопрятную спину что-то по-настоящему ценное... Как Гамлет, философствующий над черепом Йорика...
Почти успокоившись, Дикси села за резное бюро Клавдии, и чувствуя себя героиней старой трагедии – в пожелтевших кружевах и высохшем флердоранже обмакнула перо в фарфоровую чернильницу. Ее ни на секунду не удивило, что чернила оказались свежими, а гусиное перо, неизбежный реквизит к историческому спектаклю, хорошо очиненным.
"Я не оставляю портретов, не отправленных писем. Этот листок единственное, что я хочу подарить тебе, – писала Дикси.
Я люблю тебя, Микки. Со всей силой, данной мне в этой жизни. Наверно, эта боль и восторг, это пьяное слепое безумие и невероятная острота чувств, которые я узнала с тобой, и есть любовь. Моя вечная любовь.
Теперь я хочу гордо уйти, разбив твое сердце. Ох, как мечтаю я о кровоточащем, истерзанном сердце, о рыдающей обо мне скрипке...
Ты – большой мастер, Микки... Я хотела написать "мой". Я хотела бы твердить "мой" – изо дня в день, за годом год, – вечно, всегда, – мой Микки, мой, мой..." Но ведь так не бывает. Так просто не может быть..."
Письмо не получалось, Дикси хотелось плакать, кричать, звать на помощь. Пусть придут, утешат, отговорят... Но лишь колебалось пламя свечей от дуновения нежных, едва касающихся этой жизни звуков – скрипка звала и молила о чем-то...
С портрета мудро и печально смотрела юная Клавдия.
"Прости, – обращалась к ней Дикси. – Твоим домом будет владеть другая, более счастливая. Русская женщина Наташа – добросердечная, голосистая и тоже – голубоглазая. Она сумеет сделать память Майкла обо мне вполне переносимой, как боевое ранение, с которым можно жить, иногда хвастаясь им, а порой пропуская от тоски горькую чарочку...
Пусть ему живется долго, а печаль будет светлой, мучительно звонкой, какой умеет быть его скрипка".
Прихватив подсвечник, она вышла в темный коридор, оставив в комнате Клавдии поющую скрипку. Знакомый путь – совсем недавно они летели здесь вдвоем, обезумевшие от счастья, – к воле, к небу, к распахнутой для них Вселенной...
Под босыми ногами мягкие ковры, грубые дорожки и вот – холодные каменные плиты. Музыка уже едва слышна. Дикси останавливается, чтобы забрать с собой последние, исчезающие звуки... Прислушивается, затаив дыхание... Вот они – молящие, живые, летят вслед. Нет, музыка впереди, манит, указывает путь...
Похолодев от волнения и страха, она двинулась за скрипкой, как ночной мотылек к огню костра. Все ближе, ближе...
Дверь в башенный колодец открыта, ступни обжигает ледяной металл, кружево цепляется за ржавые болты, горячий воск свечей стекает на помертвевшие пальцы. Подобрав подол, она устремляется вверх, почти незрячая, почти неживая, с замершей, холодеющей кровью, представляя лишь то, как взметнется в ночной черноте белое облако фаты, провожая её последний полет...
В висках бьется, пульсирует музыка – она заполняет собой все. Выше, выше – к черноте ночи...
Белая фигура под звездным куполом кажется огромной. Светлый человек склоняется к Дикси, отбросив скрипку, подхватывает на руки... И снова она слышит, как невероятно близко колотится его сердце...
Придя в себя, Дикси смеялась и плакала. Лила слезы ручьями за всю бесслезную жизнь, за все то, чем обманула и наградила её она. Промокла белая рубашка Майкла, носовые платки, край одеяла, в которое он завернул Дикси – а слезы не унимались. Видимо, растаял огромный айсберг.
– Не уходи! – вцепилась она в его белую рубашку. – Это невероятно теплый, живой... Мой Микки!
Он осторожно освободился от тонких рук и, прильнув к мокрой щеке, тихо шепчет:
– Подожди, я сейчас, девочка.
Затем исчез и сквозь не унимающиеся слезы Дикси оглядела его комнату. Догорающая свеча и листы на столе. Ноты? Нет. Кажется, Майкл писал письмо.
Он вернулся со скрипкой и сел возле неё на кровать.
– Я оставил свою верную подружку на Башне и чувствовал себя бессильным. Потрогай – она такая хрупкая.
Дикси осторожно прикоснулась к деревянному тельцу, поразившись его невесомости. Значит, в этом чреве рождаются бесплотные и могучие звуки.
– Вот слушай, дорогая! – Он протянул руку и скрипка сама прильнула к плечу, став частью его существа.
Весенней свежестью обрушился на Дикси поющий, щебечущий, ликующий голос. Будто кто-то сыпал и сыпал гроздья влажной, душистой сирени, заполняя ими комнату, необъятную, распахнутую чудом душу.
– Ты давно в Вальдбрунне, Микки?
– Почти сутки.
– Почему мне никто не сказал, что ты здесь?!
– Я приехал вчера на рассвете и просил Рудольфа молчать о моем прибытии... У меня были иные планы... – Он быстро собрал со стола исписанные листы и спрятал их в ящик. – Меньше всего я предполагал встретить здесь тебя... Хотя больше всего на свете хотел именно этого.
Майкл укутал Дикси одеялом до самого подбородка и, прижав концы руками, склонился над ней, пристально всматриваясь в глаза:
– Скажи только одно, Дикси... – он понизил голос до шепота. – Мы никогда не расстанемся?
– Никогда. – Для убедительности она помотала головой и крепко зажмурилась, потому что не могла достать из-под одеяла рук, чтобы обнять его.
– Так тому и быть.
Серьезно, веско, будто ставя печати, Михаил прикоснулся губами к её лбу, вискам, щекам, носу и, наконец, закрыл поцелуем глаза.
– Спи. Мы непременно будем счастливы. Как никто никогда на свете. Прямо с завтрашнего дня. Нет, – с сегодняшнего. Спи, девочка, наше время уже началось.
Они проснулись в обнимку одновременно, проспав долго и невинно, как щенки в лукошке. И сразу поняли, какое оно – счастье.
Дни шли, телефоны молчали, леса нежились под мягким осенним солнцем или мокли в проливном дожде качая верхушками елок. В вазах менялись свежие цветы, а на столе – отменная пища.
– Я сразу смекнул, что к чему, – заметил довольный Рудольф, когда хозяева объявили о своей помолвке. – Давно в этом доме не было праздника.
Рояль, клавесин и скрипка стали друзьями, свидетелями, советчиками влюбленных. Они грустили и ликовали вместе с ними, вдохновляя на фантастические и абсолютно реальные планы. Как стало реальным в их новом мире любое чудо – все, что они делали вместе.
Порой они казались себе мудрыми и сильными, способными свернуть горы. Порой – беспомощными, наивными, как размечтавшиеся в планетарии школьники. Всю свою короткую, фантастически нелепую историю от первого до последнего мгновения влюбленные обсуждали без конца, находя в ней новые трогательные подробности, многозначительные детали и необъяснимые совпадения.
"– Я не мог понять, как жить дальше после того, как там, в аэропорте, потерял из виду твою спину. Не за что было зацепиться – все рушилось и осыпалось под моими пальцами. Ты сказала, что выходишь замуж... И вскоре я понял, что просто-напросто умираю. – Рассказывал Майкл. – Натурально, физически. Однажды сын спросил:
– Что-то не так, па?
– Я должен оставить семью или сойти с ума.
Я рассказал Саше все.
– Ничего нового ты не придумал. Ступай на свободу, старик. Я даже не буду считать тебя очень уж виноватым. Обычная дребедень... О матери не беспокойся. В оркестре я получаю уже прилично – с голоду не помрем. Заверил меня мудрый сын.
Я опустил глаза, избегая смотреть на него:
– Увы, – я не был кормильцем. Но добрая фея Клавдия позаботилась о нерадивом лабухе. Счет в швейцарском банке, доставшийся от неё по наследству, я переведу на вас. Это будет больше, чем если бы всем нам дали Государственную премию.
Разговор с женой вышел тяжелый. Наташа ушла жить к матери. И тут я получил красивый заграничный конверт, а в нем – приглашение на свадьбу в Лос-Анджелес, с точной датой и, главное, с твоей подписью, Дикси. Молчи, я не брежу. Ох, как скрутила меня боль! Я взбесился от злости, от горечи утраты и даже попробовал пить. По требованию сына домой вернулась Наташа с героической акцией помощи "бывшему мужу" и тайной надеждой наладить жизнь. В этот самый момент к нам и явилась нежданно парижская гостья. И с лету заявила о правах взаимной любви. Ты – чужая жена!
Это невозможно было понять... Я проходил под дождем всю ночь, оплакивая свою жизнь – нелепую, неудачную шутку.
Я понял, что никому не нужен и не нуждаюсь ни в ком. Ощущение свободы окрыляло и холодило, как курок у виска. Меня понесло: я пил и пил, чтобы перестать чувствовать...Смычок не слушался моей дрожащей руки. Это означало конец. Но я же артист, Дикси, всю свою жизнь я примерял на себе мироощущение великих: я перевоплощался в Моцарта, Бетховена, Паганини... Я не мог позволить себе скончаться в вытрезвителе или на трамвайных рельсах... И в середине сентября я получил письмо от твоего адвоката, просившего меня прибыть в Вену в связи с подготовкой брачного контракта мадмуазель Девизо. То самое, в котором ты предлагала мне обдумать вопрос о продаже своей части имения твоему будущему мужу, дабы не делить дом с сомнительными русскими родственниками... Мадмуазель Дикси Девизо назначала мне встречу 30 сентября в десять утра в известной господину Артемьеву гостинице "Соната"...
– Майкл! Ты с ума сошел! – Опешила Дикси.
– Сошел. Словно во сне оформил необходимые документы, завещая свою долю владений в Вальдбрунне мадемуазель Дикси, а деньги – жене и сыну. Встреча с невестой Алана Герта должна была состояться на следующее утро. Но сидеть одному в гостинице, где прошла наша первая встреча, было выше моих сил. Смутно соображая, куда толкает меня провидение, я прибыл сюда.
– Но ведь я ни о чем не просила адвоката! Майкл, я босила жениха и я тоже составила завещание!.. Я оставила Вальдбрунн тебе... И меня тоже подмывало устроить эффектное прощание с жизнью. Актриса! Все время из кожи вон лезу, что бы получше выглядеть "в кадре". Словно Господь – верховный режиссер, запечатлевающий наши пути на пленке. – Она покосилась на поникшую в кресле фату Клавдии с засохшим веночком флердоранжа. – Все-таки это получилось слишком театрально...
Майкл крепко сжал щеки Дикси в ладонях, чтобы не дать ей возможности спрятать глаза.
– Ты собралась сыграть грандиозную финальную сцену? Ведь так, Дикси? Мы думали с тобой об одном и том же!
– Микки! – Дикси судорожно прижалась к его груди. – Ты хотел уйти? Уйти совсем...
– Составив завещание, я примчался сюда – жалкий, затравленный сумасшедший... Заперся в комнате, засунул за пазуху шарф, пахнущий твоими духами. Тот самый, что с формулой любви на лазурном поле... Зажег свечи и стал писать веселый реквием по своей фарсовой Великой любви. И тут мне на глаза попало вот это письмо. Посмотри, – оно лежало на письменном столе в моей комнате, придавленное пресс-папье вместе с прочими деловыми бумагами, касающимися имения.
Дикси взяла в руки плотный конверт, адресованный бароном "Наследнику моего дома и состояния", и датированное сентябрем 1945 года.
– "Далекий неизвестный друг, – писал Герхардт фон Штоффен. – Это обращение в неизвестность – скорее вопль души, разговор с самим собой, желание отстоять свою правоту.
Завтра меня не станет. Я сделаю последний шаг сам. Мне пятьдесят пять, я бодр и полон сил. Единственная женщина моей жизни – её смысл и Божество, принадлежит другому.
У меня нет сыновей и я не обзавелся другом, чтобы вверить ему мою тоску и мою мудрость. Жизнь прожита и теперь я могу сказать, что играл чужую, несвойственную мне роль. Увы, я не герой, я – "возлюбленный", созданный для того, чтобы любить и быть любимым. Так решено кем-то свыше.
Свой путь я должен пройти до конца – до последней ступени Белой башни, до её барьера, за которым распахнется Ничто.
Пусть живет светло и долго мой синеглазый Ангел. Пойми меня..."
– Как?! – Дикси прервала чтение, недоуменно вертя в руке листок. – Это не мог писать муж Клавдии! Герхардт Штоффен погиб на дуэли в год своего пятидесятилетия. Он никогда не падал с Башни!!!
Она передала Майклу рассказ Труды о дуэли барона и протянула ему письмо Клавдии.
Пробежав послание баронессы, Майкл задумчиво свернул листок:
– Спасти любовь смертью – хорошая идея! Мне кажется, писавшему очень хотелось найти в твоем лице её приверженца... Не скрою, прочтя исповедь барона, я чувствовал то же самое... даже написал тебе... Я написал тебе, девочка, прощальное письмо. Мне не хотелось мстить, я собирался убить свою любовь... Надел чистую рубашку, как солдат перед боем, и поднялся на Башню, чтобы сыграть последний концерт...
– Мы словно избавились от колдовских чар, Микки. Твоя музыка расколдовала нас – я шла на её зов, нет – неслась, летела... И вместо объятий смерти попала в твои... Постой! Кто же прислал тебе извещение о моей свадьбе, ведь день ещё не был назначен... И я никогда не совершила бы подобного. – Дикси сжала виски. – Не понимаю! Здесь, наверно, полно привидений...
– А скорее всего, искателей наследства, – пробормотал Майкл, глядя перед собой невидящими глазами, словно и впрямь увидел призрак.. – Заметь, нас обоих толкали к Башне... Нас хотели убить и лишь на минуту просчитались во времени. Я ведь думал, что мы уже на небесах... Представь: сумасшедший музыкант, весь натянутый, как струна, вот-вот готовая лопнуть... Измученный, смятенный, полный видений и образов – уже нереальных, уже потусторонних, бредовых, но всегда – насквозь просвечивающих тобой... И белая фигура, выросшая из темноты... Уф... – Зажмурившись, Майкл замотал головой, отгоняя воспоминания.
Оба посмотрели на полученные в ту страшную ночь письма.
– Мне кажется, эти листки могли бы заинтересовать следователя.
– Лучше поскорее все забыть. Давай избавимся от этой чертовщины. Дикси бросила в огонь письма Герхардта и Клавдии.
Когда кочерга разметала оставшуюся от бумаг горсточку пепла, им действительно стало легче.
Однажды Дикси рассказала Майклу о Чаке и Але, а также о том, как отчаявшись прорваться в "большое кино" снималась в весьма откровенных фильмах. Вот только о "фирме" умолчала. Этот эпизод остался единственной запертой дверью её прошлого – той, ненужной, чужой, в сущности, жизни, что прошла без Майкла.
– Ты любил совсем другую женщину, музыкант. – Рассказав о наркотиках и связи с Ларри, Дикси не могла смотреть в глаза Майклу.
Они сидели у реки на скамеечке Клавдии, наблюдая, как шныряет в камнях выводок бойких утят.
– Я люблю и всегда любил тебя. – Твердо проговорил Майкл. – Ты же не виновата, что все время искала меня, а я никогда не мог найтись. И сам потерялся. В семье я был совсем другой – плохонький, в общем-то, человечек... Наверно, Наташа достойна лучшего.
– И ты тоже, Майкл. Ух, как хотелось бы сейчас отмыться от всего – от глупостей, легкомыслия, злости, тщеславия, грязи... Забыть о Чаке и Але, о гнусных фильмах Эльзы Ли...
– Ни в коем случае, Дикси! Пойми – ты нужна мне именно такая. С твоими метаниями, радостями, ошибками, победами. Ты – это ты.
– Ты и вправду не ревнуешь к моему прошлому?
– Да я содрогаюсь от ужаса! От страха за тебя и от стыда, что не мог догадаться, услышать призыв о помощи. Ведь твоя попытка с флакончиком снотворного... Жуть!.. Мы могли никогда не встретиться. – Он посмотрел на сжавшуюся Дикси так, словно видел её после долгой разлуки. – Иди ко мне и перестань бояться... Грязь ? это совсем другое, Дикси... Как тебе объяснить? Нравственное чувство – это что-то вроде музыкального слуха. Фальшь есть фальшь. Что бы ты не играла – Бетховена или детскую песенку... Ты не способна совершить гнусность – у тебя безошибочное чутье к подлинности, Дикси... Тебя можно обмануть, но заставить совершить нечто противоречащее твоей совести невозможно.
По спине Дикси пробежали мурашки – на секунду ей показалось, что Майкл узнал о её контракте. Но он обнял её и прижал к груди:
– Эх, одно только нестерпимо жаль – ведь мы могли бы встретиться раньше...
– Ну, хотя бы всего на полгода, Микки!
Октябрь близился к концу, а значит, истекал срок злополучного контракта. Дикси считала дни: неужели провидение простило её, сохранив страшную ошибку в тайне?
Как-то поздно вечером, воспользовавшись минутной отлучкой Майкла, взявшегося собственноручно приготовить поздний ужин, Дикси набрала номер Сола.
– Привет, ты где? – прохрипел он с видимым усилием. – Меня совсем залечили. Плюс ко всему – жуткое воспаления легких. Грозят упрятать в больницу.
– Кто же работает вместо тебя... с "объектом"?
– Знаешь ведь – Соломон Барсак незаменим! Здесь болтают, что твоя свадьба не состоялась, что так?
– Сол, как-нибудь я навещу тебя, надеюсь, не в больнице, и все расскажу сама. А сейчас, извини, мне надо торопиться. Будь умницей, не хандри...
"Ну, значит, все в прошлом... В чужом, безобразном прошлом", – с облегчением вздохнула Дикси, решив, что про "фирму" и Сола наконец-то можно забыть.
Майкл с улыбкой слушал магнитофонную запись его сочинений.
– Ты так растрогала меня, девочка! А этот Карно – совсем неплохой музыкант. Я бы взял его в свой оркестр.
Они часто мечтали, что Артемьев соберет виртуозов, забрав кое-кого из России, а главное, – Сашку, ставшего отличным пианистом.
Однажды "Прогулки над лунным садом" будут играть в Венской Опере. Дикси сядет в ту самую ложу, где они слушали "Травиату", а в финале ей придется подняться на сцену, чтобы забрать часть заваливших сцену букетов. Микки подтолкнет её вперед – в свет рампы и шквал аплодисментов. Публика устроит овации, стоя выкрикивая многоголосое "браво!". Оркестр сыграет ещё что-нибудь из "тетради Дикси" и вновь прогремят аплодисменты, а на усах старого капельмейстера заблестит счастливая слеза...
– Ты не знаешь, какой сегодня день? А число, месяц? – спрашивала Дикси, ожидая услышать недовольное рычание Майкла:
– Прекрати! Мы живем в другой системе координат. Когда появится солнце, выйдем на прогулку, лишь проголодаемся – потребуем еду. А Вену навестим по первому снегу – начнется деловой сезон – оформление развода, заключение контракта... Весной состоится свадьба – самая роскошная в этих краях.
– Как же мы узнаем весну?
– Очень просто. Прямо под окнами, как сообщил Рудольф, газон с крокусами. Они первые пробивают лиловыми и белыми головками снежную крышу. Вместе с ними начнем пробиваться к солнцу и мы.
– Ах, Микки, ты специально придумал такой календарь, чтобы отложить дела. Снега здесь вообще, наверно, не бывает. А значит, по-твоему, зимы... Но вот зато цветов – море. И значительно раньше, чем в Москве.
Хозяева гуляли по своим владениям, держась за руки, наряженные, как для сцены. Дикси в голубом песцовом палантине Клавдии, завещанном ей в личное пользование. Майкл – в длинной шинели стального сукна, относящейся к эпохе Австро-Венгерской империи, и будто извлеченной из театральной костюмерной. Но Майклу шинель нравилась, он уверял, что чувствует в ней себя русским поэтом Лермонтовым, убитым на дуэли в прошлом столетии.
Действительно, барон Артемьев выглядел очень романтично – поднятый воротник, обшитый по краю тускло-серебряным галуном, и длинные, как на бетховенском парике, темно-медные пряди, которыми охотно играл ветер. Майкл носил белые лайковые перчатки (тоже из замковой "костюмерной"), согревая свои тонкие, зябнущие от бездействия пальцы. Каким же неотразимым казался он "баронессе"!
Пошептавшись с Рудольфом, она получила однажды то, что хотела новенький "Полароид" с огромным запасом кассет. Теперь можно было ловить мгновения, запасаясь картинками на будущее. Чаще всего Дикси снимала Майкла тайком, так как он продолжал считать себя отвратительно нескладным даже после появления её фотошедевров. "Наедине с клавесином" – босой Маэстро, в накинутой на голое тело шинели сосредоточенно "принюхивается" к извлекаемым звукам крупным внимательным носом. "Пигмалион и Дикси" – склонив голову и слегка прищурив каштановые глаза, он смотрит на возлюбленную с гордым восхищением, словно только что завершил труд по "вылепливанию" лежащего перед ним в позе рембрантовской Венеры розового тела.
Не хватало "спящего Маэстро" и, наконец, случай улыбнулся Дикси. Проснувшись, она тихонько выскользнула из объятий. Упавшая рука Майкла нащупала лежащую всегда рядом скрипку и прижала её к щеке. Он счастливо улыбался, свернувшись калачиком у погасшего камина в обнимку со своим сокровищем. Растопыренные пальцы бережно и жадно обнимали затейливо выгнутые бока "деревянной подружки".
Дикси отошла к окну, чтобы точнее "взять" кадр, но тут же ахнула, припав к подоконнику.
– Микки... – не оборачиваясь позвала она. – Милый...
Он мгновенно проснулся от необычной интонации её голоса и подойдя, обнял Дикси за плечи.
– Что же, значит, пора... Сезон борьбы за наше сказочное будущее объявляю открытым!
Перед ними расстилался совсем иной мир – притихший, холодный, тщательно выкрашенный за ночь снежной краской.
После завтрака, выслушав недоумения Рудольфа по поводу неожиданного снегопада, бывшего последний раз в эту пору накануне Первой мировой войны, хозяева поднялись на Башню. Холмы, поляны, леса, ещё не сбросившие листвы, покорно приняли тяжесть влажного снежного покрывала. Кое-где пробивалась яркая, недогоревшая крона ясеня или клена, темные ветки елок серебрила седина. Лужайки и газоны парка, спускавшиеся к свинцово-блестящей реке, светились матовой белизной. Пустота, чистый лист, на котором предстоит начертать свою новую судьбу – прекрасную небывалую мелодию.
– Ну что ж, пора просыпаться, радость моя. Пора начинать бой.
От пронзительных порывов влажного ветра, несущего над их взлохмаченными головами и над всем продрогшим миром рваные клочковатые облака, от страха и восторга, предшествующих всякой праведной битве, они крепко обнялись. И стояли долго, как на перроне у отбывающего поезда. Из-за суконного плеча Майкла Дикси увидела мелькнувший внизу световой зайчик и обмерла, не в силах ни закричать, ни заплакать. Перед глазами мгновенно вспыхнуло чужое, ненужное воспоминание: сплетенные на золотом песке южного острова обнаженные тела, следящий за ними из-за кустов объектив Сола. Зеркальный отблеск, залетевший издалека, шальная пуля, устремленная в сердце.
Дикси спрятала лицо в теплый шарф на груди Майкла, пахнущий таким летучим, таким ненадежным счастьем.
– Не отпускай меня, Микки. Никогда не отпускай!
Он изо всех сил прижал её к себе и почему-то, наверно оттого, что от любви и нежной жалости перехватило дух, подумал: "Вот так бы и умереть – не разъединяя слившихся губ".
– Итак, мы выходим к финалу. Сегодня двадцать пятое октября – редкое везение! Могу признаться, что впервые укладываюсь в сроки. Хотя толкусь на режиссерскй делянке чуть ли не три десятилетия. Руфино, ты помнишь мой первый фильм? – Шеф начал выступление перед членами Лаборатории в каком-то элегическом тоне.
– "Голубые слезы". 1957. Студия Лоренса, убытки три миллиона... – с готовностью, компьютерным голосом дал справку Руффо Хоган.
– Довольно, довольно! – с досадой остановил его шеф. – Достоинства истинного интеллектуала определяются не возможностями профессиональной памяти, а умением вовремя забывать ненужное.
– Я как раз собирался подчеркнуть, что не только "Голубые слезы", но и три последовавшие за ними ленты начисто выпали из обстоятельных описаний твоих творческих достижений, Заза. Не без моей помощи все твои биографии начинаются с триумфального "Выстрела в спину".
– Это урок для всех. – Шеф ледяным взглядом обвел присутствующих. Вам придется кое-что хорошо запомнить, господа, и кое-что забыть после того, как наш фильм наделает шуму.
– Постучите по дереву, шеф. Вся соль в финале, который ещё предстоит снять, – напомнил продюсер.
– Коротко опишу ситуацию тем, кто в силу своей занятости не смог следить за развитием "импровизационного стержня" нашего сценария. – Руффо обратился к молчаливо отсиживающей группе "технарей". – Мы сделали попытку вывести действие к финальной прямой. Как известно, наши герои расстались. Москвич, как у них водится, запил горькую, опустившись до свинского состояния, француженка затеяла истерическую возню вокруг подготовки собственного самоубийства. Составила завещание, записала музыку Артемьева в исполнении уличного бродяги и заявила о своем желании посетить напоследок Вальдбрунн. Очевидно, для последней встречи и разрыва с русским. Мы приняли все это за чистую монету и поспешили опередить события. Письма, подброшенные нами в замок для его неудачливых хозяев, имели намерение помирить и сосватать эту пару, что нам и удалось. "Группе слежения" посчастливилось заснять поэтические сцены на верхушке Башни, сдобренные изрядной долей высокопробной эротики.
– На мой непросвещенный взгляд, эксперимент не слишком удался. Заявил Квентин. – Помнится, кто-то здесь обещал убойные кадры.
Продюсер с вызовом посмотрел на шефа.
– Да, мы намеревались сделать шаг по целине и общими усилиями мы сделали его. После того, как Соломон Барсак выбыл из игры, я схватился за голову. Но незаменимых людей, к счастью, нет... Вот так и меня когда-нибудь спишут на свалку... – Шеф мрачно осмотрел компаньонов и скомандовал в механику: "Прокрутите в темпе последний ролик. Я хочу убедить уважаемого спонсора, что его деньги потрачены не впустую".
В комнате погас свет и на экране зашумел ветвями клен над могилой капитана Лаваль-Бережковского, в сени которого носатый скрипач затянул "Ave, Maria".
– Дальше, дальше! – скомандовал шеф. – Во... Чудесно. Я готов смотреть волнующую сцену снова и снова. Разве это не убедительное доказательство моей изначальной идеи, которую кое-кто из вас считал бредовой? Какая выразительность в нарочитой статичности, какая необычная, невозможная для нормального кино игра планов! Смело и необычайно трогательно! Честное слово, этот жадный секс на верхушке Башни, под ночным небом... Это обреченное неистовство двух зрелых, слившихся в любовном экстазе людей! Нет – в экстазе Любви! Белые колени, поднимающиеся из-под черного платья, этот фрак! Изысканно, чертовски изысканно! Смотрите! Вы когда-нибудь видели секс во фраке? Нет, естественно, не в комедии. Предполагали, что мужчина без штанов и в "бабочке" выглядит смешно? Ничуть. Этот парень сделал невозможное – трагедия и фарс в полном масштабе! Уверен, он переплюнул бы самого Дастина Хоффмана, если бы сообразил сменить профессию.