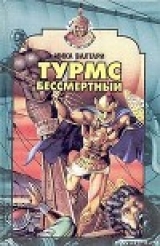
Текст книги "Турмс бессмертный"
Автор книги: Мика Тойми Валтари
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Книга VII
Сиканы
1
Итак, сиканов мы встретили возле их священного камня. Они доброжелательно сообщили, что ожидали нас, наперед зная о нашем прибытии. Будь мы подозрительны, мы могли бы подумать, что их юноши шли по нашим следам: ведь сиканы умели совершенно бесшумно передвигаться в здешних лесах. Но, с другой стороны, сиканы славились способностью к ясновидению: они всегда точно знали, кто идет и как много их, а о своих соплеменниках могли сказать даже, кто где находится и кто чем занят. Это их чутье было сродни дару оракула, причем обладали им отнюдь не только жрецы, а чуть ли не все сиканы – одни в большей, другие в меньшей степени. Объяснить это они были не в силах, а вот ошибались очень редко. Впрочем, и оракулу случалось ошибиться – или, во всяком случае, слова его могли быть неправильно истолкованы. При этом сами сиканы не считали свой дар чем-то из ряда вон выходящим, нисколько не сомневаясь, что он есть у всех людей и даже у зверей – особенно у собак.
В ожидании нас сиканы натерли священный камень жиром и танцевали вокруг него танцы подземного царства. Жрец закрыл лицо деревянной маской и прикрепил к голове звериные рога, а к пояснице – хвост. На огромном костре кипели котлы, так как, встретив нас, сиканы намеревались заколоть жертвенного осла и полакомиться его мясом. Осла они считали священным животным и, видя при нас одного из представителей этой породы, прониклись к нам тем большим уважением. Искусные охотники, они не испытывали недостатка в мясе, но верили, что жесткое мясо осла придает им силу и упорство. А вокруг ослиной головы, насаженной на шест, они собирались по обычаю совершить положенный обряд, надеясь, что это защитит их от молний.
Наш осел не противился и легко дал принести себя в жертву. Сиканы истолковали это как добрый знак.
Кошки же они испугались, не зная, что это за животное, и убили бы ее, если бы Арсиноя не взяла ее на руки, показывая, что она – ручная. А к Арсиное они отнеслись с уважением, ибо она прибыла на осле, прижимая к груди младенца. Принеся жертву, жрец исполнил вокруг мальчика танец радости, после чего жестом повелел нам положить его на натертый жиром камень и сбрызнул ребенка кровью осла. При этом сиканы хором закричали: – Эркле, Эркле!
У Микона в бурдюке осталось еще немного вина, без которого, мне кажется, он не выдержал бы дороги. Стараясь расположить к себе сиканов, он угостил их остатками напитка. Они выпили, качая головами, а некоторые так и вообще выплюнули вино на землю. В ответ их жрец со смехом подал Микону какой-то напиток в деревянной чаше. Микон осушил ее и сказал, что это пойло не идет ни в какое сравнение с вином, но вскоре, уставившись невидящим взглядом в точку перед собой, объявил, что члены его онемели и что он может смотреть сквозь стволы деревьев и видит, что происходит в недрах земли.
Этот священный напиток жрецы и вожди сиканов варили из ядовитых ягод, грибов и кореньев, которые собирали в разное время года, следя за изменениями луны, а пили его, когда хотели пообщаться с подземными духами и спросить у них совета. Впрочем, как мне показалось, пили его также для того, чтобы опьянеть, так как вина они не знали. Во всяком случае, Микону этот напиток пришелся по вкусу, и все время, пока мы жили среди сиканов, он, хотя и в небольших количествах, но ежедневно употреблял его.
Усталость после побега, близость священного камня и облегчение от того, что нам удалось получить спасительное прибежище у дружелюбно встретивших нас сиканов, подкосили меня. Когда же все замолчали, ожидая знамения, раздался крик совы, который повторился несколько раз.
– Арсиноя, – сказал я, – у нашего сына еще нет имени. Давай назовем его Хиулс, как кричит сова.
Микон разразился смехом. Хлопнув себя руками по коленям, он вытаращил глаза и воскликнул:
– Ты прав, Турмс! Кто ты такой, чтобы давать имя своему ребенку?! Пусть это лучше сделает лесная сова, а не его родной отец!
Арсиноя так устала, что у нее не было сил возражать мне. Поев жесткого ослиного мяса, она попыталась дать мальчику грудь, но переутомление, опасности, подстерегавшие нас на каждом шагу, и волнения, связанные со смертью Дориэя, дали о себе знать: у нее пропало молоко. Анна осторожно взяла младенца на руки и накормила его из козлиного рога теплым супом; потом она завернула ребенка в овечью шкуру и, напевая, убаюкала его. Когда сиканы увидели, что мальчик спит, они проводили нас по тайной тропинке в грот, затерявшийся в непроходимой тернистой чаще. Каменный пол пещеры был устлан тростником, который служил одновременно и ковром, и постелью.
Проснувшись на рассвете, я сразу вспомнил, где мы и что с нами случилось, но первой моей мыслью было – куда же мы теперь отправимся? Однако когда я вышел из пещеры, я чуть не упал, споткнувшись о ежа, который со страху свернулся в клубок. И я сразу вспомнил Ларса Тулара, которого мы принесли в жертву на море, и его слова о свернувшемся в клубок еже. Поэтому я истолковал это маленькое происшествие как предостережение и решил, что нам следует остаться у сиканов, ибо так безопаснее всего; я понял, что мне будет дан знак и только тогда я пойму, в какую сторону мы должны идти.
Как только я принял решение, меня охватило невыразимое чувство облегчения и мне показалось, что я наконец-то вновь стал самим собой. Я подошел к журчавшему неподалеку роднику, умылся и сделал несколько больших глотков. Вода оказалась очень вкусной, и я улыбнулся, радуясь своей силе и желанию жить. Вскоре пробудилась и Арсиноя и страшно расстроилась при виде закопченного потолка пещеры, сложенного из камней очага и кособоких кувшинов на полу. Микон же продолжал храпеть.
– Вот до чего ты довел меня, Турмс! – сказала она с горечью. – Ты сделал меня несчастной и бездомной; и сейчас, когда тростник колет мое нежное тело, я даже не знаю, люблю я тебя или ненавижу.
Мне по-прежнему было хорошо и радостно, так что я не почувствовал себя задетым и ответил только:
– Арсиноя, любимая моя, ты всегда хотела спокойной жизни и мечтала о собственном очаге. Здесь тебя окружают прочные стены, а очаг – это очаг, даже если он и сложен из нескольких покрытых сажей камней. Больше того, у тебя есть теперь служанка и врач, который заботится о здоровье твоего сына. Я быстро перейму у сиканов их умение добывать пищу в лесу и собирать разные съедобные коренья и ягоды, чтобы кормить тебя и нашего мальчика. Впервые в жизни я чувствую себя совершенно счастливым и довольным своей судьбой.
Поняв, что я вовсе не шучу, она набросилась на меня и стала царапать мне лицо и плеваться, крича, что я должен немедленно увезти ее отсюда в какой-нибудь греческий город на Сицилии, где она могла бы вести достойную жизнь. Я не помню, сколько мне понадобилось времени на то, чтобы успокоить ее, так как все плохое давно уже улетучилось из моей памяти. К концу лета, когда Арсиноя увидела, что, несмотря на все наши лишения и простую пищу, ее сын растет и крепнет, она примирилась с судьбой и даже стала делать кое-что по хозяйству.
2
Не стоит, пожалуй, рассказывать здесь в подробностях о том, как сиканы охотились и как они ловили рыбу в быстрых горных ручьях, так как охота и рыболовство в разных странах схожи. Разве что снасти отличаются – где-то они лучше, а где-то хуже. Когда я познакомился с сиканами поближе, я понял, что они вовсе не были такими уж варварами, какими мне прежде казались. Я как-то сразу поладил с ними.
Но зато Микон все чаще выглядел угнетенным и мрачным. Когда на него накатывало такое настроение, он садился где-нибудь в сторонке и думал о чем-то, подперев подбородок рукой. Однажды вечером он сказал:
– Появляться без приветствия и уходить без прощания и быть чужим у любого очага – это вовсе не мудрость и не искусство жить, но судьба, которой не избежит ни один человек в этом холодном мире.
Еще год оставался Микон с нами, и сиканы приводили к нему больных – и даже из очень отдаленных мест, – чтобы он лечил их. Но к обязанностям врача он относился теперь спустя рукава и уверял даже, что сиканские жрецы не хуже его умеют лечить раны, сращивать кости и погружать больных в живительный сон с помощью одного только маленького барабана.
– Мне у них нечему учиться, – говорил он, – им у меня тоже, да все это и не имеет никакого значения. Возможно, это и благородно – бороться с телесными недугами, но вот кому по силам излечить страдающий дух, если даже посвященный никогда не чувствует себя довольным и счастливым?
Я не мог вывести его из уныния, и Арсиноя не знала, как его утешить, хотя и улыбалась Микону, начав, подобно мне, радоваться жизни. Однажды утром лекарь проснулся поздно, посмотрел на синеющие горы и сияющее солнце, провел ладонью по лицу, вдохнул теплый, смолистый аромат леса, положил дрожащую руку на мое плечо и сказал:
– Пришло время, и мои мысли прояснились, Турмс. Я врач и понимаю, что болен, что мой организм насквозь пропитался пагубным и дурманящим напитком сиканов. Я давно уже живу будто в тумане и не могу отличить яви от сна и бреда. Но, впрочем, очень вероятно, что они соседствуют друг с другом и даже пересекаются, так что я одновременно могу и спать, и бодрствовать.
Он крепко держал меня за руку своей мягкой рукой и все говорил и говорил:
– В минуты просветления я знаю и понимаю, что нельзя полагаться на разум человека и пытаться объяснить все законами привычной нам логики. Возможно, это только привычка, вредная привычка думать, что события следуют одно за другим по порядку. Разве не может быть иначе, разве не может все происходить одновременно, хотя мы этого и не замечаем?
Он улыбнулся, что бывало с ним очень редко, ласково посмотрел на меня и сказал:
– Минута моего прозрения, возможно, не столь уж и важна, как мне это сначала показалось, ибо сейчас ты, Турмс, видишься мне неким великаном, а тело твое стало огненным и светится сквозь твои одежды. Но мы-то знаем, что этого быть не может… Так вот, с некоторых пор я стал размышлять о смысле жизни, и мне открылось многое такое, что выходит за пределы нашей действительности. Однако все имеет свои границы, и я решил было, что познал больше, чем могу себе позволить, но тут мы оказались у сиканов, я попробовал их зелье и понял, зачем появился на свет и в чем смысл жизни.
Он по-прежнему крепко сжимал мою руку.
– Это глубокие знания, Турмс, и я передаю их сейчас тебе. Никогда нельзя доискиваться какого-либо смысла в явлениях и вещах, которые нас окружают. Наше мышление подобно панцирю, который и защищает нас, и делает неотделимыми от мира. Мы должны спасать себя, не полагаясь на разум, ибо никакого разума вообще не существует. Ведь его не видно, его нельзя пощупать или попробовать на язык. Существует только то, что видимо, и тот, кто понимает это, освобождается от власти богов.
Он отпустил мою руку, коснулся пальцами травы, посмотрел вдаль на синие горы и сказал:
– Мне надо бы радоваться, что я так много знаю, но ничего меня уже не утешает, и я чувствую себя так, будто бежал без отдыха несколько дней. Мысль о том, что когда-нибудь я проснусь и увижу землю такой же зеленой и прекрасной, как в детстве, и все вокруг будет радовать меня и дарить мне наслаждение, совсем не кажется мне привлекательной. Впрочем, сегодня я доволен собой: ты, Турмс, кажешься мне сильным и непобедимым, и к тому же я почти сразу узнал тебя, а это в последнее время бывает со мной редко.
Я смотрел на него с сочувствием и видел печать смерти на его расплывшемся лице, различал сквозь кожу и мышцы очертания черепа, его впадины, выпуклости и оскалившиеся зубы. Мне стало жалко Микона, ведь он был моим хорошим другом, но его обидел мой взгляд, и он сказал:
– Нет, Турмс, не надо жалеть меня. Такой, как ты – а измениться ты не можешь, – не должен никого жалеть. Сочувствие причиняет мне боль, а ведь я как-никак был послан к тебе богами, недаром же ты сразу узнал меня. Так узнай же меня и тогда, когда мы встретимся снова! Жалости же твоей мне не надо.
Его отекшее и расплывшееся лицо почему-то казалось мне отвратительным; на нем была написана такая зависть, что солнечное утро померкло для меня. И он почувствовал это, закрыл рукой глаза, встал и отошел, покачиваясь, в сторону. Я попытался его остановить, но он сказал:
– У меня пересохло в горле. Пойду-ка я к роднику. Я хотел сопровождать его, но он сердито цыкнул на меня и даже не обернулся, уходя. Больше его никто не видел. Мы пытались найти его, и сиканы тоже обыскали все заросли и расщелины скал, но Микона нигде не было, и мне стало ясно, что он имел в виду другой родник.
Я не осуждал его, полагая, что любой человек имеет право выбора – продолжать жизнь или отказаться от нее, как от слишком утомительного рабского труда. Мы оплакали его и совершили в память о нем жертвоприношение, но вскоре мне стало легче, ибо он бывал так мрачен и молчалив, что бросал тень на нашу жизнь. Зато Хиулс очень скучал без Микона – ведь тот научил его ходить, частенько гулял с ним, слушая невнятный детский лепет, и вырезал для него своим острым медицинским ножом игрушки из дерева, нимало не заботясь о том, что острие может затупиться.
Арсиноя очень рассердилась, когда узнала о происшедшем, и накинулась на меня с упреками, утверждая, что я совсем не заботился о Миконе.
– А вообще-то, какое мне до него дело? – наконец сказала она. – Странно только, что он не дождался моих родин, чтобы оказать мне врачебную помощь. Он же прекрасно знал, что я опять беременна, а мне хотелось бы рожать как культурному человеку и не доверяться глупым сиканским бабкам.
Я не винил Арсиною за ее жестокие слова, ибо беременность сделала ее капризной, а Микон и в самом деле во имя нашей дружбы мог бы подождать хотя бы месяц. Но пришло время, и Арсиноя легко разрешилась от бремени – она родила дочь на ложе из тростника в шалаше из ветвей; помощь опытных сиканских повитух, хотя она и подняла на ноги всех женщин, оторвав их от повседневных дел, ей не понадобилась вовсе. Она отказалась рожать на стуле с вырезанным отверстием, не послушав совета сиканских женщин, которые хотели ей помочь, а родила, лежа на подстилке, как и положено культурному человеку.
3
У сиканов я научился обретать желанное иногда одиночество, уходя на несколько дней в горы, где можно было поститься и слушать свою душу до тех пор, пока во всем теле не появлялась легкость и мне не казалось, что я мог бы взлететь. У них я научился также во время утомительного лесного перехода спасать жизнь самому слабому, делясь с ним собственной кровью; для этого наиболее выносливый вскрывал себе на руке вену. Однажды я так и поступил, хотя сиканы были мне чужими. С тех пор они считали меня своим братом; впрочем, дав им свою кровь, я так и не стал их соплеменником.
Я вспоминаю добрым словом безбрежные леса сиканов, вековые дубы, синие горы, быстрые ручьи. Но, живя среди этих приветливых дикарей, я всегда знал, что их страна – это не моя страна. Она осталась для меня чужой, хотя я хорошо узнал ее; точно так же остались для меня чужими и сиканы.
Пять лет я провел среди них, и Арсиноя привыкла к нашей жизни и стоически сносила все ее тяготы, потому что мы любили друг друга; правда, несколько раз она грозилась уйти с кем-нибудь из купцов, которые отваживались иногда появиться в этих лесах. Купцы были большей частью из Эрикса; они приходили, держа в руках зеленую ветку – знак мирных намерений, – и оставляли свои товары где-нибудь на видном месте, чтобы сиканы могли их осмотреть. Иногда сюда добирались также смелые торговцы из греческих городов Сицилии, а время от времени наведывались и тиррены с мешками соли, в которых они прятали железные ножи и серпы в надежде хорошо на них заработать. Сиканы же предлагали к обмену шкуры животных и разноцветные перья, связки коры для крашения, дикий мед и воск, но сами никогда не выходили из укрытия. Мне частенько доводилось помогать им в их переговорах с купцами, которые за долгие недели своего нелегкого путешествия так и не встречались ни с одним из местных обитателей.
Благодаря этим встречам и торговым сделкам я знал о том, что творилось во внешнем мире, и о том, сколь беспокойные пришли времена. Греки все настойчивее осваивали исконные земли сиканов, а сегестяне все чаще появлялись в лесах на лошадях и с собаками. Много раз приходилось нам убегать в горы, спасаясь от их отрядов. Но сиканы тоже умели устраивать ловушки своим врагам и нагонять на них страх звуками барабанов.
Разговаривая с пришлыми купцами, я ничего им о себе не рассказывал. Они принимали меня за сикана, по какой-то причине выучившего чужие языки. Были это большей частью необразованные люди, и их рассказам не всегда можно было доверять. От них, однако, я услышал, что после Ионии персы захватили острова на греческом море, в том числе и священный Делос. [35]35
Делос – современный Дилос, небольшой остров в Эгейском море. Согласно мифам Латона родила здесь Аполлона и Артемиду.
[Закрыть] Население островов увели в рабство, самых красивых девушек послали великому царю, а самых сильных юношей оскопили и заставили служить персам. Храм разорили и сожгли в отместку за гибель храма в Сардах, но великий царь не забыл и об Афинах.
Вот почему мой давний проступок не давал мне покоя даже в глубине сицилийских лесов, и я постоянно испытывал беспокойство. Взяв у Арсинои мой селенит, я призывал Артемиду, говоря:
– Быстроногая богиня, великая, вечная, всемогущая, та, которой пожертвовали амазонки правую грудь! Помнишь ли ты, что это я сжег для тебя храм Кибелы в Сардах? Так защити же меня от мести других богов!
У меня было тревожно на душе, и я чувствовал, что мне надо умилостивить богов. Сиканы поклонялись подземным божествам, а также Деметре – она была не только богиней земледелия и плодородия, как думали многие, но и кем-то куда более значительным. Наша дочь родилась у сиканов, поэтому я решил назвать ее Мисме, в честь женщины, которая дала Деметре напиться воды, когда богиня погибала от жажды, разыскивая свою пропавшую дочь.
Спустя несколько дней после молитвы, обращенной к Артемиде, и того, как я выбрал имя для моей дочери, ко мне пришел жрец сиканов и сказал:
– Где-то идет большая битва и умирает великое множество людей.
Потирая руки от возбуждения, он смотрел по сторонам и прислушивался, а потом показал куда-то на восток и проговорил:
– Это далеко отсюда, по ту сторону моря.
– Откуда ты знаешь? – спросил я недоверчиво. Он удивленно посмотрел на меня и ответил:
– А ты разве не слышишь шума битвы и предсмертных криков? Это большая война, раз от нее столько грохота.
Другие сиканы взволнованно толпились возле нас и тоже прислушивались и поглядывали на восток. Я попытался было что-то разобрать, но до меня доносился только шум леса.
Этой осенью к нам приехал греческий купец из Агригента, которого я как-то раз уже встречал у реки. Он с похвалой отозвался о большой победе афинян на Марафонской равнине [36]36
Марафонская равнина – у поселения Марафон, на северо-восточном побережье Аттики, афинское войско в 490 г. до н. э. разгромило персидскую армию и обеспечило господство Афин. Описание битвы дано в «Истории» Геродота. Сохранился могильный холм над захоронением 192 павших афинян.
[Закрыть] около Афин над персидской армией, которая прибыла на кораблях по морю. Превознося до небес это сражение, он оценивал его как самое выдающееся из всех, которые когда-либо произошли; он считал, что такой победой можно гордиться, так как афиняне разбили персов сами, не ожидая обещанной спартанцами помощи.
Он рассказывал, что афиняне, опередив персов, напали первые, причем выстроились они всего лишь в три ряда, чтобы суметь развернуться на такую же ширину, что и персидское войско. После битвы Марафонская равнина была так усеяна трупами, что невозможно было, проходя по ней, не наступить на погибшего перса. Так, сказал он, афиняне отомстили за порабощение Ионии и греческих островов.
Я не верил своим ушам, ибо отлично помнил, как афиняне, обгоняя друг друга, бежали после похода из Сард в Эфес, ища спасения на своих кораблях, ожидавших у устья реки. Но если даже подвергнуть сомнению добрую половину из того, что он наговорил, то факт остается фактом: персы потерпели поражение при попытке высадиться в Аттике. Я все же слегка разбирался в военном искусстве и понимал, что у персов не было возможности переправить через море всю свою прославленную конницу, да и вообще сколько-нибудь значительную армию. Однако такое поражение, как это, вряд ли ослабило могущество великого царя; наоборот, оно должно было рассердить его и подтолкнуть к сухопутному военному походу на Грецию.
Купец из Агригента раздулся от важности, как лягушка, и продолжал хвастаться чужими победами:
– Пусть Дарий возится с народами, которые ходят в штанах и унижаются, облизывая его пыльные сандалии. Изнеженную Ионию он, конечно, мог погубить, – но когда закаленные жители Эллады, разгневавшись, берутся за копья и мечи, то варвары пугаются и бегут с поля битвы. Даже развращенные демократией Афины сумели победить персов! Но ведь персы куда слабее спартанцев, так что при виде боевого порядка лакедемонян наверняка струсили бы сразу и побросали оружие.
Передохнув, он рассказывал дальше:
– Тиран Гиппий, изгнанный когда-то афинянами, которого великий царь назначил главнокомандующим этого военного похода, сойдя на берег под Марафоном, чихнул и выплюнул изо рта зуб, который исчез в песке. Тогда, как говорят, он накрыл голову полой плаща и сказал: «Я не заслужил права находиться на моей родной земле, и, значит, мне придется уйти».
Его рассказ укрепил меня в убеждении, что несколько дней назад персы попытались силой своего оружия устроить политический переворот и вернуть Гиппию власть в Афинах. Недаром для начала им нужно было покорить Аттику, без обладания которой Греции не завоевать. Я разгадал намерения великого царя, ибо знал, что большая страна непременно желает расширить свои границы, подобно тому, как очень богатый человек – хочет он того или нет – постоянно увеличивает свое состояние. И значит, рано или поздно все свободные государства Эллады падут. Весть о счастливом исходе Марафонской битвы не только не обрадовала, но, напротив, встревожила меня. Мне, поджигателю храма в Сардах, Сицилия не могла больше служить убежищем.
Однажды утром, когда я склонился над родником, чтобы напиться, лист ивы упал в воду прямо передо мной, а когда я поднял глаза, то увидел высоко в небе стаю птиц, летящих на север; я понял, что они торопятся за море. Мне показалось, я слышу шум крыльев и призывный зов труб, и я вздрогнул, осознав, что очередной отрезок моей жизни подходит к концу и что мне пора собираться в дорогу.
Я не стал пить воду из родника и не стал ничего есть, а немедленно отправился через лес к подножию горы; рискуя сломать себе шею, я поднялся на самую вершину, чтобы остаться там наедине с самим собой и увидеть какой-нибудь знак. Случилось так, что я пустился в путь, имея при себе одно-единственное оружие – истертый и тонкий от частого затачивания нож. Взобравшись на вершину, я вдруг ощутил запах дикого зверя и услышал слабый писк. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил волчью нору; среди обглоданных дочиста костей ползал крохотный волчонок, который, как видно, боялся выбираться наружу. Волчица, имеющая маленьких детенышей, очень опасна, но я все же спрятался в зарослях и стал ждать, что будет дальше. Волчица все не появлялась, а волчонок скулил от голода, и в конце концов я взял его на руки и вернулся домой.
И Хиулс, и Мисме пришли в восторг при виде мохнатого зверька и захотели немедленно его накормить, но вот кошка выгнула дугой спину и принялась зачем-то кружить около волчонка. Я пинком отогнал кошку и попросил Анну подоить одну из коз, украденных сиканами. Голодный волчонок жадно сосал палец Анны, который она обмакнула в козье молоко. Дети смеялись и хлопали в ладоши, и я тоже смеялся. И вдруг я увидел, какой красивой девушкой стала Анна – стройной, смуглокожей, улыбчивой, с огромными ясными глазами. В свои длинные густые волосы она воткнула цветок. Мне показалось, что никогда прежде я не видел ее.
Арсиноя проследила за моим взглядом, одобрительно кивнула головой и сказала:
– Когда будем уезжать отсюда, возьмем за нее хорошую цену.
Ее слова очень задели меня. Я вовсе не собирался продавать Анну в каком-нибудь прибрежном городе, чтобы иметь деньги на дорогу, даже если бы ее жизнь у какого-нибудь богатого купца и сложилась удачно. Но я понимал, что мне следует скрывать от Арсинои свою привязанность к девушке, которая бескорыстно делила с нами все невзгоды в лесах сиканов, прислуживала нам и заботилась о детях.
Арсиноя была настолько уверена в своей власти надо мной и в своей красоте, что приказала Анне раздеться донага, чтобы я собственными глазами смог убедиться в том, как дорого сумеем мы продать ее.
– Как видишь, я не позволила ей портить кожу, испещряя ее, подобно сиканам, шрамами и узорами, – сказала Арсиноя. – Также я научила ее удалять волосы с тела, как это делают гречанки, и заставляю ее каждый день мыться. Холодная вода закалила ее груди, видишь, как они торчат, твердые, как каштаны. Потрогай сам, Турмс, если мне ты не веришь. Дотронься и до ее ладоней, чтобы убедиться, какие они мягкие, хотя она и делает всю тяжелую работу. Я велю ей каждый вечер втирать в кожу ту мазь, которую я сама готовлю из меда, птичьих яиц и козьего молока. Кроме того, я научила ее красиво ходить и танцевать несложные танцы.
Анне было стыдно, и она избегала моего взгляда, хотя и стояла с высоко поднятой головой. Но вдруг она не выдержала, закрыла лицо руками, разрыдалась и выбежала из пещеры. Ее плач испугал детей, и они забыли о волчонке. Кошка немедленно воспользовалась этим: схватив зверька, она куда-то помчалась. Когда я нашел ее, беззащитный волчонок был уже мертв, мало того, мерзкая тварь с урчанием доедала его. Охваченный негодованием, я схватил камень и размозжил кошке голову. И только сделав это, я вдруг осознал, насколько же ненавидел ее все это время. Мне внезапно показалось, что я освободился от зла, которое долго и упорно преследовало меня.
Оглядевшись вокруг, я заметил небольшую ямку, бросил туда кошачьи останки и присыпал их камнями. Потом я захотел нарвать мха, чтобы прикрыть камни, – и тут увидел Анну, которая принялась торопливо помогать мне.
Я бросил на нее виноватый взгляд и стал оправдываться:
– Я случайно убил кошку. Я вовсе не хотел этого.
– Ты сделал правильно. Кошка была очень плохая и всегда мучила мышей, прежде чем съесть их. Я все время боялась, что она выцарапает детям глаза, если оставить их без присмотра. Она очень ревновала свою хозяйку.
Мы старательно укладывали мох и листья, наши руки соприкасались, и мне было приятно дотрагиваться до теплых девичьих пальцев.
– Я не скажу Арсиное, что разбил голову ее кошке, – сообщил я.
Анна посмотрела на меня лучистыми глазами.
– И не надо, – сказала она. – Кошка часто бродила по ночам, и хозяйка опасалась, что ее сожрет какой-нибудь зверь.
– Анна, – спросил я, – понимаешь ли ты, что я буду связан с тобой, если у нас появится общая тайна?
Она подняла глаза, без страха взглянула на меня и сказала:
– Турмс, я связана с тобой еще с тех пор, как ты позволил мне оказаться в твоих объятиях при свете луны на лестнице храма Кримисса.
– Тайна эта, конечно, невеликая, – продолжал я, – но я не люблю ссор… хотя я никогда еще не лгал Арсиное.
От ее нежного взгляда мне стало теплее, однако я совершенно не испытывал желания. Мне даже в голову не приходило, что в этой жизни я могу возлечь с какой-то другой женщиной, не с Арсиноей. По-моему, Анна это поняла, потому что она покорно опустила голову и встала так резко, что цветок упал из ее волос на землю.
– Турмс, разве это ложь, если утаиваешь то, что знаешь? – спросила она, наступив на цветок грязной подошвой.
Я ответил:
– Все очень сложно. Разумеется, я солгу Арсиное, если сделаю вид, будто понятия не имею, куда подевалась ее любимая кошка. Но я так привязан к своей жене, что не хочу делать ей больно, рассказывая о совершенном мною жестоком поступке. Ради Арсинои я промолчу, но даже такая ложь навсегда останется со мной и будет жечь мне сердце.
Анна рассеянно дотронулась до своей груди, прислушалась к биению сердца и призналась:
– Да, ты прав, Турмс, ложь обжигает человеку сердце, и я уже чувствую жжение.
Но при этом она странно улыбнулась, посмотрела на меня и воскликнула:
– О, как приятно мне лгать ради тебя, Турмс!
И она убежала. Мы порознь вернулись в пещеру и больше никогда не говорили об этом. Арсиноя какое-то время горевала о кошке, но потом забыла о ней: у нее было множество забот с детьми. Кроме того, она оплакивала кошку не потому, что жалела ее, а из-за уязвленного тщеславия: ведь она потеряла то, чего не было ни у кого из сиканов. Что же до меня, то я совсем не скучал без льстивого кошачьего мурлыканья.








