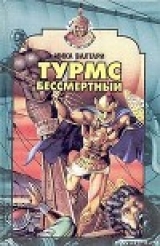
Текст книги "Турмс бессмертный"
Автор книги: Мика Тойми Валтари
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)
Мика ВАЛТАРИ
ТУРМС БЕССМЕРТНЫЙ
Книга І
Дельфы
1
Я, Ларс Турмс, бессмертный, проснулся по весне и увидел, что земля уже зазеленела.
Я обвел глазами мой богатый дом. Оглядел мое золото, серебро и бронзу. Оглядел расписные вазы с красным орнаментом. Оглядел настенные фрески. Но все это не наполнило мое сердце счастьем обладания. Ибо чем может обладать бессмертный?
Из всех моих дорогих вещей выбрал я самую простую глиняную чашу. Впервые за многие годы я высыпал ее содержимое себе на ладонь и сосчитал камешки. Это были камешки моей жизни.
Я вернул чашу с камешками к ногам богини и ударил в медное блюдо. Молча вошли слуги. Они натерли мне лицо, ладони и плечи темно-красной жженой охрой и облачили меня в священные одежды.
То, что я совершил, совершил я ради самого себя, а не ради моего города и народа. Оттого не велел я нести себя в роскошных носилках, как равного богам, но двинулся на своих ногах через город и так дошел до его стен. Люди, видя мое лицо и руки, натертые красной краской, спешили отвернуться от меня, дети переставали играть, а девушка у городских ворот отложила свою свирель.
Я вышел из ворот и направился дальше, в глубь долины, той же дорогой, по которой некогда пришел. Лазурь неба слепила глаза, уши наполнял щебет птиц, слышнее же всего было, как воркуют голуби богини.
Люди в поле при виде меня на время бросали свои занятия. Я различал смуглые мужские и бледные женские лица. Потом, повернувшись ко мне спиной, крестьяне продолжали работу.
Путь мой к вершине священной горы вел не привычной пологой тропой каменотесов. Я взбирался по ступеням священной лестницы, обрамленной живописной деревянной колоннадой.
Ступени были крутые – а я поднимался по ним спиной, не теряя из виду мой город, и не оглядывался назад. Так восходил я все выше и выше, при каждом следующем шаге ища наугад, куда поставить ногу. Много раз я оступался, но не упал. Я отстранил моих спутников и не позволил им поддерживать меня. Они же тревожились, ибо так никто еще не пробовал взойти на священную гору.
Солнце было как раз в зените, когда я добрался до священной дороги. Я миновал ворота, ведущие к могилам, с широкими у основания каменными обелисками по сторонам. Миновал гробницу моего отца – и поднялся на вершину горы.
Далеко окрест простирался подо мной на все стороны света мой край с плодородными его долинами и поросшими лесом холмами. На севере, в дымке, искрилось в лучах солнца мое озеро цвета темного сапфира. На западе же вздымалась вверх гора богини – величественный обелиск над обителью мертвых в недрах горы… Все, все нашел я на своем месте, все разглядел и узнал.
Я осмотрелся вокруг, ища знак. На земле лежало нежное, мягкое голубиное перышко, которое, должно быть, только что упало. Я нагнулся поднять его и увидел рядом гладкий, озаренный багровым отсветом камешек. Это был последний.
Я притопнул ногой и сказал:
– Здесь будет моя могила. Устройте мне гробницу в скале и украсьте ее так, как украшают гробницы лукумонов. [1]1
Лукумоны – сословная знать у этрусков, из среды которой выбирались цари (прим. ред.)
[Закрыть]
Потом я поднял глаза к небу, и меня ослепило исходящее оттуда яркое свечение, лишенное зримых очертаний, какое раньше доводилось мне видеть только в редкие мгновения моей жизни. Я простер перед собой руки ладонями к земле – и небеса из конца в конец горизонта огласил громоподобный звук, какой человеку дано услышать лишь однажды. Это был звук словно из тысячи труб, и он потряс воздух и земную твердь. Он сковал мои члены, а сердце поверг в трепет. Неслыханный, он все же был узнаваем, поскольку не походил ни на один из голосов земли.
Спутники мои, слыша этот звук, пали ниц и закрыли руками уши. Я же коснулся одной ладонью лба, вторую протянул вперед, приветствуя богов, и сказал:
– Прощай, мой век! Свершен великий год богов, и на пороге новый. С новыми заботами, новыми обычаями и новыми помыслами.
А спутникам своим я сказал:
– Встаньте и возрадуйтесь, что дано вам было слышать голос богов, возвестивший начало нового века. Ибо все, кто слышал этот голос прежде, мертвы. Из живущих же ныне никому не услышать его вторично. И лишь те, кто еще не родился, услышат его после нас.
Но провожатые мои дрожали, как и я сам, той дрожью, которой нельзя испытать дважды. Зажав в ладони последний камешек моей жизни, я притопнул еще раз ногой, указывая место моего упокоения. В тот же миг на меня налетел мощный порыв ветра.
И я уже не сомневался, а твердо знал, что вернусь. Придет время – и однажды в бурю, которая грянет с ясного неба, я возрожусь в новой телесной оболочке. Смолистый запах пиний наполнит мои ноздри, зрачки же отразят мерцающее голубым цветом изваяние богини. И если я сохраню память, то среди сокровищ гробницы я разыщу заветную глиняную чашу. Высыплю и неё на ладонь камушки, и перебирая их пальцами, буду припоминать мою прежнюю жизнь.
С натертыми красной краской руками и лицом я возвратился в город и в свой дом той же дорогой по которой я пришёл. Маленький камешек я опустил в черную глиняную чашу у ног богини. Потом закрыл лицо руками и заплакал. Я, Турмс бессмертный, плакал последними слезами, какие могли пролиться из бренных глазниц. Плакал, желая вернуть прожитую мною жизнь.
2
Наступило полнолуние, и в город пришел праздник весны. Но когда мои люди хотели смыть священную краску с моего лица и рук, умастить благовониями мое тело и надеть мне на шею венок из живых цветов, я отослал их.
– Возьмите у меня муки и испеките хлеб богов, – сказал им я. – Выберите в жертву богам корову из моего стада. Раздайте щедрые дары, не забыв о нищих. Устройте в честь богов пляски и игры, как велит обычай. Я же желаю быть один этой ночью – и впредь один во всем, что бы я ни делал.
И я велел двоим авгурам [2]2
Авгуры – жрецы, ритуалы которых были связаны первоначально с божеством плодородия; они улавливали поданные божеством знаки и толковали их.
[Закрыть], двоим гадающим по молниям и паре жрецов, совершавших жертвы, позаботиться, чтобы обряд ни в чем не был нарушен. А сам я воскурил благовония в своих покоях, так что воздух сделался густым от мглы богов. Потом возлег на подушках, которыми покрыто было мое ложе, и скрестил на груди руки, а луна светила мне в лицо.
Я погрузился в сон, хотя не спал, ощущая, как налились тяжестью мои члены. И в этом сне явился мне черный пес богини – но не так, как прежде, яростно лая и сверкая глазами. Сегодня он ласково прыгнул мне на грудь и стал лизать щеки. А я говорил ему во сне:
– Не являйся мне в твоем подземном обличье, богиня! Ты дала мне богатство, о котором я не просил. Дала власть, к которой я не стремился. Но никакими благами земными не смогла ты утолить мою жажду.
Черный пес исчез, как и мой страх. И тут же прозрачной тенью в лунном свете взмахнул рукавами призрак моих лунных ночей.
Но я сказал:
– И в небесном твоем обличье не буду я чтить тебя, богиня!
Лунный призрак сгинул, не пытаясь больше перехитрить меня. А вместо него моим глазам предстала крылатая фигура моего светлого гения. Прекраснее самого прекрасного из людей и живее всех смертных, он присел на краю моего ложа с грустной улыбкой.
Тогда я сказал:
– Дотронься до меня и дай мне наконец познать тебя, богиня! Ты – единственная, о ком я мечтаю, устав искать земных утех.
– Нет, – молвила богиня. – Когда-нибудь тебе дано будет познать меня, но пока не пришло время. В каждой женщине, сколь их ни любил ты на земле, ты любил меня. Ты и я неразлучны, хотя разлучены. Но наступит миг – и, заключив тебя в свои объятия, я унесу тебя вдаль на крепких моих крыльях.
– Зачем мне твои крепкие крылья? – возразил я. – Тебя мне надо, тебя самой! Ласк твоих жажду. Обнять тебя мечтаю. И если не в этой жизни, то в одной из будущих я заставлю тебя явиться в земном облике, чтобы посмотреть на тебя человеческими глазами. Только для этого я и собираюсь вернуться.
Но, погладив тонкими пальцами мою шею, богиня сказала:
– Какой же ты лжец, Турмс!
Не шелохнувшись, я глядел на нее и не мог наглядеться. Она была безупречно прекрасна – то ли человек, то ли дитя огня…
– Открой мне хоть свое имя, чтобы я знал, кто ты – взмолился я.
– Что за жажда власти обуревает тебя! – усмехнулась с упреком богиня. – А ведь надо мной, даже зная мое имя, ты не можешь быть властен… Впрочем не бойся. И имя мое я шепну тебе, когда сожму тебя в своих объятиях. Да только ты забудешь его, пробуждаясь к новой жизни, потому что уши твои наполнит звон бессмертия.
– Не забуду, – упорствовал я.
– Забыл же ты до этого! – возразила богиня.
Не в силах больше спорить, я протянул вперед занемевшие руки, ловя ее; но хотя перед глазами у меня все еще стоял ее живой облик, руки мои встретили пустоту. Медленно сквозь прозрачные черты моего видения начали проступать передо мной предметы в моем покое. Я сел на ложе, хватая руками лунный свет.
Отчаявшись, я встал и принялся бродить из угла в угол, прикасаясь к предметам, попадавшимся мне на пути. Но руки мои были слишком слабы, чтобы стронуть с места хотя бы один из них. Ужас объял меня вновь, и я, до боли стиснув кулак, стал бить в медное блюдо, вызывая слуг или какую живую душу. Но блюдо осталось немо и не отозвалось ни звуком.
С чувством мучительного страха я проснулся еще раз. Я лежал навзничь на своем ложе, все так же скрестив руки на груди. Очнувшись, я осознал, что уже могу пошевелиться. Я сел на краю ложа и спрятал лицо в ладонях.
И тут сквозь духоту благовоний, что клубами плавали в лучах слепящего лунного света, я ощутил стальной привкус бессмертия на языке и стылый запах бессмертия в ноздрях. Холодные огоньки бессмертия мелькали у меня перед глазами, и резкий ветер бессмертия свистел у меня в ушах.
Поборов страх, я вскочил на ноги и крикнул в пустоту моих покоев:
– Я не боюсь тебя, химера! [3]3
Химера – здесь в переносном значении: необоснованная, несбыточная мечта, праздная фантазия.
[Закрыть] Еще не окончена эта моя жизнь, и я, Турмс, – не бессмертный, а человек, как все.
Я взял глиняную чашу, стоящую у ног богини, и начал вынимать один за другим камешки, вспоминая. И все, что я вспомнил, записал.
3
Общепризнано, что жизнь человеческая делится на отрезки определенной длины. По завершении каждого человек обновляется; меняются также его мысли. Одни говорят, что эти отрезки длятся по пятьдесят пять месяцев, другие – что во всяком из них без пяти месяцев шесть лет. Но такова людская вера, ищущая однозначности во всем, хотя на свете нет ничего однозначного.
Уверенность, которой не может быть, стремится человек обрести в знании. Вот для чего жрецы сравнивают внутренности жертвенных животных с глиняными их подобиями, где указаны участки каждого из богов и написаны их имена. Но жрецы – не боги и могут ошибаться.
Так же и птицегадатели учатся умению стариков понимать полет птиц и птичьих стай. Но когда доводится им наблюдать знак, о котором они прежде не слыхали, тогда, теряя нить, начинают они гадать вслепую, будто с мешком на голове.
А что сказать мне о гадающих по молниям, которые перед грозой поднимаются на священные горы? Разделили они небосвод и стороны света меж богов и толкуют о видах и цветах молний, а законы этой науки передают, гордясь своим знанием, наследникам. Однако заблуждаются они и криво изъясняют прямой и внятный язык молний, не слыша голоса богов в своих сердцах.
Но, раз уж так повелось, оставим это, ибо все застывает, все костенеет, все старится. Хотя до чего же имеет унылый вид знание, когда оно увядает и чахнет! Зыбкое человеческое знание, заменившее разум богов…
Научиться многому можно, только ученость – это еще не знание. Основа истинного знания – врожденная проницательность и желание постичь разум богов. Те же, кто верит лишь себе, осуждены вечно блуждать в потемках.
Но все это я пишу единственно потому, что сам стал старым и успокоился, потому что жизнь для меня приобрела привкус горечи и ничто на земле не зажжет больше страстью мое сердце. В молодости я писал бы иначе – причем это была бы такая же правда, как сейчас.
Раз так, ради чего же я все-таки пишу?
Ради того, чтобы преодолеть бег времени и познать себя самого.
И вот я беру в руки первый камешек, черный и гладкий, и вспоминаю, как впервые осознал себя таким, каков я есть на самом деле, а не каким я видел себя до этого.
4
Это случилось по пути в Дельфы [4]4
Дельфы – святилище Аполлона в Фокиде, где находился знаменитый оракул Греции и проводились Пифийские игры.
[Закрыть], среди мрачных горных отрогов. Еще на побережье видели мы молнии, вспышки которых озаряли вершины гор далеко на западе. Жители же селения, до которого мы добрались, отговаривали нас идти дальше. Стоит ненастная осень, твердили они, и вот-вот грянет гроза. А в грозу на путников может обрушиться камнепад – или бурный поток их накроет и подхватит…
Но я, Турмс, спешил в Дельфы, чтобы дельфийский оракул объявил мне мою судьбу. Ибо вот уже второй раз в жизни избежал я верной гибели, спасенный афинскими моряками, когда жители Эфеса [5]5
Эфес – прибрежный город в Карий, один из главных торговых центров древности.
[Закрыть] собирались побить меня камнями.
Оттого не захотел я задерживаться по дороге, пережидая грозу. Тем более что местный люд хватался за любой повод предложить толпам проходящих мимо остановиться в селении, этим и живя. Тут путников всегда ожидали сытные кушанья и добрый ночлег, а на память они могли купить всякие пустячки, вырезанные из дерева, кости или камня. Я не стал прислушиваться к предостережениям этих людей. Меня не страшили ни гроза, ни молнии.
Жгучее чувство вины гнало меня вперед, в горы. Я шел один. Вдруг среди белого дня потемнело небо. С горных вершин надвинулись тучи. Засверкали молнии. Удары грома не смолкали над вторящей эхом долиной. Казалось, слух человеческий не выдержит этого страшного грохота.
Молнии крушили скалы вокруг меня. Дождь с градом до крови сек мое тело. Порывы ветра грозили сбросить меня в пропасть. Колени и локти мои были покрыты сплошными ссадинами.
Но я не ощущал боли. Впервые в жизни я испытывал настоящий восторг. Не помня себя, я принялся приплясывать на дороге, ведущей в Дельфы. В грозу, среди ветра, при вспышках молний мои ноги сами собой пустились в пляс заодно с руками, и танец мой не был похож ни на какой другой, он рождался и жил во мне, и все тело мое каждым своим членом плясало, охваченное неизъяснимым ликованием.
Мне бы со страхом ждать кары богов за совершенное мною зло – но вместо этого на меня вдруг снизошло озарение, что я выше этой кары. Молнии, переплетаясь и расщепляясь над моей головой, по-матерински обнимали меня. Буря приветствовала меня, точно сестра. Рокочущий над долиной гром тоже слал мне привет, и в мою же честь обрушивались со склонов обломки скал.
Так я впервые осознал себя и понял, что неуязвим: со мной не случится никакого несчастья и ничто не причинит мне вреда.
Покуда я так плясал на дороге, ведущей в Дельфы, с губ моих слетали слова на чужом языке. Я не догадывался, что они значат, но пел их, повторяя вновь и вновь, так же, как, бывало, в полнолуние, когда я просыпался ночами, выкрикивая слова, которых не понимал. На чужой лад звучало мое пение, чужим был и мой танец… Но все это в невероятном возбуждении выплескивалось из меня, будучи частью меня самого, хотя я не знал, откуда это взялось.
Миновав последнюю гряду скал, я увидел внизу округлую равнину, среди которой стояли Дельфы, хмурую и туманную из-за туч и дождя. В тот же миг гроза прошла, ветер разогнал тучи, и ясное солнце озарило дельфийские дворцы, статуи и святилища.
Осенняя земля искрилась от серебристых капель дождя и тающих градин, и клянусь, нигде я еще не видел такой сочной и яркой зелени, как зелень лавров вокруг дельфийского храма! Без чьей-либо помощи я отыскал священный источник, снял с плеча кожаную дорожную торбу, сбросил промокшую одежду и погрузился в приносящую очищение водную купель. Хотя дождь замутил воды овального пруда, я по очереди подставил под струи, текущие из львиной пасти, лицо, голову, руки и совершил омовение. Обнаженный, я вышел из воды на солнце; все тело мое горело священным восторгом, и я не ощутил холода.
Между тем ко мне уже приближались служители храма в длинных ниспадающих одеждах и с повязками на головах. Я же поднял глаза выше – и увидел черную скалу, которая казалась величественнее самого храма, и черных птиц, что парили после грозы над пропастью. Без подсказок я догадался, что это – место казней, откуда сбрасывали вниз обреченных, чью вину уже ничто не могло искупить. И я побежал к храму вверх по террасам, минуя статуи и памятники и не стараясь держаться священной дороги.
Стоя перед храмом, я возложил руку на могучий жертвенник и воскликнул:
– Я, Турмс из Эфеса, вручаю себя милости богов и прошу суда у оракула.
С фронтона храма смотрели на меня фигуры Артемиды, охотящейся со своими собаками, и обряженного в торжественные одежды Диониса. И я понял, что это – только начало. Служители пытались помешать мне и прогнать меня прочь. Но я вырвался у них из рук и вбежал в храм. Не задерживаясь в первом помещении, я пробежал мимо огромных серебряных урн, мимо бесценных изваяний и богатых даров в глубь храма. Там на скромном жертвеннике пылал негасимый огонь, а рядом, опаленный вековым пламенем, выступал над плитой каменный столбик – пуп земли. [6]6
Пуп земли – Омфал, монолитный камень в Дельфах, считавшийся центром Земли; древние представляли, что существует и «пуп моря».
[Закрыть] Возложив руку на этот священный камень, я вновь отдался на милость богов.
Неизъяснимое блаженство разлилось у меня по ладони и по всему моему существу от прикосновения к священному камню. Без страха огляделся я вокруг. Я видел вытертые каменные ступени, ведущие в расселину скалы. Видел священную гробницу Диониса. Видел орлов верховного бога у себя над головой, в полумраке внутренней части святилища. Я был в безопасности. Тут меня не могли настигнуть служители храма. Войти сюда смели лишь посвященные – дельфийские жрецы, посланцы богов.
Но они уже спешили на шум, поднятые служителями: четверо старцев, исполненных благочестия. На ходу они поправляли повязки на головах и запахивали свои хламиды. У них были хмурые лица и опухшие от сна глаза. В преддверии зимы – а тем более когда только что прошла гроза – они не ждали гостей, и я своим вторжением нарушил их покой.
Однако, пока я лежал, обнаженный, ничком на плитах этого святого убежища, ухватившись за пуп земли, жрецы были против меня бессильны. Да ни один бы и не коснулся меня даже пальцем, не зная, что я за человек.
Переговорив обо мне друг с другом тихим, злым шепотом, они спросили:
– Ты обагрил руки кровью?
Я поспешил заверить их, что нет, не обагрил и ничьей крови не пролил. Это их успокоило, потому что иначе в храме пришлось бы совершить обряд очищения.
– Согрешил ли ты перед богами?
Задумавшись на мгновение, я ответил:
– Перед богами Эллады я безгрешен. Напротив, мне покровительствует юная богиня – сестра вашего бога.
– Так кто же ты и чего ты хочешь? – сердито допытывались жрецы. – Зачем явился ты на крыльях грозы, танцуя, и как посмел без спроса окунуться в священные воды? Как дерзнул попрать обычаи и порядки храма?
К счастью, отвечать им мне не понадобилось, так как, поддерживаемая двумя прислужницами, в храм вошла Пифия. Это была еще молодая женщина; открытое лицо ее было ужасно, зрачки расширены, и ступала она нетвердо. Она посмотрела на меня так, как будто всю жизнь меня знала, при этом щеки ее раскраснелись, и с губ ее слетел невнятный возглас:
– Вот и ты, которого я ждала! Ты пришел, приплясывая, и омыл обнаженное тело в священном источнике. Узнаю тебя, о сын луны и сын морского конька, зачатый в недрах морской раковины! Ты явился с запада…
Я хотел было поправить ее, сказать, что она ошиблась и что я, наоборот, прибыл с востока, из Ионии, спеша, насколько хватало ветра в парусах и силы у гребцов боевого корабля, на котором я переплыл море. Но ее слова взволновали меня.
– Ты и впрямь знаешь меня, вещая Пифия? – спросил я.
С безумным смехом она подошла поближе, как ни удерживали ее прислужницы, и сказала:
– Мне ли не знать тебя? Встань и взгляни мне в лицо!
И открытый ее лик был так призывно грозен, что пальцы мои отпустили священный пуп земли и я поднял на нее взгляд. У меня на глазах черты ее вдруг стали преображаться, причудливо изменяясь. Поначалу я уловил в ее облике нечто от пылкой Дионы – той, которая бросила мне яблоко с начертанным на кожуре именем этой богини. Потом черты Дионы сменил черный лик Артемиды Эфесской, такой, как на ее изображении, которое встарь ниспослано было с неба. И в третий раз переменилось ее лицо – но этот образ лишь промелькнул передо мной, как бы во сне, тут же подернувшись дымкой, и вновь на меня смотрели безумные глаза пророчицы.
– И я тебя знаю, Пифия! – вскричал я.
Не будь прислужниц, она раскрыла бы мне объятия. Но высвободить она сумела только левую руку и ею коснулась моей груди. Я почувствовал исходящую от нее и пронизывающую меня насквозь силу.
– Этот юноша мой, – сказала Пифия. – Неважно, посвященный он или непосвященный. Оставьте его. Что бы он ни сделал, он совершил это по воле богов, а не по своей. На нем нет вины.
Но жрецы, ворчливо посовещавшись, возразили:
– Не бог говорит сейчас ее устами, потому что не со священного треножника произнесены эти слова. Это не истинное откровение. Уведите ее отсюда.
Однако прислужницы уже не в силах были совладать с Пифией. Вне себя, она громко кричала:
– Вижу дым страшных пожаров за морем! Вижу сажу на руках у этого человека! Сажей покрыто и его лицо, а бок его опален огнем. Но я очищаю его от скверны. Отныне он чист и свободен. Пусть ходит путями, которые он выберет сам. Вы же над ним не властны.
Так говорила она связно и внятно – после чего ее тело свело судорогой, на губах выступила пена, и с истошным воплем она как подкошенная рухнула на руки прислужниц. Те вынесли ее, а жрецы, трепеща в священном страхе, окружили меня и заговорили наперебой:
– Мы еще посовещаемся – но не бойся: пророчица тебя очистила… Видно, ты отмечен богами, если твой приход поверг ее в священное исступление! Ее слова не можем мы занести на скрижали, ибо она произнесла их не с треножника, но мы сохраним их в своей памяти.
В знак приязни они натерли мне ступни и ладони пеплом лаврового дерева, горящего на алтаре, и сопроводили меня до дверей храма, наказав слугам накормить меня и дать мне пить. Слуги принесли мне мои промокшие одежды и дорожную торбу, которые я оставил у священного источника, и жрецы, трогая складки моей богатой шерстяной хламиды, поняли: я – человек не из последних. Еще более они убедились в этом, когда я развязал мою торбу и вручил им мешочек, полный золотых монет с львиной головой, отчеканенных в Милете [7]7
Милет – древний город на побережье Малой Азии, заселенный греками в VIIІ в. до н. э.; превратился в крупный полис, игравший значительную роль в морской торговле.
[Закрыть], и серебряных монет с изображением пчелы – из Эфеса.
После этого я дал им мои верительные грамоты – две восковые таблички, которые скреплены были печатью. Жрецы обещали прочесть их, а затем вызвать меня для беседы. Слуги отвели мне скромную спальню, а на другой день научили меня, как мне подвергнуться очищению, чтобы мой язык и сердце были чисты, когда мне вновь суждено будет предстать перед жрецами.








