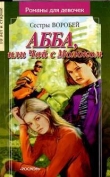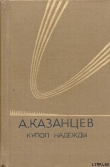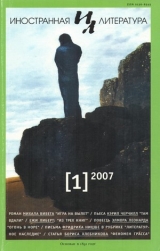
Текст книги "Игра на вылет"
Автор книги: Михал Вивег
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Джеф
Декабрь 2003 года: подъемник подвозит их к одной из многочисленных заснеженных вершин Доломитов. Небо лазурно-голубое. Обе пары лыж (лыжам Тома семь лет, они почти двухметровые, в то время как Джеф в прошлом году купил самую новую модель коротких карвинговых лыж марки «Atomik») возносятся над широкой полосой искристого снега, отороченной низкой сосновой порослью; то тут, то там посреди преобладающей темной зелени мелькает редкая, желто-коричневая крона лиственницы.
– Вот видишь, – роняет Том, – мы опять в горах одни…
Джеф утвердительно кивает.
– Опять никто из девчонок с нами не поехал.
Ветер холодный, резкий. Джеф смотрит на упорствующие верхушки деревьев и пытается отгадать его скорость: если ветер превысит допустимый предел, подъемник автоматически остановится – только за сегодняшнее утро с ними это случилось трижды. Не больно-то мы в таком случае накатаемся, мрачно думает он.
– Я всегда отрицал чисто механическое деление человеческой жизни на десятилетия, но должен признать, что сороковник реально ощущаю как определенный перелом, – снова замечает Том. – Жизнь вдруг превратилась во что-то ограниченное во времени. Беспредельный океан, который был передо мной еще несколько лет назад, вдруг превратился в пруд. Надо привыкать к мысли, что некоторых вещей при самом большом желании мы уже не достигнем.
– Например?
– Не сумеем разбогатеть. Выиграть олимпиаду. Получить Нобеля. Поставить сруб на Аляске. Отметить с сыном его тридцатилетие.
– У тебя нет никакого сына.
– То-то и оно.
Джеф замечает, что стволы некоторых сосен поразительно, почти неправдоподобно толстые.
– Взгляни вон на тот ствол, – указывает он Тому. – Силища, да?
Том неохотно открывает глаза. Морозный ветер обозначил его морщины, он выглядит старше.
– Это не сосна, а бук.
Звучит язвительно, но Джеф давно решил пропускать мимо ушей насмешки Тома.
– Горная станция на высоте двух тысяч трехсот метров. Сейчас мы наверняка выше двух тысяч. Иначе бы они здесь не выжили, – говорит он.
– Здесь, —Том делает лыжной рукавицей размашистый полукруг, который – смекает Джеф – явно захватывает больший участок, чем этот белый скалистый массив перед ними, – выживают одни толстые…
Джеф ухмыляется. Его манера сидеть тоже другая: Том сидит удобно развалившись, Джеф – выпрямившись и нетерпеливо озираясь. Минуту спустя ветер вдруг утихает, сразу теплеет. Подъемник ни с того ни с сего останавливается – не парадокс ли? Джеф ударяет рукояткой палки в защитный дымовой плексиглас.
– Итальянцы… – фыркает он.
Том поворачивает голову назад и довольно щурится на солнце. Стоит безветрие.
– Человеку нужна хотя бы толика умиротворения, —размышляет он вслух. – Уж если не мудрости. Умиротворение как бонус от бюро путешествий под названием «Жизнь». Если у тебя во время пересадки в аэропорту не по твоей вине срывается полет, любая порядочная авиакомпания хотя бы накормит тебя задарма.
О боже, на это у меня уже не хватает нервов, думает Джеф.
– А бывает еще хуже. Плюхаешься с книгой в кресло – как в добрых старых фильмах – и за полчаса прочитываешь всего две странички. Уставившись в стену, слушаешь шум трамваев, машин «скорой помощи» и тревожные гудки клаксонов.
Подъемник снова беззвучно двинулся.
– А так я мог бы кататься целую вечность.
– Н-да. Я решительно предпочитаю спуск.
– Вверх или вниз. Один черт.
У Джефа создается неприятное ощущение, что вещей, в которых их взгляды расходятся, уже слишком много, чтобы сохранялась прежняя дружба, но, разумеется, вслух он этого не высказывает.
– Надо отдать наточить их, – говорит он. – Такие лыжи быстро тупятся.
Том смеется, Джефа это по-настоящему бесит. Что, черт подери, смешного в том, что кто-то хочет отдать наточить края лыж? Он обиженно замолкает. Ох уж эти поэты,думает он. По мере того как подъемник поднимается к верхней мачте, в поле зрения вырисовывается часть лыжной трассы. Он наблюдает за отдельными лыжниками и про себя оценивает их. Но и на сей раз он не видит никого, кто бы катался лучше его, это приятно. На повороте показывается лыжный инструктор, а за ним хвост детей дошкольного возраста: на всех маленькие шлемы и светящиеся зеленые жилеты.
– Браво! – кричит инструктор. – Браво!
– Значит, их уже взяли в оборот, – хмуро произносит Том. – На будущий год напялят на них школьные ранцы, и они опомниться не успеют, как по восемь часов каждый день будут сидеть на скрипучем канцелярском стуле.
Джеф недовольно чмокает.
– А остаток дня ссориться дома с партнером или почаще навещать родителей по выходным… Их уже тожевпрягли. Они этого еще не знают, но они уже в одной упряжке с нами.
– По-моему, – не выдерживает Джеф, – эти дети нормально учатся кататься на лыжах. Ничего другого тут нет. Все остальное – лишь твои поэтические бредни.
У Тома на удивление развеселый вид. Джеф сожалеет, что Скиппи не умеет кататься на лыжах и потому не ездит с ними в горы – даже его всегдашние непристойности лучше, чем эти бредни. Он сморкается. Потом вспоминает недавний свой зарок: не судить своих товарищей.
– Оʼкей, – говорит он примирительно. – Я бы сейчас дважды съехал по черному спуску, до двенадцати у нас получится. Потом можем по красному съехать к тому кабаку, где мы были вчера.
Он считает свой план максимально приемлемым: будь он здесь один, он катался бы самое малое на час дольше; после полудня проглотил бы наскоро в буфете сэндвич с бастурмой и дуй себе дальше; но вид у Тома не слишком восторженный.
– Так не гоняла меня даже Клара. С ней у меня, по крайней мере, была мотивация.
– Мотивацию спокойно я тебе предоставлю: skipass [17]17
Лыжный абонемент (англ.).
[Закрыть] на пять дней стоит четыре с половиной тысячи.
Том смотрит на Джефа с превосходством, истоки которого Джефу неведомы.
– Я хотел бы тебя попросить кое о чем, Джеф. Не мог бы ты в моем присутствии любезно избегать слова skipass?
– Сожалею. Это абсолютно нормальное слово. Его употребляет каждый, и я не исключение. Думаю, ты единственный в Доломитах, кому это слово претит.
– Возможно, – допускает Том. – Мне было бы даже лестно.
Когда они наверху выходят из подъемника, Том сообщает Джефу, что перед запланированными тремя спусками он должен опрокинуть рюмочку.
– Одну рюмку и в путь, – говорит он.
Джеф сперва резко поворачивается к нему спиной, но потом со вздохом подчиняется его желанию. В маленьком баре у верхней остановки подъемника он торопливо заказывает и тут же оплачивает две рюмки граппы. Они выпивают их залпом, стоя. Джеф направляется к выходу, но Том останавливается.
– Что еще? – рявкает Джеф угрожающе.
У Тома извиняющийся вид.
– Мне непреодолимонужно в туалет. Я понимаю, что не могу испытывать твое терпение до бесконечности, и, естественно, смирюсь, если в данном случае ты поедешь вперед.
– Я подожду, – говорит Джеф ледяным тоном. – Ступай же наконец!
– Ты в самом деле меня подождешь? Из своего драгоценного skipassʼа ты пожертвуешь мне три минуты?
– Ступай!
Джеф стыдливо осознает, что его выкрик звучал несколько истерично. В лице Тома что-то оттаивает.
– Господи, Джеф, ведь это всего-навсего лыжная прогулка…
Фуйкова
Случилось неожиданное: после того выпада Марии меня никто больше не спрашивает о Либоре, даже Мария. Это все равно как если бы я с предельной добросовестностью систематически готовилась к урокам истории, а учительница никогда не вызывала меня. Может, им не любопытно? Не могу понять. Иногда в отчаянии говорю себе, что даже возможное разоблачение было бы лучше, чем эта вечная неопределенность. Но какое там разоблачение? Я верю в себя. Я умею выскользнуть из самой что ни на есть хитроумной ловушки. Со спокойной улыбкой я готова ответить даже на самый каверзный вопрос. Я представляю это примерно так.
Мария (в присутствии всех): А получила ли Фуйкова от своего Либора что-нибудь к именинам? (Она агрессивно поворачивается ко мне лицом.) У тебя вчера ведь были именины?
Про себя я снисходительно ухмыляюсь: до чего же она дальновидна! Думает, что умная, но на самом деле дура. Она что, серьезно считает, что своим вопросом застигнет меня врасплох?
Я: Хотя и были, но лучше мне об этом не напоминай…
Мария (обводит присутствующих девочек многозначительным взглядом): Ты, наверно, хочешь сказать, что ничего от Либоране получила?
Я: Получила и не получила. Как посмотреть.
Мария (не спускает с меня взгляда): Может, объяснишь нам.
Я (с веселой улыбкой): Иными словами, твои сомнения насчет существования Либора не дают тебе покоя… (Вздыхаю.) Что ж, придется сказать тебе и про это: он где-то купил мне вроде как искусственную розу, которая, впрочем, и не роза вовсе: при ближайшем рассмотрении обнаруживаешь, что это сложенные красные трусики. «Танга».
Мария (кисло): Ужасно…
Я: Чувствую твою иронию, но не напрягайся, я с тобой согласна. Ты права. Это не ужасно, это досадно. Кроме того, он хорошо знает, что красный цвет я не люблю, а «танга» просто не выношу. В общем, подарок был даже не для меня, а скорее для него – если въезжаешь, что я имею в виду…
Кивнув головой, гордо ухожу.
Однако меня никто ни о чем не спрашивает. Их не интересует, ни что я получила к своему празднику, ни с кем была в кино, ни что делала в выходные. Когда в исключительных случаях я сама упоминаю о Либоре (не могу отказать себе в этом удовольствии, я столько знаю о нем!), девочки обходят мои слова молчанием или поразительно быстро меняют тему. Это беспокоит меня. Если у них есть какие-то сомнения, почему они держат их при себе? Я бы в момент развеяла их раз и навсегда!
Единственная, кто в то время охотно слушает меня, это Ветка. Конечно, тут налицо все признаки меновой торговли: поскольку только она одна, очевидно, верит в моего Либора (или вполне правдоподобно притворяется), то ждет, что и я взамен буду верить в ее Мирека.
Мы встречаемся каждую пятницу после обеда в одной заштатной кафешке на Витоне, и обе надеемся, что никто из соучеников нас тут не увидит. Я езжу на эти встречи со смешанными чувствами (бедняга Ирена тогда определенно переживала то же самое): с одной стороны, радуюсь, что смогу наконец кому-то рассказывать о Либоре (как он спит, как смеется и как стряхивает пепел в ладонь…), но вместе с тем заранее ужасаюсь картине, что сижу за одним столом с Веткой. Самая уродливая пара во всей кофейне! Всякий раз у меня такое ощущение, что официант исподтишка посмеивается над нами и что сидящие за соседними столами на нас смотрят – как если бы мы были двумя слепыми, глухонемыми или какими-то иными калеками, которые сошлисьвместе, чтобы посоветоваться, как им дальше противостоять жестокостям жизни.
По сути, так оно и было.
– Видишь ли, Мирек довольно непостоянный, – говорит Ветка тихо, чтобы никто другой не слышал ее. – Но хуже всего, когда у него какие-нибудь проблемы – скажем, с шефом или клиентами, – он никогда не хочет делиться со мной.
– И Либор тоже.
Ирена, так же как и я, осознает, что классного, красивого и по всем статьям идеального партнера рядом с ней никто не сможет вообразить себе, и потому тоже выстраивает его правдоподобие из мнимых недостатков. Мирек (кроме того, что он непостоянный) еще и мал ростом, коренаст и слишком много курит. Но в общем он супер. Когда хочет, может быть ужасно нежным. Либор тоже безответственный (иногда не подает о себе весточки, допустим, дня три, хотя знает, что я тревожусь за него); кроме того, он эгоист и – что не менее важно – должен был бы чаще принимать душ. Ирена понимающе улыбается.
Ее Мирек автомеханик. В каком-то вымышленном сервисе где-то в Кобылисах или еще дальше (заметьте, речь идет о противоположном конце города) он меняет несуществующим водилам несуществующие покрышки. Вот об этом мы с Веткой каждую пятницу и болтаем: о воображаемых людях и вещах. О мечтах. О призраках.
– Обычно язык у него развязывается уже в постели. То есть уже после… – смеется Ветка и награждает меня коротким контрольным взглядом, чтобы удостовериться, верю ли я в эту хренотень.
Я киваю.
– Иногда он готов трепаться до самого утра, – добавляет она с благодарностью.
– Да, бывает, – говорю я искушенно. – После секса они такие типа беззащитные и вместе с тем… – Я прищуриваю глаза и делаю вид, что пытаюсь припомнитьумиротворенное поведение Либора, – да, я согласна, и еще такие покладистые. Более открытые.
Ветка радостно поддакивает. Она добровольно признает мое превосходство, хотя чувствует, что это не вопрос опытности, а вопрос воображения: она уже поняла, что мои мечты более давние и глубокие, чем у нее. Кроме того, она знает, что на шкале уродливости я перед ней – прочная девятка, возможно, восьмерка, тогда как она безнадежная десятка.
– Секс всегда раскупориваетих, – говорю я, и мы обе смеемся.
Иногда Ветка, заболтавшись, перестает себя контролировать.
– Все равно они кажутся мне немного комичными – я имею в виду, когда кончают, – шепчет она. – Тебе нет? Как они потом лежат с этим своим сморщенным баклажанчиком.
Бог мой, Ветка, что ты несешь! – думаю я. Тормози, девка, тормози!
– Он показывается тебе голым и после секса? – говорю я с нарочитым сомнением. – Чудно! Либор после секса сразу же прикрывает егопериной.
Ветка мгновенно теряет уверенность. Нет, ей бы экзамена у Марии не выдержать!
– И Мирек тоже, – выпаливает она поспешно. – Я имела в виду перед тем как прикроется… Понимаешь?
Она глазами выклянчивает у меня согласие, и я великодушно дарую его.
Несколькими месяцами позже наши пятничные встречи внезапно прекращаются. Однажды по какой-то причине не могу прийти я, в следующий раз – она. Вероятно, мы обе боимся, что нашу тихую договоренность под названием Я знаю, что ты знаешь, что я знаюмы не сумеем сохранить. Все эти враки становятся для нас невыносимо тягостными.
Еще раз мы встречаемся в июле после окончания школы: Ирена неожиданно звонит мне, и мы отправляемся немного побродить по набережной. Ни о Либоре, ни о Миреке мы уже не говорим.
Ева
Вышибалы она постепенно перестает любить. Хотя и довольно приятно быть в центре внимания, однако это начинает действовать на нервы, и в конце концов ей надоедает. Она обычно за капитана, а значит, под неусыпным приглядом: кому она чаще всего пасует, как изгибается и подпрыгивает, увертываясь от мяча. Разонравились ей вышибалы еще и потому, что она постоянно в фокусе внимания Джефа – и не только во время игры. Сперва он еще пытается скрыть это, но спустя неделю-другую ухлестывает за ней в открытую. Утром является в класс и смотрит на нее так, что и слов не надо… Причем его глаза выражают такое же неистовство, как когда он пытается вышибить ее из игры.
Более чем двадцать лет спустя Ева понимает его. Мало кто тогда думал, что все три года она не позволяла ему ничего, кроме поцелуев и нежных поглаживаний. Он нравился ей конечно, но любить его она не любила (после свадьбы Джеф иной раз напоминал ей об этом, и они вместе посмеивались). Тем не менее однокашники, учителя и ее родители с самого начала считали их идеальной парой. В последнем классе уже все без доли сомнения полагали, что у них близкие отношения (правду знали только Том и Скиппи). Когда Джеф не приходил утром в школу, классная руководительница при всех выясняла у Евы причину. Когда Евин отец поехал за новой машиной, то взял с собой Джефа. Ева понимала, что с ней происходит нечто противоположное тому, что происходит с большинством девушек ее возраста: она делает вид, что занимаетсясексом, и родители вроде бы ничего не имеют против, хотя о Джефе (да и о ней самой) мало что знают. Почему они в это поверили? Она просто чувствовала себя виноватой, что водит всех за нос. И почему именно Джеф? – спрашивала она себя. Она что, должна выйти за него замуж и иметь от него детей лишь потому, что он ее забронировал? Или потому, что он красивый? Или потому, что эта идея всем нравится?
Стыдится она и той истовости, которую невольно возбуждает в Джефе. Сексуальность, считала она, это нечто глубоко интимное, однако Джеф своими откровенными ухлестываниями высвечивает ее, выставляет всем напоказ. Он так старательно пытается залезть ей в трусики(как в своей пресловутой манере сформулировал Скиппи), что Еве и самой кажется, будто на глазах у всех она ходит в одних трусиках. Как бы это лучше выразить? Почти так же чувствовала она себя еще в начальной школе, когда мальчишки пускали ей зайчики на грудь и она со стыда готова была провалиться сквозь землю. Если немного утрировать, то бешеную одержимость Джефа она воспринимала чуть ли не как доносительство.
Годы спустя Мария расскажет ей, что на одном из классных сборищ, где ее не было, Том сказал: «Она пришла к нам, а тут уже ждал ее написанный сценарий. Сценарий теленовеллы: пригожий юноша с первого взгляда влюбляется в красивую девушку, и они в конце концов женятся… Вся проблема в том, что она была – как и все мы – слишком молода и ил глупа, чтобы суметь отвергнуть главную роль в такой love-story». [18]18
Любовная история (англ.).
[Закрыть]
Это заденет Еву, но ей придется признать, что в его словах что-то есть.
Джеф и Том все четыре года гимназии – неразлучная пара, иногда к ним присоединяется Скиппи. Еве кажется, что ее любят все трое: Джеф – упрямо, стоически; Том – тайно, отчаянно; Скиппи, понимающий, верно, что не имеет шансов, – самым забавным образом: он не боится выставить себя в смешном свете, ибо сознает, что в его случае все яснее ясного. Он строит Еве комичные любовные рожи, бросается к ее ногам, обнимает ее колени и в школьной столовке целует голубую пластиковую кружку, из которой она только что пила. И еще ходит изливать душу ее родителям: когда однажды вечером Ева возвращается домой с очередной платонической встречи с Джефом, Скиппи сидит в гостиной и распивает с ее матерью мятный чай.
– А вот и она, познакомьтесь, – восклицает он, увидев удивленную Еву в дверях. – Солнце дней моих, тьма ночей моих. Ева. Смертельная болезнь из трех букв.
Он надрывно стонет и бросается на ковер, причем расшибает лоб о журнальный столик. Евин отец, который не терпит Скиппи, хочешь не хочешь должен отвезти его в «неотложку», где ему накладывают шов на безобразно рассеченную кровоточащую рану.
Поступление Скиппи на медицинский факультет для ее родителей большая неожиданность, чем для нее самой, а когда через год-другой она сообщает им, что Скиппи специализируется по гинекологии, мать долго громко смеется.
Том – иной случай. Хотя Еве и импонирует, как в данной ситуации он стремится сохранить достоинство (иногда в этом есть даже нечто героическое, как бы высокопарно это ни звучало), но, с другой стороны, в его присутствии она никогда не чувствует себя достаточно свободно. Даже с болтливым Скиппи ей лучше, чем с вечно нахмуренным Томом, который избегает ее взглядов и самых легких прикосновений и по большей части вызывающе, подчеркнуто быстро уходит.
Алица утверждает, что ее сексуальность тогда была еще не разбужена,а теперь, дескать, снова уснула.Ева не знает, откуда у дочери эти выражения.
– Да, надеюсь, что твоя сексуальность тоже еще не разбужена, – говорит она, стараясь выглядеть строгой матерью.
– Ничего другого, как надеяться, все равно тебе не остается, – улыбается Алица таинственно, и Еве ясно, что она блефует.
– Ма-ам, – говорит дочь подозрительно протяжно, – какой мужчина тебе нравится? Например, из актеров?
– О господи… Оставь меня с мужчинами в покое.
– Ну скажи. Все-таки кто-нибудь должентебе нравиться! – Она обращает к ней невинный взгляд. – Или из певцов.
Ева весело качает головой.
– Почему ты не хочешь мне сказать?
Это звучит укоризненно, грустно. Ева убирает волосы с ее лба.
– Дан Барта, – серьезно говорит она спустя минуту.
Алица недоверчиво смотрит на мать, но когда убеждается, что это не розыгрыш, на ее еще полудетском лице появляется искренняя радость. «Она рада, что я еще думаюо сексе», – осеняет Еву.
– Клёво! У нас одинаковый вкус!
– А знаешь, где он мне особенно нравился? – говорит Ева с улыбкой, которая обязательно должна казаться Алице таинственной. – В «Букете». [19]19
Фильм режиссера Ф. А. Брабеца по мотивам баллад Карела Яромира Эрбена (1811–1870) – чешского поэта, фольклориста, сказочника.
[Закрыть]
– В «Букете»?
– Да, в этом фильме. Играет водяного.
Фуйкова
Всегда, когда иду к папе в Богницы, радуюсь деревьям в парке («радуюсь», пожалуй, тут сильное слово, но вы же знаете, что я имею в виду): столетние липы, пихты, ели, яворы, красные буки. С ранних лет подхожу к жизни абсолютно рационально и прагматично, тем не менее в данном случае не могу избавиться от ощущения, что эти вековые деревья создают ауру какого-то огромного мистического первозданногомира. Вы понимаете, что я хочу сказать? Повсюду флигели, полные безумцев, психопатов, умирающих алкоголиков, усталых сестер и нервозных посетителей, а эти деревья, несмотря ни на что, сохраняют абсолютный покой. Они стоят выпрямившись, сквозь кроны проблескивает солнце, в листве шумит ветер, и у человека чуть ли не создается впечатление, что никаких трагедий здесь не разыгрывается. Люди умирают, потому что пришел их час. И так будет вечно. Папина не слишком счастливая жизнь завершилась, и я, его дочь, здесь с ним. Все так, как и должно быть. Однако стоит мне подойти к зданию, где уже несколько месяцев лежит папа, деревья исчезают, меня окружают голые стены, и как только в открытую дверь ближайшей палаты я замечу первого хрипящего старика – иллюзии как не бывало. Разве может бук или явор примирить нас со смертью?
Глаза у него закрыты, но я знаю – он не спит.
– Привет, папа. – Я касаюсь его руки.
Он смотрит на меня, заросший как ров(по его всегдашнему выражению), в носу трубочка с кислородом. Его радость при моем приходе, похоже, непритворная. Я окидываю взглядом капельницу и осторожно присаживаюсь на край кровати. Пластиковый мешочек с мочой, подвешенный к продольной стенке кровати, уже полон, так что перед уходом надо будет его опорожнить.
– Ты хочешь подняться?
Он кивает. Меня беспокоит, что он еще не произнес ни слова. Я беру электрический пульт, слегка нажимаю кнопку, и папа под тихое жужжание медленно принимает сидячую позу – в ней есть что-то гротескное; я делаю это неохотно, никогда не могу найти правильное положение.
– Хорошо? – спрашиваю.
У отца недовольный вид.
– Ниже?
Опять кивает. Я опускаю его сантиметра на два, но он кривит лицо.
– Слишком?
Поддакивает глазами. Вдруг до меня доходит: никакого хорошегоположения для умирающего не существует. Когда вы умираете, никто, даже ваша дочь, никакое оптимальноеположение найти для вас не может.
Я возвращаю его в изначальную позицию, и он присвистывает. Иногда у него настоящие боли, другой раз он чуть переигрывает; вся проблема в том, что я не научилась это различать. Думаю, о чем я буду рассказывать ему в первую очередь.
– Знаешь, кому я вчера оформляла квартиру? – говорю я размеренно и называю имя менеджера известного банка.
Папа, как и следовало ожидать, преувеличивает свою заинтересованность: хватает меня за руку, сжимает ее и гладит меня по щекам. Господи, папа, говорю я про себя, ведь тому человеку я всего лишь помогала выбрать шторы… Папа нашаривает баночку на столике, чтобы надеть протез. Отец того, кто оформляет квартиры менеджерам самых больших банков страны, не может, однако, быть без зубов.
– Тебе бы надо зубы немного почистить, – советую я ему.
Он машет рукой.
– Уж как-нибудь и с такими доковыляю, – говорит. – Так как там пан генеральный, докладывай. Думаю, он в своей жизни автобусом не много наездил, а?
Мой менеджер за несколько минут сказочно повысился в должности, но пусть будет как есть. Очень упрощенно я описываю папе свой проект интерьера: выражения типа фарфоровый дозатор жидкого мыла (дизайн Бернарда Уитшета) или раскладывающаяся трехместная софа Рольфа Бенза со стальной решеткой и цельнокроеной обивкой в категориях: материя, кожа, алкантра я,естественно, из своего описания опускаю.
Не дури мне голову, наверное, сказал бы папа. Кровать всегда будет только кроватью.
Я с большим удовольствием рассказываю ему, что директорс супругой угостили меня кофе и что дважды налили семизвездочного коньяку.
– Ты дала себя уговорить, да? – победно улыбается папин протез.
Я радуюсь за него и, наверно, поэтому перестаю себя контролировать: делаю виноватый вид (уродливой) девочки и высовываю язык. Папа на мгновение отводит взгляд – мой вид, вероятно, и для него перебор. Здесь жарко, так что несомненно я вся лоснюсь. Человеческая кожа – барахло, приходит мысль. Как материал она даже не третьесортная: два изъяна на один квадратный сантиметр. Матовый хром, очищенная нержавейка или качественный пластик – совсем другой компот. Или упомянутая алкантра: лучшие качества кожи, не отличишь от шлифованной, а тефлоновое покрытие защищает ее от загрязнения. Если бы у меня вместо кожи была алкантра, мне тогда и душ ни к чему. Добавляла бы себе только тефлону. Папа засыпает.
Я получила аттестат с отличием (все четыре года гимназического обучения я на все сто сохраняла образ неказистой очкастой отличницы). Невесть почему папа хотел, чтобы я пошла учиться на ветеринара,но я отнеслась к этому реалистически: если дома я ежедневно вижу в зеркале себя, то по крайней мере на работе,разнообразия ради, хорошо бы мне смотреть на нечто красивое. Профессия типа зубного или ветеринарного врача тем самым автоматически из моего выбора выпала. Неужто до конца жизни я должна смотреть скотине в задницу?
Папе я объявила, что буду дизайнером.
– А что ты хочешь проектировать? – сердился он. – Чтобы хорошо обставить квартиру – для этого не требуется никаких проектировщиков. Поставить там стол, несколько стульев, ковер, и дело с концом. Какие еще проекты… Кровать всегда будет только кроватью.
Проектировщик не нужен был папе даже для того, чтобы красиво оформитьавтобус: на приборную доску он прилепил кусок ковра вишневого цвета (на вид и на ощупь какая-то несносная искусственная ткань с высоким ворсом), к нему привинтилрезинового песика с головой на шарнире и королевские регалии из золотого пластика, а над лобовым стеклом повесил цветные флажки со знаками всех городов, которые посетил на автобусе. И это было то, что надо.
Я окончила Высшую школу прикладного искусства, получила диплом (с отличием, а как иначе?), а месяцем позже одержала победу на первом же конкурсе, в котором участвовала. Папа был в шоке, но меня это опять же особенно не удивило. Отвергнутые претендентки на данное место училисьдизайну всего лишь пять лет, тогда как о красоте, симметрии, взвешенности, пропорциях и так далее я размышляла с детства по шестнадцать часов в сутки, а оставшиеся восемь видела их во сне. Меня никто не мог переплюнуть. Перед самым конкурсом я еще опрокинула две стопки кряду – и этих красивеньких трезвых бедняжечек положила на обе лопатки.