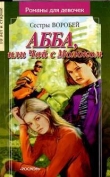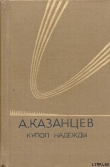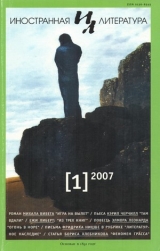
Текст книги "Игра на вылет"
Автор книги: Михал Вивег
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Том
Утром в ванной что-то меня озадачивает: я тщательно пострижен (свадьба есть свадьба), зеркало чистое. Умывальник тоже. Озираюсь: ванная убрана. История повторяется.
Вхожу в кухню, на столе накрыто на три персоны – значит, на совместный завтрак заявится и Джеф. Скиппи стоит у плиты и готовит мне яичницу с ветчиной.
– Невероятно, – констатирую я.
Скиппи широко улыбается, потом вытаскивает из морозилки бутылку финской водки.
– Спасибо за завтрак, Скиппи, но водку, правда, не буду, – сопротивляюсь я. – Во-первых, завтра утром женюсь, а во-вторых, перебрал уже вчера.
– Человек не должен довольствоваться тем, что говорит банальности. Все, что ты говоришь, столь предсказуемо… Почему ты хоть иногда не попытаешься быть оригинальным?
Это почти те же фразы, которые я обычно говорю ему.
– Хорошо. Скажу тебе то, что не может не удивить тебя: вчера ночью я напился с Фуйковой и ее мужем.
– Не трепись! Ты напился с Фуйковой? – искренне изумляется Скиппи. – А почему?
– Случайно.
– Почему кое-кто позволяет себе напиваться с женщиной, похожей на шакалью мамочку?
А почему кое-кто позволяет себе через день напиваться с тем, кто похож на пингвина и называет себя Скиппи, точно он кенгуру? – задаюсь я вопросом.
– Господи, Скиппи… Откуда ты только выуживаешь свои метафоры?
– Супер, да?
– Не знаю. Я не знаю, как выглядит шакалья мамочка…
– Жутко, – смеется Скиппи. – Как Фуйкова.
Пустой разговор. Скиппи разливает водку, но я решительно отказываюсь.
– Ты женишься только завтра в полдень, – напоминает он мне. – Кстати, не должен ли я осмотреть невесту?
– Тебе бы я не доверил ее, даже если бы у нее было сильное кровотечение.
– Не доверил бы? – спрашивает Скиппи простодушно. – Почему?
– Ты бы не разобрался.
Ладно, сдаюсь: беру рюмку и обдумываю тост.
– Итак, юбки кверху! – рявкает Скиппи.
Я знаю его с начальной школы и убежден, что его жизненное поражение (если допустить весьма спорное утверждение, что в человеческой жизни может существовать и что-то вроде победы) коренится уже в первом успешном паясничании: в десять лет раздеться по пояс в школьной столовке во время обеда, лечь на стол старшеклассниц, вывалить себе на грудь две миски ванильного пудинга и соответствующим образом задергаться – это и вправду требует смелости. Сумеешь – станешь самой знаменитой персоной в школе: неделями и месяцами будут ходить смотреть на тебя целые толпы… За этот успех Скиппи расплачивается по сей день. Он жертва собственных фантазий. Тридцатилетний мужчина, заживо погребенный в школьном ерничестве. Мне часто приходит на ум, что при созревании самое худшее не угри, не сексуальные муки или прочие неурядицы; самое худшее, что вопреки своей полной растерянности и беспомощности ты стараешься выглядеть нормально.Самое страшное в пубертате – деланая непринужденность. Ясталкиваюсь с ней в школе ежедневно. Иногда хотелось бы сказать ученикам: А вы только попробуйте представить, что нам, взрослым, раскусить вас ничего не стоит. Мы же видим, что вы глупы и не уверены в себе, – так почему вы корчите из себя таких cool? [32]32
Крутой (англ.).
[Закрыть]Почему вы, безнадежные идиоты, все время твердите, что вы в полном порядке, – хотя вас, к примеру, запросто лишили любви всей вашей жизни?
Джеф
Десять часов утра, а выпили больше чем полбутылки водки. Несмотря на то что Джеф после каждой рюмки старается закусить, он чувствует себя сильно под мухой. Даже завтракатьс Томом и Скиппи означает напиваться, недовольно думает он. Что до него, он лучше рванул бы куда-нибудь на велосипеде. Такой пологий многокилометровый подъем по узкой деревенской дороге, окаймленной яблонями, – вот именно то, что надо. В облетевших кронах сморщенные яблоки, на траве иней. Здорово, что в воскресенье он отправится на велосипеде в Врхлаби.
– Мне всегда казалось, что питье по утрам – самое лучшее дело, – говорит Том. – Вечером я усталый, алкоголь частенько меня забирает, а по утрам я полон сил и могу быть равноценным соперником.
Скиппи, взглянув на Джефа, усмехается.
– Он опять говорит как по писаному. Или пьян вдребадан!
– Это не совсем точно, – возражает Том. – Я только что объяснил тебе, что по утрам могу сильно поддать, но одновременнооставаться в трезвом уме. Встречал же ты умных питухов?
Джеф перестает слушать – при желании он может совершенно вырубиться. Болтовня Тома действует ему на нервы. Когда Тому было семнадцать, Вартецкий похвалил его поразительно богатыйчешский – и этим он пробавляется до тридцати, думает Джеф. Иногда Том кажется ему маленьким мальчиком, который получил новый велосипед и с утра до вечера колесит на нем по поселку, чтобы уж наверняка быть уверенным, что все его заметили. Однако со временем это приедается!
– А знаешь, что хуже всего? – говорит Том Скиппи. – Только я немного окреп духомпосле тридцати, только свыкся с расстегнутыми пуговицами и большим декольте, – повторяет он для Джефа, перехватив его взгляд, – как в моду вошли короткие майки.
Он делает многозначительную паузу.
– А вместе с ними и голые животики. Обнаженная интимность пупочка. Иногда и две ямочки над попкой.
– Ах, боже, эти попки! Красивые упругие попочки! – выкрикивает Скиппи.
– А если майка коротка и достаточно отстает от тела – тут тебе и новый, небывало возбуждающий вид грудей снизу.
Скиппи впивается зубами в указательный палец.
– Груди снизу? – удивляется Джеф – В таком случае ты должен стать на колени, что ли?
Том игнорирует его.
– И только ты ценой больших усилий привыкнешь к этому, только почувствуешь, что самообладания ты все же не теряешь и даже при виде этих эротических изысков…
– Сможешь удержать мочу, – язвительно вставляет Джеф.
– Сможешь сохранить минимальное человеческое достоинство… как вдруг появляются брюки на бедрах.
– Обожаю брюки на бедрах! – выкрикивает Скиппи.
– С выглядывающими трусиками.С бесстыдно, вульгарно, пикантно, вызывающе выставленными на показтрусиками. То, что раньше дозволялось видеть единственному мужчине, теперь могут видеть абсолютно все—в этом крутая сущность этой моды. Каждый из нас по несколько раз на дню пользуется статусом избранного, но без всяких решающих преимуществ. Мы вправе посмотреть, но не вправе дотронуться. Это кружево – предвестник наслаждения, которого никогда не будет.
– Потрясно! – выкрикивает Скиппи, точно в молодости.
Том, очевидно, собой доволен.
– Клара не носит брюки на бедрах? – спрашивает Джеф.
– Носила их даже в школу. А как, по-твоему, она захомутала меня?
Джеф после недолгого колебания чокается с ним.
– Пусть у вас все будет хорошо!
– За жениха и невесту! – выкрикивает Скиппи.
– А теперь кое о чем тебя спрошу я, – говорит Том Джефу, отставив рюмку. – Хочу спросить тебя уже давно: она спала с Вартецким или нет?
– И то и другое правдоподобно, – говорит Том. – Тем не менее ты нам не ответил.
Джеф выпивает, чтобы выиграть время. Он уже знает, что скажет Тому, хотя и чувствует, что в этом есть нечто злорадное, почти мстительное.
– Спала.
– Я так и думал, – спокойно говорит Том, но при этом негодующе качает головой.
– Тянулось это годы.
– Годы?!
Том роняет лоб на ладони. Джеф и Скиппи обмениваются взглядами.
– Что ты психуешь? – говорит Скиппи. – Это же доисторические времена.
– Вот потаскуха, – бормочет Том. – Проклятая потаскуха!
Фуйкова
Нам, страхолюдинам, остальные люди кажутся не только красивее, но и самоувереннее, умнее, уравновешеннее и в целом счастливее, и мы обычно балдеем, обнаружив, что бывает по-другому. Когда, например, на свадьбе Тома Ева впервые видит Клару, она тотчас замыкается в себе. И я не одна, кому это заметно. Джеф несколько раз спрашивает ее о чем-то, но она не отвечает. Общается только с маленькой Алицей. Мы с несколькими одноклассницами идем к ней поздороваться и, главное, узнать, как она относится к такому скандальному сходству.
– Ну, что ты скажешь на это? – спрашивает Зузана, многозначительно косясь на молодую невесту.
– Ничего не скажу.
– Я не знала, что у тебя есть младшая сестра…
– Ха-ха.
Впрочем, и Клару вид Евы заметно нервирует – она все время поворачивается к ней спиной. Меня посещает мысль, что они ведут себя, как две женщины, которые пришли на вечеринку в одинаковых платьях.
– Хотя она и красива, – говорю я, – но одной основной вещи ей не хватает.
– Какой? – осторожно спрашивает Ева.
– Твоего порядкового номера, что дается при рождении каждому.
Она признательно гладит меня.
Мария добирается с получасовым опозданием (обряд бракосочетания уже кончился, Клара с Томом фотографируются). На подмышках ее желтого платья темные круги. Женщина, что присматривает за Себастьяном, задержалась в пробке, оправдываясь, объясняет она. Нас всех она по очереди обнимает – меня даже первую. Не переставая улыбаться, она все время что-то рассказывает: преподает в первой ступени начальной школы, играет с детьми в Медвежонка Пуфаи ходит на йогу. У нее уже есть новый избранник,но пока она сохраняет дистанцию.
– Все дело в том, что мужики ужасно безответственны, – усмехается она, – сделают женщине пацана, а потом спокойно позволяют бронетранспортеру переехать себя…
Мы растроганно молчим.
– А у вас двоих, надеюсь, полный порядок? – обращается она к Джефу и Еве.
– Ну да, – отвечает, чуть помедлив, Джеф. – У нас – полный.
Ева пожимает плечами. Мы все это видим.
– Когда нет настоящей жизни, все – говно, – заключает Мария.
Том
По радио какая-то обычная попса, и Клара дистанционным пультом усиливает звук. Я раздраженно отрываю взгляд от работ по стилистике за четверть, но она – ноль внимания: лежит на софе «Карланда» и читает журнал «Еllе». Серебряным острием ручки слегка постукивает себя по губам. Вдруг я замечаю, что губы ее шевелятся. Без сомнения, она знает этот дебильный текст наизусть.
Обстановка нашей однокомнатной квартиры – тройной компромисс: прежде всего нужно было согласовать Кларины представления (романтизм девичьих комнатушек, стиль ИКЕА) с моими (оригинальность, минимализм, целесообразность), результат соотнести с финансовыми возможностями и наконец – из вежливости – еще и с несколькими эскизами Фуйковой, которые, учитывая нашу многолетнюю дружбу (как несколько возвышенно она выразилась), она выполнила совершенно безвозмездно.
– Предупреждаю заранее, что квартиры со вкусом наводят на меня скуку, – процитировал я ей Генриха Бёлля.
– Н-да, если обустройство жилища предоставишь ей, скучать тебе не придется, – сказала Фуйкова резко, просмотрев Кларины цветные эскизы на листке в клеточку.
Тем не менее последний год мы скучаем оба (обладаю красотой – и скучаю; никогда не поверил бы, что такое возможно). Мы даже признаемся в этом: вместе вслух раздумываем, кого бы вечером позвать в гости. Когда идем куда-нибудь посидеть, бывает ненамного лучше. Кларины сверстники по большей части раздражают меня, она же с моими друзьями испытывает сходные чувства: обещаю ей образованного, забавного молодого журналиста, а выходит, что с нами весь вечер сидит лысый тридцатилетний тип, который талдычит исключительно о себе или экзаменует ее по истории литературы. И так далее. Литература ей давно осточертела. Ее интересуют вещи, которые откровенно безразличны мне: танцевальная музыка, роликовые коньки, компьютерная графика, снаряжение сноубордиста. Она предъявляет законные права молодости – и я чувствую себя уязвленным. Я пью и учу пить ее; опьянение обнажает в ней диковинное свойство: в постели с шокирующей готовностью она делает абсолютно все, что в приливе вожделения я требую от нее. Мне становится ясно, что рано или поздно она изменит мне. Мы готовим еду, толстеем, занимаемся гимнастикой. Размышляем о сексе втроем, вчетвером и ревнуем того, кто первым предложит это. Лжем себе. Говорим себе правду. Изменяем друг другу. Думаем о разрыве, расходимся и миримся. Наконец – давняя мечта обоих – мы окончательно разводимся.
Скиппи
Авиабилеты невообразимо дешевеют, вчера я попробовал посмотреть это в Интернете. Париж – три тысячи, Лондон – две с половиной. Чему тут удивляться, что к нам летают целые стаи надравшихся британцев, словно это не самолеты, а трамваи. Мельбурн – двенадцать. Десять лет назад Австралия стоила тридцать. Прошлым месяцем Клод написал мне, что я боюсь геев даже из Австралии, потому как теперь, когда билеты стоят сущий пустяк, они и вправду могут нагрянуть. До этого, дескать, он классно летал over the ocean, [33]33
Через океан (англ.).
[Закрыть]но на том все и накрылось, а теперь и рядовой мельбурнский библиотекарь может летать туда-сюда, и это сильно напрягает меня. Не моргнув глазом, я отстукал ему, пусть, мол, нормально прилетает, я подожду его с пятью чайными розами в зале прилета, но в следующих трех mailʼах убедительно отговорил его. Когда представил себе, как он сует в чемодан совсем новые плавки, я дико взбесился. Он, в натуре, рассвирепел и отписал мне, чтобы я нашел себе кого-нибудь с Марса: если там открыли воду, может, сыщется и какой пидор, но и тот с бухты-барахты фиг ко мне прилетит. Fuck you! – набил я. Ты ведь это не умеешь, отстукал он тут же. Что правда, то правда: я всегда под кого-нибудь кошу. В классе я изображал прикольщика, в приемной стараюсь имитировать вежливых докторов из американских фильмов, а перед Джефом и Томом корчу из себя настоящего мачо: не хожу за покупками, за собой не убираю и отпускаю непристойности. Ха-ха. Понятно, я не актер и частенько переигрываю, так сказать, выхожу из образа, но думаете, эти два мудака хоть раз заметили это? Они такие тупые, что помогают мне даже девок снимать. Не знаю, что надо было бы мне выкинуть, чтобы до них за эти двадцать пять лет хоть что-то дошло. Самое лучшее – выложить им все начистоту. Но именно этого я сделать никак не могу: если четверть века ты во всю глотку смеешься над анекдотами о пидорах – или даже сам их травишь, – тебе уже трудно признаться, что ты, между прочим, того же сорта. Кстати, Джеф, не говорил ли я тебе, что я педик? Нет, такое просто нельзя представить. Признание может быть, в натуре, слегка запоздалым, но спустя двадцать пять лет – это большой перебор. Иными словами, мне ничего не остается, как тащить дальше свою голубую тележку, хотя, если авиабилеты будут так дико дешеветь, Клод однажды свалится как снег на голову, и я прямиком пойду покупать себе кожаные трузера в обтяжку и розовую рубаху. Но мне еще повезло, блин, что тогда в первом классе я не стал переписываться с кем-то из Советского Союза, а то вместо библиотекаря из Мельбурна прилетел бы голубой сталевар из Кузбасса, и Джефа пришлось бы откачивать.
Джеф
После развода Джеф получает Алицу раз в неделю на вторую половину дня и каждый четный уик-энд. Чаще всего они ходят плавать в Подоли или в кино. В выходные почти всегда выезжают из Праги: зимой на лыжах, летом с палаткой или на велосипеде. Когда теперь Джеф спрашивает Алицу о тех прогулках, то разочарованно обнаруживает, что большинство из них она уже не помнит. Но все равно это имело смысл, убеждает он себя.
Что Алица помнит, так это паясничание Скиппи – со временем он тоже присоединяется к ним, готовый смириться даже с тем, что не увидит выдающегося футбольного или хоккейного матча. Джеф с самого начала решительно запретил ему при Алице говорить непристойности, и Скиппи, к удивлению Джефа, подчинился. Он, правда, ведет себя еще инфантильнее, чем обычно (присутствие маленькой Алицы для него оправдание): на улице фокусничает, подпрыгивает, кривляется и сочиняет для Алицы стишки типа «Выкопайте кратер, говорит патер. / Зачем спешить? Слона хоронить». Подобные рифмы потом целыми неделями Джеф так раскручивает, что его дочка в восторге, а это главное.
Несколько лет спустя с ними стал ездить Том. И он быстро завоевывает Алицу: обнаружив, что она любит страшные рассказы, он читает ей специально переработанные стихи для всяких киношных ужастиков (Джефу приходится укрощать его, чтобы Алица могла потом заснуть). Хорошо и то, что во время их совместных уик-эндов он гораздо меньше пьет – тем самым его обычные словесные излияния сводятся к приемлемому минимуму.
Джеф убежден, что по мере того, как Алица созревает, она все больше напоминает Тому Еву. Во всяком случае, он часто исподтишка смотрит на нее.
– Существует ли на свете нечто более совершенное? – говорит он Джефу однажды вечером во время уик-энда на реке Сазава.
Глазами он указывает на сидящую чуть поодаль Алицу, которая отсутствующим взглядом смотрит на огонь; на ней Джефова черная фуфайка с капюшоном, которая настолько велика ей, что закрывает поджатые коленки. Щеки покрыты легким румянцем, а прядь светлых волос на левом виске кажется пушком.
– Я уже никогда не оставлю тебя с ней наедине, – шутит в ответ Джеф, но про себя соглашается с ним.
В последние годы они берут Алицу и в Берлогу.Ева поначалу была против, но потом Скиппи настоял – пусть сама проверит квартиру (перед этим они целый день убирали), и она не без колебаний согласилась. Каждый раз, конечно, перед приходом Алицы они убирать не успевают, однако жизнь среди пустых бутылок, банок из-под пива и обвалившихся куч прочитанных газет и журналов ей по нраву.
– Мы для нее своего рода аттракцион, понятно? – говорит Джефу Том. – Мамина вылизанная квартира – нудный прогматизм, в то время как это андерграунд.В ее глазах Берлогапредставляет собой нечто вроде очага независимой семейной культуры.
– Ты маму тоже любил? – спрашивает однажды Алица Тома.
Она смотрит на Скиппи, берет край своей майки двумя пальцами и зажимает его зубами. Том делает вид, что не слышит. Алица тормошит его за плечо.
– Ты любил маму или нет? – настаивает она.
– Конечно. Ты же знаешь, что у меня слабость ко всяким ужасам.
Алица смеется, тем не менее от нее невозможно отделаться.
– Нет, скажи мне, – упорствует она, – ты любил ее?
Том поворачивается к ней:
– Любил. Она была… невероятно красива. Она невероятно красива.
Алица кивает.
– Но встречалась она с Джефом, – объясняет ей Том. – В жизни это случается.
Алица задумывается. На майке у нее большое мокрое пятно.
– Выходит, вы любили ее все, – внезапно смеется она. – Все трое.
– Скиппи нет, насколько я знаю, – уверенно замечает Джеф.
Скиппи явно смущается.
– Скиппи, – заявляет Том, – по-моему, любил ее тоже.
– Ну конечно, он любил ее, – решительно говорит Алица и смотрит на отца. – Иначе он не ходил бы к нам до сих пор, правда?
Для Джефа это новость – и для Тома тоже, как тотчас же определяет Джеф по его виду. Никто не говорит ни слова. Алица испуганно поводит глазами; останавливает взгляд на Скиппи.
– Ой, sorry, – извиняется она. – Я, должно быть, что-то брякнула, да?
Том просекает первым:
– По средам? Он ходит к вам по средам?
Алица нерешительно кивает. Скиппи краснеет.
– Значит, никакого «Jagrʼs-бapa»? Никаких широких плоских экранов? Никаких мужиков и разливного пива, никакой суператмосферы?
– Я смотрю там футбол! – выкрикивает Скиппи.
– На экране с диагональю пятьдесят пять? – спрашивает Джеф.
Скиппи складывает руки.
– Что вы вообразили себе? – повышает он голос. – Вы идиоты! Вы настоящие идиоты!
Джеф и Том молча смотрят на него. Скиппи падает на колени.
– Клянусь жизнью и здоровьем всех своих близких, что это правда! Мы смотрим футбол! Ничего больше! С вас довольно?
Сцена тягостная, но весьма убедительная. Том уже опять улыбается.
– Разве ты не знаешь, Скиппи, что Еву забронировал Джеф? – говорит он в тщетной попытке пошутить.
– Что значит забронировал?
Когда чего-то не понимаешь, не спрашивай, вспоминается Джефу.
Фуйкова
Мой муж Борис – дежурный в подземке. Его жизненное назначение – предупреждать пассажиров, что приходящий поезд следует до станции Качеров. После всех девичьих снов о преуспевающем, богатом муже, который, уходя на работу, каждый раз с улыбкой посылает мне воздушный поцелуй (я и трое наших прелестных детей стоим на застекленной террасе загородной виллы в стиле функционализма), я живу в заштатном районе в панельном доме с человеком, который восемь часов в день гнобит людей за то, что они перешли черту безопасности.
Когда по пути к преуспевающим людям, которым обставляю квартиру, мне не удается миновать станцию, где работает Борис, иду по крайней мере так, чтобы он из своего гнезда не мог заметить меня. Поджидая поезд, я смотрю на красивых девушек и мысленно пытаюсь отгадать, как они будут выглядеть лет через десять-двадцать, – по существу, это лишь подобие компьютерной симуляции интерьера (ни одна из молодых женщин, самоуверенно входящих в вагон, наверняка не подозревает, что в голове располневшей, плохо постриженной пожилой брюнетки они могли бы увидеть свой довольно точный будущий облик). Но я, разумеется, все время настороже, и если в станционных репродукторах вдруг раздается треск, возможно, я единственная, кто его замечает.
– Просим пассажиров, следующих в направлении Гайе, не переступатьполосу безопасности, – звучит голос моего мужа, автоматизмом измененный до неузнаваемости.
Я впиваюсь глазами в серый мрамор платформы.
– Просим пассажиров, следующих в направлении Гайе, не переступатьчерту безопасности!
Во втором объявлении даже тот, кто моего мужа не знает, может расслышать усталость и полное смирение. Тучный мужчина, к которому обращено это предостережение, по-прежнему наклоняется над рельсами, очевидно заинтересовавшись чем-то. Оглядываю его одежду – по ней сразу определяю, что это иностранец. Подъезжающий состав уже слышен в тоннеле.
– Не переступайте полосу безопасности! – раздраженно кричит Борис в микрофон и, выбежав в конце концов на платформу – худой, бледный, в мешковатой коричневой униформе, – оттаскивает толстяка за рукав. Иностранец пугается, но, поняв ситуацию, начинает сверх всякой меры извиняться. Мой муж ни одного чужого языка не знает; изображая возмущение, он хочет отойти, однако толстяк хлопает его по спине и даже пытается по-дружески обнять. Поезд останавливается, выходящие пассажиры с любопытством оглядывают эту странную пару. Я быстро вскакиваю в вагон, двери закрываются. Я еще успеваю увидеть, как Борис растерянно улыбается, и тут же прикусываю нижнюю губу, чтобы не разреветься. Это срабатывает так же хорошо, как щипок в ладонь.
И в том и в другом у меня многолетняя практика.
Мой избранник – дежурный в подземке, и я постоянно испытываю потребность объяснять это. Странно: теоретически, разумеется, знаю, что жизнь невообразимо разнородна и многозначна и противится всем упрощающим объяснениям и так далее, но, столкнувшись на практике с признаками подлинногожизненного разнообразия, я обычно балдею. Вижу идущего по Карповой улице чернокожего с пасхальным яичком – и пялюсь на него как на привидение. Впрочем, за примерами ходить далеко не надо: до сих пор меня приводит в ужас, что мой муж Борис может быть одновременнодобряком и ксенофобом, одновременночутким и ограниченным. То он тонкий и нежный, а то ведет себя как хрестоматийный дуболом (для теленовеллы персонаж абсолютно неподходящий).
Осмелюсь нескромно утверждать, что кое-что из лучшего в Борисе – моя заслуга. Многие его знакомые до сих пор не перестают с одобрением замечать, насколько Борис вырос бок о бок со мной (бокастой). Я встретила его в 1991 году в двухдневной автобусной поездке в Венецию (папа тогда стал водить новый двухэтажный «неоплан», о котором дома говорил так долго, что я тоже записалась в эту поездку); Борис путешествовал один. Мне понравился его спокойный взгляд и слегка поседевшие виски; кроме того, на нем были белыеплетеные сандалии – если бы из них не торчали махровые носки с перекошенными надписями SPORT на обеих щиколотках, а над ширинкой дешевых джинсовых бермуд не болталась большая поясная сумка искусственной кожи, я могла бы принять его за врача. (Врачи, естественно кроме Скиппи, на моей личной эротической лестничке следуют сразу за тореадорами; сама не знаю почему – может быть, подсознательно – я связываю врачей с безопасным, продезинфицированным сексом, только как в таком случае объяснить себе всех этих потных и несомненно промискуитетных тореадоров?)
Борис сидит впереди, он часто слегка наклоняется и наблюдает за папой, управляющим автобусом; когда папа за рулем чертыхается на какого-нибудь кретина итальянского,чья машина протискивается вперед, Борис согласно кивает. Сейчас папа сигналит впереди идущей машине – подозреваю, что он просто хочет услышать мощный, густой звук клаксона, и из окошка черного «гольфа» вылетает рука с поднятым средним пальцем.
– Итальяшка хренов! – облегчается папа.
Второй водитель беспробудно спит, и папа в зеркале заднего вида сперва прощупывает глазами меня, но, не дождавшись никакой моральной поддержки, переводит взгляд на Бориса.
– Куда только этот дуралей торопится? – говорит Борис заискивающе.
На остановках у пришоссейных мотелей они обмениваются двумя-тремя фразами. Папа продает людям кофе из автомата, а я с ироничной, даже извинительной улыбкой (которая для большинства из них полная загадка) выдаю им пластиковую ложечку, молоко и сахар. Борис постоянно вертится рядом: очевидно, он не понимает моего положения, но боится спросить. Его уверенность в себе тогда была невелика: если в кино занимают его место, он предпочитает найти другое; если свободного нет, он садится на ступеньку. Перед продавщицами до тридцати – заикается. И так далее. Хотя позади у него две продолжительные связи, однако время, когда он был один со своими комплексами, куда как перевешивает. Кто другой, кроме меня, мог бы понять его?
На обратной дороге он уже оживленно беседует с папой. Отец – чудеса в решете! – не раз даже разражается смехом.
– Я заметила, у тебя новый приятель, – говорю ему на ближайшей гигиенической остановкеи незаметно киваю в сторону Бориса. Отец делает вид, что не понимает. Он обходит автобус с ведром в руке и смоченной щеткой удаляет с фар мертвых насекомых. Я послушно семеню за ним.
– Или между вами возникло нечто более глубокое?
Отец отставляет ведро и жестом грозит мне воспитательной оплеухой (гомосексуалистов он не выносит и называет их не иначе как пидорами).Потом сообщает мне, где Борис работает.
– Выходит, – улыбаюсь я, – вы нашли общий язык прежде всего благодаря распространенному мнению, что все пассажиры – скоты?
– О пассажирах мы пока не говорили, – отвечает папа чопорно. – А если бы и говорили, то в этом пункте мы тоже сошлись бы.
– Тоже?В каких же пунктахвы еще сходитесь?
Наконец он пристально смотрит на меня.
– Думаю, это порядочный парень, – произносит он наступательно.
Мы обмениваемся взглядами.
– Папа, перестань! – предупреждаю я его.
– Во всяком случае, это было бы хоть что-то, – продолжает он с уязвляющей меня откровенностью.
Этим что-тоон дает мне понять, что знает о моем ничего.
– Тогда я лучше поеду автостопом, – говорю я.
В конце поездки мы с Борисом, на радость папы, знакомимся. Борис заикаясь спрашивает меня, часто ли я езжу с отцом.
– Только когда ему дают «неоплан», – шучу я. – В «каросу» я бы не влезла.
Папа смеется. Борис осмеливается на прямой вопрос.
– А когда у тебя, Зденек, снова будет «неоплан»?
Я потрясена: они уже на «ты»!
– В следующие выходные. Еду на два дня: Вена – Микулов. Поедешь? – обращается он ко мне.
Я пронзаю его взглядом.
– Не знаю!
– Я бы поехал, – говорит Борис.
В винном погребке в Микулове перехожу на «ты» с Борисом и я.
Темой для разговора за неимением иных возможностей выбираю самоубийство Ирены; к моему удивлению, Борис знает подробности. Да, его коллега тогда действительно заметил ее. Какое-то время она металась по платформе, однако не переходила полосу безопасности – потому он и не остановил ее. Она, мол, и на людей натыкалась.
– И это не бросилось ему в глаза? Почему он ничего не сделал?
– Новичок был, – говорит Борис. – Работал всего с неделю.
– Ну да.
– А ты представь, сколько разных психов за день там перебывает?
Его бестактное замечание задевает меня. Ирена вовсе не была психом,возражаю я про себя. Это была просто несчастная уродливая девочка, жизнь которой была сплошным адом.
После возвращения мы без особого напряга переживаем и неизбежную встряску под названием первое настоящее рандеву.После второй, неожиданно милой встречи начинаю нервничать. До сих пор дело ограничивалось прощальным поцелуем, но что будет через неделю? Естественно, я не могу сказать Борису, что я девственница (с учетом техникимоих эротических игр, по счастью, и не должна). Девственница в двадцать восемь лет – это ненормально, это бы его напугало, я сразу бы в его глазах превратилась в товар, который никто не покупает.
Итак, с илистого дна шлюза на Стрелецком острове я опять извлекаю Либора: умываю его, высушиваю и оживляю. Еще несколько дней назад это был раздутый зеленый труп, а теперь он снова мне улыбается. Он уже снова курит и стряхивает пепел в ладонь. Я снова выучиваю все необходимые реалии – с неохотой, но не без некоторой сентиментальности, так актер повторяет давно забытую роль. Но один любовник за двадцать восемь лет – не ничтожная ли это малость? Разве я могу так себя недооценивать, размышляю я, черт подери, надо больше в себя верить. Почему бы мне до двадцати восьми лет не иметь по крайней мере двухлюбовников? Но кто, как не я, должен придумывать этих мужчин? – злюсь я на себя. – Кто, как не я, должен обо всем этом помнить? И вдруг меня осеняет: включу-ка я в игру Петра Станчева, удачно женатого коллегу из нашей фирмы. О нем знаю достаточно, значит, кроме секса, не надо ничего врать. Я женщина, которая попытается убедить партнера, что с коллегой по работе у нее что-то было.
– А почему со Станчевым все кончилось? – интересуется спустя время Борис.
– Обрыдли мне его фальшивые обещания, – говорю я.
После того как мы с Борисом впервые сблизились, он стыдливо спросил меня, были ли те предыдущие намного лучше.
– Ты пытаешься сравнить несравнимое, – говорю я нарочито двусмысленно.
– Что ты имеешь в виду? – спрашивает он подавленно.
Ох уж эти мужики, прости господи!
– Петр всегда спешил домой – разве тебе не понятно? Тыр-пыр – и домой к маме.
Борис улыбается.
– Прежде чем я вообще начинала что-то испытывать, все было кончено.
С минуту он нежно гладит меня, потом не выдерживает:
– А Либор?
– Либорчик был ребенок, – говорю с нежным пренебрежением. – Совсем мальчишка.
Я наклоняюсь к Борису.
– Ты хочешь знать, как выглядят маленькие мальчики? – шепчу я ему.
Он качает головой, но меня не обманешь. Знать этого он не хочет, но слышать хочет.
– Я вообще не чувствовала его в себе, – говорю и стыдливозакрываю лицо.
Впрочем, и на этот раз я не вру.