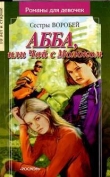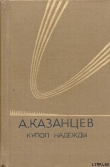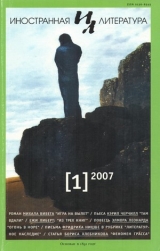
Текст книги "Игра на вылет"
Автор книги: Михал Вивег
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Фуйкова
Факт: я родилась двадцать второго ноября тысяча девятьсот шестьдесят третьего года – точно в тот день, когда застрелили Джона Ф. Кеннеди (иной раз думаю: не предвещало ли символически это покушение все последующие преждевременные смерти…); отец – разведенный тридцатипятилетний водила автобуса, мать – семнадцатилетняя ученица средней экономической школы.
Все эти годы мама нисколько меня не интересовала; большую часть из того, что знаю о ней, я услышала от отца только в прошлом году, да и в нынешнем – в больнице. Если у вас есть опыт регулярных посещений так называемых долговременных больных, тогда вы наверняка знаете, как медленно у нас, у здоровых, возле них течет время. К чему обманывать себя: после полугода, если не раньше, наши запасы жалости и сочувствия в основном исчерпаны и на складе нашего сердца начинают вырастать голые стены обязанности и скуки (подчас ловлю себя, что говорю в стиле Тома). Все темы, которые только можно вообразить, мы с папой обсудили и в последние недели по большей части молчим, рассматриваем голубые полосы на несвежем казенном пододеяльнике и временами обмениваемся ободряющей улыбкой. В часах на белой стене каждую минуту раздается сухой щелчок. Я придумываю, что бы еще ему сказать, – только о чем можно рассказывать тому, кого через несколько месяцев скорей всего здесь не будет? Попробуйте рассказать умирающему о трудностях парковки или о новых тенденциях скандинавской мебели… Осознание этого с самого начала так ошеломило меня, что через две-три недели я довольствуюсь любым более или менее приемлемымсюжетом для разговора – даже таким, который еще недавно в нашей неполной семье был под запретом.
– Кстати, я даже не знаю, где вы познакомились? – непринужденно спрашиваю я, но на самом деле чувствую почти извращенное, мазохистское возбуждение. – Я имею в виду с моей матерью? – уточняю с иронией.
Отец в первую минуту выглядит растерянным, потом ухмыляется. Вот что в конце концов от всего этого останется, говорю я себе: одна ухмылка. Снова осознаю, как приближающаяся смерть меняет масштаб. Многолетняя семейная драма вдруг оборачивается пустяковым эпизодом. У папы сухие губы, я даю ему минералки с апельсиновым привкусом. Мне кажется, что пластиковой бутылке он уделяет больше внимания, чем вопросу о моей матери.
– Я спросила, где вы познакомились?
– В автобусе, – говорит он, – а где же еще?
Они ездили в его школьном автобусе пять раз в неделю – всей группой.Утром и затем после обеда. Двеиз них уже несколько месяцев делали ему глазки. В тот злополучный день особливо онавела себя так развязно, что он хотел высадить ее из автобуса.
– Именно так и надо было тебе поступить, – вырывается у меня. – И лучше всего – на ходу.
Он принимает обиженный вид, но потом, вопреки нарастающей душевной дряхлости, видимо, осознает, что возражение типа: Как ты говоришь о маме! —в нашем случае звучало бы довольно абсурдно. Он улыбается беззубым ртом – меня это не трогает, я уже привыкла к его облику.
– Да, видать, надо было.
Я не перестаю расспрашивать и из папиных скупых ответов складываю мозаику того февральского дня: после школы обе поехали с ним на конечную остановку и там отказались выйти. Предложили ему сигарету, чтобы умаслить его. Папа одну взял – в конце концов, у него был сорокаминутный перерыв. Красивей, мол, была та, что повыше, только она пошла в аптеку за дистиллировкой для мамы, пока еще не закрыли.
Я не верю своим ушам.
– Постой, – огорошенно восклицаю я. – Значит, если бы у мамы той, что повыше, не кончилась дистиллировка, она могла бы стать моей бабкой?
С минуту он соображает. А потом, рассмеявшись, несколько раз повторяет за мной эту шуточку; и при этом оглядывается, не слышат ли его соседи по палате, но, по счастью, оба спят. Если бы та идиотская аптека закрывалась на час позже, я, возможно, была бы красивой, приходит мысль.
Он смотрит на меня и, верно вспоминая мою профессию, преисполняется гордости, но при этом не может и не поддеть меня.
– Так как, датчане уже придумали стул о пяти ножках?
Улыбаясь, я качаю головой, но продолжаю думать о матери: в этом году ей будет пятьдесят семь.
– Пап, – подмигиваю я ему. – А вы что, сделали меня сразу же, с первого захода? За тот самый перерыв?
Он шевелит рукой на одеяле, словно хочет отогнать мой вопрос – доказательство того, что я попала в точку.
– И где-то в депо или в автобусе? – спрашиваю я с издевкой.
– Я что, именно тебестану такие вещи рассказывать?!
Он неодобрительно вздыхает, но по его выражению вижу, что он наконец скажет об этом. Тема как-никак не затаскана и слегка возбудила в нем вялый интерес, боюсь только, что больше моего зачатия его заинтересовало слово автобус.Он молчит, не иначе как вспоминает.
– В автобусе?
Он кивает, хватается за перекладину и с усилием пытается сесть; делает мне знак, что разговор о моем зачатии подошел к концу.
– Где точно? – настаиваю я.
– Ну сзади! – отрезает папа; ему хочется отделаться от моих вопросов. – На четверке!
Вот она, тайна моего человеческого существования: в автобусе, на четырех задних сиденьях!
Том
Самая давняя сохранившаяся фотография Джефа, естественно, черно-белая, с лыжных занятий в первом классе гимназии: светлые волосы, достигающие (равно как и мои) самого предела тогдашней допустимости, комичный намек на усики и обычное вопросительное выражение красивых глаз. А чего на карточке нет, так это его неизменной развинченной походки, которая могла вдруг неожиданно смениться бегом, привычки наклонять в сторону голову при разговоре, а еще той короткой глубокой морщинки, что залегала между бровей всякий раз, когда он с чем-то не соглашался.
Дружба с Джефом, продолжающаяся уже более четверти века, началась на том уроке в октябре месяце, когда географичка показывала нам что-то на проекторе – не помню, о чем шла речь, знаю только, что сразу же после показа на одном из больших окон в задней части класса зацепилась штора. Джеф, сидевший за партой у окна, мгновенно вскочил (скамья жутко заскрипела) и, не дожидаясь чьей-либо просьбы, чуть разбежался и впрыгнул на мраморный подоконник с цветочными вазонами. Джеф зашатался – класс так и загудел, – но тут же обрел равновесие и обеими руками опустил штору.
Мне показалось, что класс на долю секунды засомневался, как ему оценить выходку Джефа: то ли как симпатичную провокацию и одновременно достойное спортивное достижение, то ли принять сторону учительницы, вертевшей пальцем у лба, и скорее посмеяться над Джефом, ведь, кроме прочего, во всех его движениях было что-то бесспорно обезьянье.
– Круто! – вскричал я (с той интонацией одобрительного возгласа, который мы, мальчишки, издавали очень часто и к которому я, кстати, нередко прибегаю и по сей день, например, когда смотрю со Скиппи футбол; попробуйте и вы гаркнуть это словечко, причем нарочито низким голосом; а если вы еще и нахмуритесь, считайте, успех обеспечен).
Джеф осклабился и весело махнул мне рукой.
Так, с зацепившейся пыльной шторы, началась наша дружба.
На первой же перемене, в коридоре между учебными кабинетами, он подошел ко мне.
– Что у нас сейчас? – спросил он.
Наверняка он и сам это знал.
– Математика.
Я был рад, что он заговорил со мной, и стал быстро соображать, чего бы добавить мне к своему ответу, дабы не звучал он так сухо, однако в следующую минуту нас остановили двое учеников из выпускного класса.
– Стоять! – приказали они.
Один из них был очкариком, да и другой отнюдь не производил устрашающего впечатления, тем не менее они были выше на полголовы. Мы послушно остановились. Вспоминаю, что со стены за их спинами на нас смотрели еще три физиономии: это были рисунки углем, которые уже с первого взгляда показались мне какими-то нелепыми (я тогда не успел подробнее изучить их, но поскольку мимо подобных творений я проходил пять раз в неделю, смею утверждать, что и они отличались неумелой тушевкой и явным нарушением пропорций).
– Итак, мелкие, патлы долой… – сообщил нам ученик без очков.
Джеф наклонил голову в сторону.
– Мы здесь патлы у мелких не потерпим, – сказал второй гимназист, четвероклассник, и попытался схватить Джефа за волосы.
Джеф ловко, как боксер, отпрянул назад. Четвероклассник заколебался и взамен решил достичь другой, более доступной цели: схватил за волосы меня. Джеф, нахмурившись, выбросил руку и сжал его запястье.
– Не трогать, – сказал он спокойно, даже примирительно.
С минуту они мерили друг друга взглядом, затем, к моему удивлению, очкарик отпустил меня.
– Это что еще за фокусы?! – вскричал его приятель.
Его запоздалое возмущение как бы даже не относилось к Джефу – он явно хотел избежать прямого столкновения. Джеф мягко отстранил его, чтобы мы могли продолжить свой путь.
– Попытка подвергнуть остракизму, – сказал я, поощренный смелостью Джефа.
– Да, – улыбнулся Джеф. – Тщетная.
Когда в последующие дни мы встречали этих старшеклассников, они смотрели в сторону, делая вид, что чем-то очень заняты.
Джеф утверждает, что гимназические годы были для него сплошной пыткой.
– Я не могу видеть эти фотки. Со мной они не имеют ничего общего.
Это заключение задевает меня, хотя я понимаю, о чем он. Мы не были молодыми рыцарями при дворе короля Артура – мы были четырнадцатилетними гимназистами. Мы не могли спасти друг другу жизнь или совершить нечто столь же грандиозное, мы могли лишь делиться завтраками и на школьных экскурсиях занимать друг для друга место в автобусе, но это не умаляло нашей дружбы. Пубертат и какая-то в целом негероическая школьная обстановка, возможно, и делали эту дружбу комичной и по-своему даже мучительной, но не уменьшали ее.
– Память – это жизнь, Джеф, – говорю я.
– Да, я помню также, что в детстве я писался, однако что такого суперважного для настоящего момента из этого следует?
– Выходит, ты решил это досадное детство и юность как можно быстрее забыть… Выходит, ты родился в какие-то свои тридцать.
– Именно так. Я отказываюсь причислять себя к двум растерянным девственникам, которые носили одинаково отвратную прическу, одинаково отвратные майки с отпечатанной с помощью утюга надписью ADIDAS и весь день соревновались в отрыжке, напившись желтого лимонаду.
Скиппи нарочито рыгает.
– Вся фишка в том, что ты не можешь освободиться от всяких подростковых комплексов. – возражаю я. – Но это временные реквизиты. Дело не в майках и не в отрыжке. Разве в жизненной значимости первого поцелуя что-то меняется, если он случился не в ухоженном французском саду, залитом серебристым лунным сиянием, а за шведской стенкой в провонявшем п о том физкультурном зале?
Я тут же пугаюсь, не выдал ли я себя слишком откровенной конкретикой, но Джеф пропускает это мимо ушей.
– Ты с кем-то целовался в физкультурном зале? – склабится Скиппи. – Разве что с Фуйковой?
Знаю, что сначала он хотел сказать «с Ветвичковой», но, по счастью, вовремя осекся. Джеф вздыхает, хмурит лоб, и между бровями пролегает морщина.
– Уже научнодоказано, – подчеркивает он, – что каждые пять лет у тебя комплексноменяются все клетки тела, – таким образом, со времен гимназии это произошло примерно раз пять. – Он многозначительно замолкает. – Пойми, чт о я пытаюсь этим сказать. Тогда в гимназии мы просто были не мы, не те, что сегодня, почти двадцать пять лет спустя.
– Были не мы? – насмешливо говорит Скиппи и неожиданно принимает мою сторону. – Тогда почему спустя двадцать пять лет ты два раза в месяц ездишь в Врхлаби к предкам своей пять раз комплексно измененной одноклассницы? – Потом он указывает рукой на меня. – И почему тогда он пять лет назад женился на ее абсолютной копии?
Ева
По средам уже несколько лет к ней заходит Скиппи, и они вместе смотрят футбол. Поначалу телевизор не включали вовсе и два часа разговаривали, но прежде чем уйти, Скиппи всегда просматривал повтор самых ключевых моментов, чтобы Джеф с Томом не смогли вывести его на чистую воду, – он уверяет их, что ходит с коллегами из больницы на Вацлавскую площадь в «Jagrʼs-бap», где стоят огромные плоские экраны. Но потом Ева сама сказала ему: пусть спокойно смотрит весь матч – футбол ведь никогда не привлекал ее, а возбужденные голоса комментаторов парадоксальным образом ее успокаивают. Скиппи сперва делал вид, что это сильно задело его («Должно быть, нам уже не о чем разговаривать?»), но в конце концов согласился с ее предложением.
Итак, теперь он смотрит телевизор, а Ева рядом в кресле вяжет или раскладывает доску и гладит. Скиппи иной раз в зрительском запале напрочь забывает, где он, и только когда арбитр свистком сигналит перерыв, он виновато передергивается, быстро встает и пятнадцать минут беседует с Евой.
– Господи, ты вяжешь? Нет, этого не может быть! Вспомни, что тебе только сорок. Что ты будешь делать в шестьдесят?
Иногда в перерыве он любит порассуждать, почему, собственно, ходит к Еве:
– Прихожу к офигенной женщине – и смотрю у нее футбол! Что я за идиот! Что я за скотина!
Ева знает, что будет. Скиппи обойдет гладильную доску и сзади обнимет ее.
– Почему вообще человек тайноходит к женщине, которая ни разу в жизни не дала ему?
– И не даст, – предупреждает его Ева.
Она старается, чтобы звучало это цинично или хотя бы сухо, но все равно всякий раз чуть-чуть краснеет.
Скиппи театрально вздыхает, тем не менее Ева убеждена, что на самом деле он никогда не мечтал о ней (не раз ее посещала мысль, что Скиппи, при всей его болтовне о женщинах, голубой). Он целует ее в щеку, неловко гладит по волосам и идет смотреть вторую половину матча. С футболом даже приятней, думает Ева. Во всяком случае это лучше, чем сидеть напротив в креслах, купленных Джефом, смотреть на погасший экран и вспоминать погибших одноклассников – Карела, Ирену и Рудо.
В свое время этими трагическими смертями Скиппи был просто одержим – почти так, как он, к примеру, одержим сексом (или по меньшей мере хочет таким казаться). Он вновь и вновь возвращался к самоубийству Ирены: ходил по квартире и без конца повторял общеизвестные вещи. Ну что еще можно тут добавить? – возражает Ева. Да, мы относились к ней жестоко. Весь класс. Да, Скиппи, я тоже, если ты хочешь это слышать в пятидесятый раз. Скиппи чувствует раздражение в ее голосе и умолкает. Ева поневоле вновь представляет себе то мгновение, когда Ирена прыгнула. Тот чудовищный толчок. Она закрывает глаза и снова их открывает.
– Это полная бессмыслица, Скиппи, – говорит она, – ты не можешь быть молодым и одновременно благоразумным. Не получится.
Скиппи останавливается перед зеркалом в прихожей. Берет Еву за руку и привлекает ее к себе. Они стоят бок о бок и улыбаются на себя в зеркало. Она любит его. Он выглядит преждевременно состарившимся мальчиком. Он рассматривает свои продвигающиеся залысины, как если бы впервые в жизни обрезал палец… Он еще и в сорок не перестал изумляться, на какой особой планете он очутился. Что все вокруг значит? – постоянно спрашивают его мальчишеские глаза.
Иногда он тихо начинает плакать, особенно когда пьет. Он прыгает с моста на эластичном тросе и играет в «сквош». [7]7
Игра с мячом и ракеткой на корте с высокими стенками.
[Закрыть] Издает Юмористический гинекологический месячник для внутреннего пользования(несколько номеров принес Еве, но она до сих пор не нашла в себе смелости открыть их). Он хотел бы завести семью, но, как говорит, не умеет знакомиться. Он собирает фотографии хоккеистов, конкурсные купоны и пробки.
Часто употребляет непристойные слова, чего Ева не переносит.
– Сегодня я видел самую красивую сику в своей жизни! Это, пожалуй, была не сика, это была орхидея!
– Скиппи, – одергивает она его (через полчаса Алица возвращается с аэробики), – держи себя в руках!
Через несколько минут он впадает в какую-то меланхолическую оцепенелость. Сидит за кухонным столом (его смастерил Джеф), молчит и играет с солонкой. Существует ли что-либо более печальное, чем состарившийся классный паяц? – приходит Еве в голову.
– Может, включить какую-нибудь музыку? – спрашивает она.
Он качает головой. Она вынимает из холодильника первую из трех банок пива, купленных для него, и Скиппи смотрит на нее с благодарностью. Несмотря на Евины протесты, он пьет из банки: не перелитое, говорит, куда лучше.
– Поджарю брамбораки, [8]8
Национальное чешское блюдо: картофельные оладьи со специями.
[Закрыть]идет?
Он смиренно кивает. Он чистит картофелины, Ева натирает их на терке. Временами они касаются друг друга мокрыми пальцами. Ева чувствует запах пива, чеснока, майорана и одновременно какую-то приятную печаль, как, например, в конце хорошего фильма. Или в конце лета, думает она, возможно это точнее.
Фуйкова
– Да, я оплошал, но я свою оплошку достойно исправил, никто не может меня упрекнуть, – говорит папа.
Надо сказать, что он и впрямь старался. Сперва поехал представиться ее родителям – их маленький домик на восточной окраине Праги он знал, одно время проезжал мимо него на автобусе. Но сразу же, в качестве прелюдии, столкнулся с непредвиденными трудностями парковки: ужасно нервничая, он неудачно втиснулся со своим «вартбургом комби» в узкое пространство между домом, мусорками и телефонным столбом и никак не мог вырулить. Он, водитель автобуса… Будущий тесть, всего лишь тремя годами старше моего папы, вышел из дому, чтобы советами помочь ему. Соседи за занавесками помирали со смеху.
– Глянь, он пытается выехать оттуда задом! – раздался чей-то крик.
Мать невесты была в ярости – даже руку подать ему отказалась. Папа за всеми этими маневрами с парковкой совершенно забыл наперед заготовленные фразы и вынужден был импровизировать.
– Так-то, молодая пани, как оно есть, так есть.
– Вот именно!
– Жизнь, она не всегда такая, какой мы ее представляем. Но если мы все постараемся, особенно я и ваша дочка, то верю – все получится хорошо.
– Главное, постарались бы вы не обрюхатить ее – коль уж на то пошло! – ответила будущая теща.
Или что-то типа того.
В таком духе прошло первое знакомство, но папа не сдался: достал коляску и подержанную кроватку с деревянной оградкой, продал часть мебели и гостиную превратил в детскую. Купил супружескую кровать, новый унитаз, газовую колонку и под конец перекрасил всю квартиру. Стал ездить сверхурочно, чтобы скопить на свадьбу. Родители невесты чуть успокоились, но все равно оставались сдержанными. От тех немногих фотографий, что я нашла дома, до сих пор веет напряженкой. Почти никто не улыбается, мать невесты глядит недоверчиво.
В роддом папа ездил вроде бы каждый день. Стало подмораживать, и от его зимней куртки тянуло холодом. Наверняка в тепле больничной палаты у него всегда краснели щеки. Он искал для матери бананы и мандарины. Я представляю себе, как она молча поедает их и в пределах своих тогдашних возможностей размышляет; отец всякий раз подставляет ей ладонь, и она выплевывает в нее косточки.
– Ах, крошка моя! Ах, миленький мой! (Возможно, золотко, ангелочек, сердечко), – шепчут изнуренные мамочки, впервые увидев своего малютку, и глаза их заливают горячие слезы.
А теперь попробуйте отгадать, что в той же ситуации шептала моямать (несколькими годами позже папе рассказала это одна медсестра). Не угадаете.
– Ну вот, нарисовалась!
Она покинула нас, когда мне не было и трех месяцев.
– Она и ста дней не защищала тебя, – вскипел Борис, когда я впервые рассказала ему об этом.
Много раз, естественно, я задумывалась, как она защищалась от самой себя. Никто не упрекнет меня, возможно, говорила она себе, что я не дала ей шанса. И правда, у меня было почти целых три месяца, чтобы хоть немного похорошеть. Она дала мне три месяца, чтобы я из этой слюнявой и хнычущей уродины стала наконец прелестным, улыбающимся младенцем, но я разочаровала ее: я не изменилась. Вот она и ушла. В моей жизни это, кстати, было впервые – но далеко не в последний раз, – когда я со своей внешностью хлебнула по полной программе.
Прежде чем уйти, она взяла у папы из буфета деньги и новый радиомагнитофон «Грюндиг»; на кухонном столе оставила ему початый пакетик молочка, пластиковую мерку и бутылочку для грудничков. Когда папа выпивал и я позволяла себе какое-нибудь критическое замечание, он всегда перечислял эти три предмета.
– Она оставила мне бутылочку с соской, молочко и мерку! – гудел он, словно это могло служить вечным оправданием тому, что он поддавал.
В конечном счете так оно и было.
Для меня моя мать навсегда осталась в том возрасте, когда она в пятницу убежала от нас к своему бывшему любовнику. Нынче ей уже тянет на пятьдесят, однако когда я порой думаю о ней, то представляю ее все той же растерянной, не очень красивой девушкой, более чем на двадцать лет моложе меня – только это и помогает мне отчасти простить ее.
Мачеху отец привел в дом, когда мне было пять. Роль суррогатной матери до тех пор успешно выполняли бабушка с дедом, и я совсем не мечтала ни о какой перемене, однако своим детским умом почувствовала, что папа почему-то хочет, чтобы к этой тетея относилась тепло, ну я и старалась вовсю (хотя, конечно, немного боялась ее). Это была полная, крашеная блондинка, которая вечно ворчала. Она принадлежала к тому типу людей, что зимой жалуются на страшный холод,а летом – на дикую жару.Когда у папы не было денег, она жаловалась на ужасную дороговизну,а когда он давал ей деньги и она могла наконец пойти за покупками, жаловалась на безумные очереди.Она уверяла, что страдает от одиночества, но гостей не выносила. Ради одного гостя ты обязана убрать всю квартиру, а когда он уйдет, то оставит после себя такой бардак,что изволь шуровать снова.Ее излюбленной темой были, конечно, проблемы здоровья. И это вполне понятно: ей было сорок два, но она перенесла уже семь разных операций.
– И вы будете мне рассказывать о болезнях! – обычно говорила она, стоило только кому-нибудь заикнуться о своем здоровье.
Она мгновенно задирала комбинацию, чтобы остолбенелому неудачнику торжественно продемонстрировать свои рубцы. Когда-то я могла перечислить все ее операции; сейчас помню только четыре: желчный пузырь, желудок, матка (у нее не могло быть детей) и левый глаз. О них она подробно рассказывала мне – в конце концов, это были самые значительные события ее жизни. Два дня она находилась в полном беспамятстве.Тогда в кладненской больнице вынули ей из желчного пузыря такие здоровенные камни, каких ни один из докторов в жизни не видел.Главные врачи окружных больниц ходили на нее личносмотреть. И так далее. Однажды отец, вернувшись с работы, застал ее лежащей в трусиках на кухонном столе и наглядно демонстрирующей мне, что такое поясничная пункция.
– Милена, оденься, пожалуйста, и прекрати стращать ребенка, – только и сказал он.
Когда я начала ходить в школу, она взяла надо мной шефство.
– А теперь наконец вместе сделаем домашнее задание! – говорила она торжественно.
Она убавляла звук радио, раскладывала на столе старые газеты и придвигала ко мне стул. Ее голос источал добрую волю, но ее, естественно, хватало ненадолго. При первых двух ошибках она еще сохраняла святое терпение,но когда я делала кляксу или в четвертый раз заезжала за линейку, она махала на меня рукой, резко вставала и шла снова усилить звук радио. Явиновато сидела над тетрадью и смотрела, как она закуривает сигарету и потом выдыхает в окно дым. Мне было шесть, но я знала, что она думает: ееребенок никогда не сделал бы ничего подобного.
– Не зевай и пиши! Ты можешь сказать, почему ты не пишешь?
Ее ребенок к тому же был бы намного красивей.
– Сама? – пропискивала я.
– А я, что ли, за тебя писать буду?
Вспоминаю минуты особого покоя (смиренного, сказала бы я теперь), когда мачеха прекращала свои если бы, хотя быи было быи на несколько часов принимала жизнь такой, какая она есть, – например, в рождественские праздники или в мой день рождения. Тогда ее было не узнать: она двигалась по квартире совсем иначе, гораздо медленнее, чем обычно. Не хлопала дверьми и больше улыбалась.
– Мы с папкой желаем тебе всего самого лучшего, девочка.
Я гашу свечи, и она фотографирует меня. Потом мы фотографируемся вместе, автоспуском. Мы смеемся. Папа обнимает ее за плечи. Она режет торт. Я знаю, что она пекла его сама, и потому нарочно ложкой беру себе самые большие куски – пусть видит, как он мне нравится; однако она глядит на меня все более неприязненно.
– Не набивай так рот, никто у тебя не отнимет!
– Оставь ее, – заступается за меня папа.
Она укоризненно смотрит на него и вздыхает. Потом встает и начинает собирать грязные тарелки. Мой день рождения, выходит, кончился. Праздничную скатерть она возвращает в буфет, а стол снова застилает вискозной(с прожженными черными кружочками). Ее движения снова набирают темп.
– Ты опять за свое? – с угрозой говорит папа.
– Разве это жизнь, как я живу? – шипит она на него.
(Конечно, ответила бы я сегодня, в свои сорок один, именно это и естьжизнь.)
Приходило ли ей когда-нибудь в голову, что она сама в немалой мере творит свою судьбу? Задавалась ли она когда-нибудь вопросом, почему счастье, на которое она постоянно претендовала, должно было снизойти именно на нее? Почему счастье должно было продраться сквозь сигаретный смрад лишь затем, чтобы осенить неотесанную, вечно чем-то недовольную неряху в папильотках?
Я думаю, она не была злой; просто выбрала кусок не по зубам.
– А я была такая дура, что хотела вам двоим создать домашний очаг! – часто повторяла она папе.
Ее соблазнила благородная идея – творить добро, а творить добро в конечном счете оказалось утомительнее, чем поначалу она полагала.
Она выдержала с нами шесть лет и потом окончательно сдалась.
Мой день рождения без мамы.
Рождество без мамы.
Школьный аттестат: одни единицы, [9]9
В чешских школах единица – высший балл.
[Закрыть] а мамы нет как нет.
Первые месячные. И так далее.
Надо ли это описывать? Можно лиописать? Попробуйте это хотя бы представить, – а иначе ничего не имеет смысла.