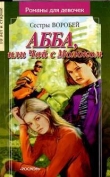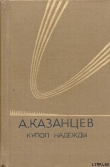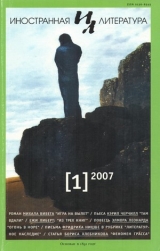
Текст книги "Игра на вылет"
Автор книги: Михал Вивег
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Скиппи
Мой так называемый отец бросил маму, когда мне было пять. Подобные вещи, между прочим, переоценивают; что до меня, то несколько лет я о нем даже не вспоминал. Сейчас у него диабет, и он лишился двух пальцев на ноге. Меня это особенно не волнует, но мама на Рождество посылает ему открытку с Йозефом Ладой, [34]34
Йозеф Лада (1887–1957) – чешский художник, иллюстратор и писатель.
[Закрыть] и я всегда хотя бы подписываюсь. Идиллия Рождества, ха-ха. Мама живет с другим. Это особый тип идиота. Выдумал, например, что они с мамой будут класть обе пенсии в коробку из-под конфет «Mon Cheri». Они так и делают – только потом он все деньги берет себе, а моей почти семидесятилетней маме щедро выдает карманные на неделю. Короче, милейший человек. Узнав, что я гинеколог, стал высовывать язык и многозначительно подмигивать. Я только и ждал, когда он попросит меня одолжить ему белый халат и взять его на экскурсию. Раз в месяц мне приходится обедать у них, и я заранее глотаю церукал (конечно, это метафора). Мама, разумеется, все видит, но, очевидно, считает, что лучше терпеть идиота, чем одиночество. В конце концов, ее можно понять. Когда Том женился на своей фее, а Джеф еще не развелся, мое одиночество в Берлогедостигло такой степени, что я разговаривал даже с телеведущими на Нове. Дело принимало крутой оборот. Я впервые пошел даже в гей-клуб, но отвалил оттуда уже с третьей ступеньки. Мне тотчас стало ясно, что там мне не место. Во-первых, я всегда был немного нелюдим, а главное, я скорей асексуален, чем гомосексуален. Надеюсь, в холостяке сорока одного года это вас не поражает? Как бы я с этими голубыми профиками общался? Ты любишь, когда поглаживают руку, ты это делаешь? Могу положить тебе голову на плечо, оʼкей? К счастью, Джеф и Том достаточно быстро развелись, и мне не пришлось давать себя отпетушить только ради того, чтобы с кем-то потрепаться. Устроил я им в Берлогеwelcome party, и все вернулось на круги своя. Меня успокаивает, когда слышу, как они принимают душ или в кухне бьют посуду. Джеф за завтраком еще и сейчас выглядит как микеланджеловский Давид, размешивающий кофе. На большее я не потяну: Что делать? – как говорила наша училка-русистка! Вот и выходит: «Утром рано дева встала, свою целку поласкала». Мне ясно, что полагалось бы играть более достойную роль, но если меня однажды на такую назначили, зачем все осложнять? Старого пса новым трюкам не обучишь. Никто из нас все равно не может повлиять на тот образ, который создали о нас другие. Кроме прочего, мне вполне хватает, что Джеф берет меня на выходные с Алицей, тогда я бываю почти счастлив. Мы функционируем как нормальная хорошая семья, пусть это даже совсем не нравится клерикалам-лидовцам или тому техасскому идиоту. Во всяком случае, наши уик-энды – лучшее, что я испытал в жизни. По-вашему, этого мало? А что тогда могли бы говорить Карел, Руда или Ирена? Где сказано, что у каждого грибника должен быть полный кузовок? Как писано в сутре Корана: лучшее бывает рано. Господи, Скиппи, умолкни. Ха-ха.
Фуйкова
Свадьба в определенном смысле была главным делом моей жизни.
Я, впрочем, всегда верила, что, стоит мне как следует постараться, я могу достичь временного, потемкинскогоочарования; и свадьба мою веру, к счастью, подтвердила. С помощью четверти кило макияжа, пудры, помады, бюстгальтера push-up,корсета, кремового свадебного платья из Парижа (с двумя незаметно вставленными клиньями) и простого букетика чайных роз я создала нечто вроде кафедрального собора из песка. Смотри-ка, говорила я себе перед зеркалом, вполне удовлетворенная своим видом (папа стоял за мной и задыхался от счастья), достаточно одной парикмахерши, косметички, дерматологини, двух дамских портних и цветочницы – и на несколько часов ты перестаешь быть уродиной. Начиная с прихода в нусельскую ратушу до самого обеда в ресторане «У Бансетов», что напротив ратуши, я была в своем роде дюкекрасива. Бывшие одноклассницы подозрительно осматривали меня, а одноклассники пытались понять, почему, собственно, в гимназии меня не поимели.
Во всяком случае, я на это надеюсь.
Борис по моей просьбе одет во фрак, в котором малость не в своей тарелке, а когда коллега Станчев после обряда долго целует меня в губы (в толк не возьму, что на него нашло), он и вовсе начинает дергаться.
Том чмокает меня просто в щеку.
– На Слапах было гораздо лучше, – говорю ему недовольно.
– Можно я потрогаю вас? – спрашивает Мария Бориса и касается его руки. – Странно, вы реально существуете…
Потом обнимает меня.
– Прости, прости, прости, – шепчет мне.
Папа в своем тосте трогательно сообщает свадебным гостям, что воспитывал меня в одиночку.
– Когда ей было три месяца, – указывает он на меня пальцем, – ее мать меня бросила. Взяла и однажды ночью ушла из дому. Оставила мне только молочко и бутылочку с соской.
Господи, только бы он не упомянул об украденном радио. Папа, к счастью, переходит к воспоминанию, как покупал мне первые очки.
– Ей было лет восемь, – рассказывает он. – Это были такие дешевенькие детские очечки по талону. Когда она их надела, у меня сердце чуть не разорвалось. Не стану вам врать, уж больно они не к лицу ей были.
Кое-кто из гостей, ошибочно думающих, что он шутит, делано смеется. Папа останавливает их коротким, укоризненным взглядом, которым одергивает пассажиров в автобусе.
– Короче, когда в этих очечках я увидел ее, до меня дошло, как она ужасно уязвима.
У него срывается голос, он не может продолжать. Я врезаюсь ногтем в ладонь у большого пальца и как можно глубже вдыхаю воздух.
– Папа! – восклицаю я. – Это же свадьба, черт возьми! Это же радостноесобытие!
В смехе свадебных гостей слышится облегчение.
– Я хочу только сказать, что нелегко нам было… Но в конце концов мы выдюжили.
– За здоровье жениха и невесты! – выкрикивает Скиппи под гром аплодисментов. – И юбки кверху!
Тремя часами позже я сниму свое прекрасное платье, в умывальнике смою единственное в моей жизни сносное лицо и снова превращусь в Фуйкову.
Автор
В декабре, за два месяца до сдачи рукописи в издательство, в Сазаву на несколько дней приезжает бабушка К. На будущий год ей исполнится девяносто, но до сих пор она сохраняет довольно хорошее здоровье, завидную память и способность трезво мыслить.
Автор после обеда отправляется с ней на длительную прогулку; дороги подмерзли, но у бабушки палка, служащая ей посохом, и, кроме того, они держатся за руки. Поток ее речи обычно монотонно-тягучий; автор заостряет внимание, лишь когда бабушка начинает жаловаться, что потеряла связь с одной соученицей по гимназии.
– Сколько вас было? Я имею в виду в классе?
Речь идет о женской реальной реформаторской гимназии на Слезской улице в Праге, на Виноградах, где она училась с 1929 по 1933 год.
– Двадцать девять.
Автор раздумывает, как бы потактичнее свернуть разговор на нынешние времена. Бабушка облегчает ему задачу.
– В живых нас только трое, – говорит она.
Игра на вылет, приходит ему в голову.
– Манка, я и та, адреса которой у меня нет, – перечисляет бабушка спокойным голосом. – Хотя она скорей всего тоже померла.
– Вы собирались довольно часто, не правда ли? – спрашивает автор, чуть помедлив.
– Но уже после войны. До войны не очень. После войны из соучениц осталась двадцать одна. Восемь погибли.
Автор интересуется обстоятельствами: две умерли в концлагере (еврейка и коммунистка), две – от тифа и одна – от туберкулеза. Бабушка приводит конкретные имена. О том, как умерли три другие, она ничего не знает.
– А вы часто встречались?
– Раз в месяц, если хочешь знать! – заявляет бабушка гордо. – У кого-то из нас дома. Хозяйка всегда наготавливала и напекала массу всякой всячины. Иногда это были настоящие пиршества! Тьфу, палка мне скорее мешает…
– Мы где-нибудь ее бросим.
Бабушка тут же бросает палку на заснеженный тротуар. Автор не может не улыбнуться.
– Самую первую послевоенную встречу организовала я! Пришло нас восемнадцать! Восемнадцать из двадцати одной!
– Это хорошо.
– Конечно. Две извинились, а третья нет. Она нас здорово разозлила. Когда мы спросили ее, почему она не пришла, ответила: – А что бы я с этого имела? А ты бы не разозлился?
– Разозлился бы, – согласился автор.
Фуйкова
Листья с деревьев в больничном парке почти все облетели, и среди голых ветвей просвечивают здания, которых еще несколько недель назад не было видно. Листва высохла и затвердела, при каждом порыве холодного ноябрьского ветра она шуршит по асфальту; по большей части это уже коричневая крошка, но под черешней у флигеля, где лежит папа, еще густеют последние краски: теплая желтая и карминовая. Цепляюсь за них глазами, как тонущий за соломинку.
– Папа? Ты хочешь пить?
Я повторяю свой вопрос много раз, но единственный, кто на него реагирует, это, как обычно, старик с соседней койки; сегодня он выкрикивает нечто вроде тонна.Я знаю, он ждет моего ответа.
– Да. Тонна. Тысяча килограммов, – говорю я без смущения, в подобных псевдоразговорах я уже напрактиковалась.
– Крона! – выдает он. – Крона!
– Хорошо. Крона. Или бона, – ляпаю я наобум, и он, как ни странно, замолкает.
Алкоголик в финальной стадии,сообщает мне сестра, и я невольно задаюсь вопросом, в какой же стадии сейчас Том?
Папа уже ничего не говорит, но глаза его открыты. Это пугает меня. Что он, Господи, видит? О чем думает? Глажу его по руке и подношу соску бутылки к его запавшему, заросшему рту. Он не реагирует; только когда я сильнее наклоняю бутылку, он, почувствовав первые капли, начинает незаметно шевелить потрескавшимися губами и сосать. Сорок лет назад он так кормил меня.
Бывало, мне больше хотелось, чтобы он молчал, – например, когда к нам приходила Ирена.
Его настроение я узнавала по тому, как он открывает дверь и как резко бросает ключи на полку рядом (ее черный поролон до сих пор побит и кое-где разодран).
– Привет, папа.
– Добрый день, – здоровается Ирена.
Он разувается (в последнее время, придя с работы, он садится в прихожей на шкафчик для обуви), пыхтя ставит башмаки на место и, не обращая никакого внимания на Ирену, снимает синие форменные брюки. А ходил бы он в трусах так же свободно перед Евой Шалковой? – думаю я.
– Дурной день, папа?
– Люди – скоты.
Я гляжу на Ирену и, извиняясь, пожимаю плечами. Папа аккуратно складывает брюки, я вешаю их на вешалку.
– Все сплошняком, папа?
Ирена смущенно улыбается. Папа отмахивается от моей шпильки, берет с полки «Руде право», которое я днем вынула из почтового ящика, и идет в кухню закурить сигарету «Клеа».
До самого ноября 1989 года он в автобусе был почти полновластным хозяином: с человеком в форме (пусть это была даже водитель-женщина) при Гусаке не пререкались.
– В одном коммунистам не откажешь – люди знали, что такое дисциплина, – говорит он после переворота.
Однако и тогда случалось, что пассажиры его возмущали: садились в автобус с собаками без намордников, открывали без его разрешения люк на крыше и отказывались проходить в середину салона. И так далее. Подобных конфликтов я знала десятки. Или вы со своей собакой без намордника выйдете, или я дальше не еду.Отгадайте, кто выигрывал.
– Если хотят ездить автобусом – положено слушаться. А коли слушаться не желают, пускай покупают себе «жигуленок».
В его голосе злорадное превосходство: он прекрасно знает, что большинство пассажиров машину позволить себе не могут. Он держит их в кулаке.
После революции все меняется. Дисциплина, по мнению папы, жутко падает. Чем дальше, тем люди нахальнее.
– Всякое излишество вредно, – говорит он мне однажды. – И эти твои свободы!
– Моисвободы? Бога ради, это ведь и твоя свобода, разве нет?
– Ни к чему мне такая свобода.
Чуть позже выясняется: на работе произошел ужасный эпизод. Он отчиталчеловека, который вошел в автобус с мороженым в руке; мужик и бровью не повел, не спеша доел фунтик, а потом схватил папу за горло и сорвал с него форменный галстук.
– Путаешь понятия, – орал он на папу. – Ты не патер Малы, [35]35
Проповедник, выступавший на стороне «Гражданского форума» – движения, сыгравшего основную роль в подготовке и проведении «бархатной» революции 1989 г.
[Закрыть]ты водила автобуса! Ты, мать твою, шофер, сечешь? Твое дело – шоферить, и баста. Перестань же, курва, нас тут поучать и кати дальше!
Папа, разумеется, был в шоке. Ему с трудом удавалось справиться с автобусом на шоссе. Большего унижения он никогда не испытывал. Даже рассказывая мне об этом, весь трясся. При коммунистах ничего подобного с ним не случалось.
В последние годы он голосует за клерикальную партию – за лидовцев. Когда после настойчивых расспросов он неохотно проговаривается, у меня перехватывает дыхание.
– Лидовцы,папа? Я не ослышалась?
Пожалуй, республиканцы Сладека [36]36
Партия крайних националистов.
[Закрыть] и то были бы для меня меньшей неожиданностью.
– Объясни мне, папа: почему такой человек, как ты, решает голосовать за христианскую партию?
Папа мрачнеет, эта тема ему неприятна.
– Скажи мне, папа. Почему? Разве Бог как-то облегчил твою жизнь? В чем-то помог тебе?
Он смотрит на меня.
– Это мое личное дело. Нечего каждому совать нос.
Большего я уже никогда из него не вытяну.
Еще на прошлой неделе он разговаривал.
– Отремонтируйте наконец квартиру! Толкую вам все время…
Он раздраженно машет рукой, недовольный моей кажущейся беспомощностью.
– Займусь этим, папа.
– Деньги у тебя есть – чего же ты ждешь?
Сама не знаю. Об этом ремонте говорим уже годы, но всякий раз дальше планов дело не идет. В мебельных студиях надо мной уже смеются. Сапожник без сапог. Каждый раз беру у них новый каталог и затем целый год не отзываюсь. Когда звонят, отвечаю откровенно, что я все еще раздумываю. Тоже мне квартирный дизайнер! Живет в обстановке вытоптанного бордового паласа, чудовищной стенки красного дерева и сарделькообразного мягкого гарнитура и все еще раздумывает! В позапрошлом году я купила Петру, сотруднику нашей фирмы, ящик испанского красного и попросила набросать для меня несколько эскизов – для меня, мол, это слишком личное дело, чтобы мыслить рационально.
– Врачи тоже никогда не хотят оперировать родственника…
Он спросил, не слишком ли я впечатлительна, и я ответила, что его опасения вполне оправданны.
– Купи себе какую-нибудь хреновую итальянскую кровать и стеклянный стол, – говорит папа. – Да хоть датский…
Под белыми щетинками усов едва заметный признак улыбки.
– Куплю, папа.
Слезы неудержимо подступают к глазам, я вынуждена отвернуться. Сестра замечает мои усилия и приходит мне на помощь.
– Стеклянный стол, – качает головой папа. – Ты когда-нибудь слышала о таком?
– Пока я не умру, ты должна приходить сюда каждый день, – сказал он мне в воскресенье.
Каждое слово дается ему с трудом. Естественно, я говорю, что он не умрет; а что еще можно сказать? Я что, должна была ответить ему: да, папа, конечно ты скоро умрешь. Лишишься абсолютно всего: своего тела, аппетита, воспоминаний, света, тепла, меня… Почему нас этому не учат? Почему мы, о господи, изучаем интегралы, одноклеточных, неорганические соединения и прочую ерунду, если потом ничего такого – кроме умения умирать – нам не понадобится? Если бы вместо одноклеточных мы зубрили правила умирания, это по крайней мере имело бы смысл.
Папа снова засыпает.
– Дорога! – нетерпеливо кричит старик с соседней койки. – Дорога!
– Недотрога, – отвечаю я успокаивающе. – Еще есть такая, одна на сто.
Он опять затихает. Хотя бы это утешает меня.
Ева
Ежегодным встречам с одноклассниками, которые с поразительным упорством устраивают Мария и Зузана, она всегда радуется, не понимая даже почему. Чего она неизменно ждет от них? – спрашивает Ева самое себя, но все равно всякий раз заходит к парикмахеру и покупает себе что-нибудь новенькое.
В последние годы народу опять прибавилось. Наверное, причиной тому – сантименты. Как говорит Том: ностальгия цепляется за что угодно.Они, мол, стали сознавать, что другой, лучшей молодости у них не будет, и пытаются довольствоваться тем, что было. Кроме того, такие встречи внушают им и уверенность предвидения:быстро меняющийся мир начинает пугать их, а на встречах пусть подчас они и удивляют друг друга, но – не пугают. Знают, что могут от самих себя ждать. В этом безусловно что-то есть.
В первый год после развода они с Джефом назло друг другу пришли оба. Это и мой класс, говорила она ему взглядом. Джеф, за которым неусыпно следили остальные, небрежно поцеловал ее в щеку. Сидели, естественно, порознь. Ева чувствовала, что он с удовольствием с кем-нибудь поболтал бы, но ее присутствие сковывало его. Не ускользало от Джефа и то, что к ней то и дело кто-то подсаживался, например Скиппи или Том. Наконец, он не выдержал, напился и на виду у всех стал целоваться с чужой встреченной на пути к туалету девушкой, но при этом умудрялся смотреть Еве в глаза. С того времени они приходят поочередно: Ева – в нечетные годы, в четные – Джеф.
В этом году очередь Евы.
Она выходит из трамвая на остановку раньше и потом нарочно едва плетется. Однако все равно в указанном ресторане она первая. Более двадцати минут она одиноко сидит за единственным свободным столиком и поминутно отбивается от назойливых посетителей.
Четыре ослепительно молодых лица; одно – девичье – отделяется от остальных и направляется к ней.
– Не сердитесь, этот стол занят, – терпеливо повторяет Ева. – У нас встреча одноклассников по гимназии.
Недовольная, неодобрительная усмешка. Они пришли повеселиться, а эта тетка портит им всю обедню. Мы что же, утратили право на жизнь? Мне сорок один, и она с удовольствием сбросила бы меня со скалы, злобно думает Ева, снисходительной улыбкой отражая взгляд этой девушки.
Когда наконец приходят Мария, Том и все прочие, она с укором им все рассказывает.
– В следующий раз приду на час позже! Надо же – почти полчаса сидеть здесь в полном одиночестве!
– И давать отпор уничижительным взглядам тех, к кому старость еще не подступила… – говорит Том.
Все принимают это за веселую реплику.
– Вам кажется это смешным? – не понимает Ева. – Вам кажется смешным, что половина всех телевизионных реклам полна худых шестнадцатилетних моделей? Нормально ли это?
А когда разговор заходит о пражских забегаловках и кофейнях, Ева высказывает идею создания клуба, который назывался бы Сорок с хвостиком.Она считает, что Прага в таком клубе крайне нуждается. Люди ее возраста могли бы потанцевать там без привычного ощущения своей неуместности.
– Лучше уж Пятьдесят с хвостиком, – говорит Катка.
– Такой клуб существует, – замечает Мария. – Он называется «На Влаховце».
И вновь Ева единственная, кто не смеется. Может, и впрямь у нее нет чувства юмора. Она видит все эти тусклые пломбы, мосты и коронки, и ей хочется умереть. Приходит официантка, Том заказывает вино.
– Для меня – минералку, – заявляет она.
Мария вынимает из сумки три декоративные свечки и одну за другой зажигает; молодежь за соседними столами с неприязнью смотрит на нее. Ева думает о Рудольфе. На их встречи он всякий раз приезжал на автомобиле, несмотря на то что метро или трамвай доставили бы его быстрее, да и не было бы проблем с парковкой, но, вероятно, у него были на то основания; поэтому он никогда не пил и многие годы составлял с ней и еще несколькими трезвенниками пренебрегаемое, осмеиваемое меньшинство. Они только делали вид, что насмешки поддатиков,как называл Рудольф остальных одноклассников, задевают их, на самом деле они держались даже с некоторым высокомерием вплоть до того дня, как позапрошлой весной – абсолютно трезвый – Рудольф разбился где-то у польской границы в своем новеньком «опеле». Утром будете нам завидовать, вы, поддатики,говаривал он. Чему они будут завидовать – что у меня не болит голова? – вдруг подумалось Еве.
А чему еще?
– А что, если мне тоже сегодня выпить рюмочку, – говорит она ко всеобщему удивлению.
Том
На каждой встрече бывших одноклассников я сразу же – в виде пролога – должен рассказывать, что за последние годы изменилось в нашейгимназии; это стало неким ритуалом. И сегодняшняя встреча – не исключение.
– Ну рассказывай, что нового, – без обиняков просит меня Мария.
– На будущий год завязываю.
Водворяется тишина: вероятно, все осознают, что потеряют последнюю связь со своими школьными годами.
– Из-за денег?
Зарплата учителей сегодня – избитая тема. Хотя я и сомневаюсь, что смог бы на зарплату учителя прокормить пресловутую семью с детьми,однако семьи у меня нет, а на жилье и выпивку денег мне всегда так или иначе хватало.
– Нет. Больше не хочу работать в музее собственной молодости – это главная причина, – говорю я, глядя на Еву, однако первой согласно кивает Фуйкова.
В последнее время замечаю, что даю ученикам письменные тесты не столько для того, чтобы таким общеизвестным способом на минуту-другую освободиться от них, но, как ни странно, и для того, чтобы спокойно понаблюдать за ними и про себя решить неразрешимую загадку: как случилось, что за этими партами сидят они, если еще несколько лет назад там сидели мы? Сравниваю их молодые лица с теми, что передо мной сейчас в ресторане: наша кожа, естественно более тусклая, взгляд погасший, зубы пожелтевшие, волосы поредевшие, но если бы этим все и ограничивалось? Лицо сорокалетнего человека, как правило, начинает терять соразмерность; в восемнадцать его пропорции идеальны (если, конечно, вас не зовут Ирена Ветвичкова), но двадцать лет спустя вы или исхудали, или располнели, и то, что в восемнадцать представляло собой выразительный абрис лица, широкие скулы или прямой нос, в сорок часто гипертрофируется в нечто напоминающее карикатуру.
– А не жалко? – льстит мне Мария. – Ученики тебя любят….
– Любят? – повторяет за ней Скиппи. – Точняк. Одна ученица так его любила, что даже вышлаза него.
Неуместная реплика. Скиппи должен был бы смекнуть, что наши медленно стареющие одноклассницы не хотят слушать истории о том, как их однолетки-одноклассники берут в жены восемнадцатилетних девушек.
– А как стать любимым учителем? – спрашивает Иржина.
Ее интерес искренен. Живет она в маленькой деревеньке под Прагой, и возможности подобных дебатов у нее минимальные; не без доли преувеличения можно сказать, что ежегодные встречи для нее нечто вроде курсов переподготовки. Она задает здесь интересующие ее вопросы, на которые муж-экскаваторщик не способен ответить.
– По-моему, прежде всего нужно соблюдать дистанцию: она не должна быть ни слишком большой, ни маленькой. Смеяться над семнадцатилетними с позиции сорокалетнего вряд ли следует – так же, как впрочем и дружить с ними. Нужно найти что-то промежуточное.
Иржина слушает так внимательно, словно в будущей жизни собирается стать учительницей. С Кинской площади приближается трамвай.
– Если, конечно, что-то промежуточноевообще существует, – присовокупляю я.
– Ну ясно, с Кларой это промежуточноебыло, факт, очень даже прекрасное, – ухмыляется Скиппи, хлопая меня по бедру. – Промежуточное… промеж ног оно было!
Пелену неловкости, которая окутывает нас, неожиданно разрывает Ева.
– Что ж, – говорит она кисло, – вы выразились очень даже прекрасно, пан доктор…
Утомленный жизнью, поседевший и располневший класс смеется.
Потом разговор идет по привычной колее: подрастающие дети, квартиры, болезни родителей, собственные недуги, рецепты, рекомендованные лекарства. Различие между молодостью и старостью: о вагинальных свечах в сорок говорят вслух. У Фуйковой недавно умер отец, так что дело доходит и до слез, и на пять минут мы все затихаем. Вино славное, я заказываю еще две бутылки и при этом пытаюсь представить нашу ветхостьглазами этой молоденькой официантки. Снова доливаю себе; как обычно, перебираю и, как обычно, маскирую перебор длинными, экспромтом произнесенными цитатами.
– Мне думается, что различие между детьми и взрослыми, возможно – вещь естественная, но, по сути, это нелепица. Мы, собственно, лишь отдельные я,мечтающие о любви, – говорю я патетически. – Доналд Бартельм. [37]37
Американский писатель (1931–1989).
[Закрыть]
С удовольствием замечаю, что Ева и некоторые одноклассницы тоже под хмельком; алкоголь в течение года они употребляют лишь в исключительных случаях, так что им хватает и нескольких рюмочек. Они молча улыбаются, чтобы не выдала артикуляция, а про себя, верно, думают: хорошо бы заказать вторую чашечку кофе.
– У меня новый пиджак, – объявляю я классу. – Я купил его вчера исключительно ради этой встречи. Кто-нибудь заметил? – немного повышаю голос.
Катка щупает материю, мнет ее, а потом без слов гладит меня по плечу. Может, именно это и следовало бы нам делать на встречах, думаю я: сидеть, пить и молча гладить друг друга по плечу. Может, это было бы лучше всего? Зузана вдруг предлагает пойти куда-нибудь потанцевать. Я понимаю ее, одна она ни на что подобное не решилась бы, но сейчас ее привлекает возможность укрыться за нашей общей эйфорией или скорее безумием. Воображаемая картина – как мы вторгаемся в толпу семнадцатилетних тинейджеров на ближайшей дискотеке, – к счастью, ужасает не только меня, и эта идея тактично отбита в аут, Ева снимает жакет; щеки у нее горят. Она по-прежнему красива (кто-то из одноклассников сегодня сравнил ее с Хозяйкой волшебного лесаиз «Властелина колец»…), но кожа на шее и на груди уже теряет упругость. Несколько морщинок, чуточку лишнего жира – и столько печали. Когда она пришла в мой сад, все тихо отцветало…Почему мы учим этому гимназистов? – думаю я. Разве они могут такое понять? Ева играет со свечкой, воск стекает по пальцам.
– Куда, черт возьми, все подевалось? – восклицаю я, ударяя кулаком по столу.
Вино в рюмках колышется. Однокашники переглядываются.
– Скажу вам вот что: первая сексуальная связь обычно ни черта не стоит, но первый настоящийпоцелуй… – Ищу правильные слова. – Это неописуемо.Я думал тогда, что целиком растворюсьв ней.
Ева улыбается.
– О, этот аромат.Сегодня, разумеется, я уже знаю, что перед тем она сосала какую-то дурацкую конфету, но тогда это до меня не дошло. Я, идиот, еще долгие годы думал, что красивые девушки действительно благоухают земляникой.
Смотрю на Еву – вызывающе, дерзко.
– Малиной, – поправляет она меня. – Это была малиноваяконфета.
– Потрясно! – выкрикивает Скиппи в тишину.
– Надо же, чего только сегодня вечером мы не узнаем, – говорит Зузана холодно.
– Где все это? – продолжаю я. – Когда сегодня меня целует девушка, я разве что подумаю: хорошо целует. И ничего больше. Куда исчезло то оцепенение? То сладкое изумление?
– А, черт, – выдает Гонза, весело подмигивая. – Он опять напился как сапожник…
Окидываю его чуть ли не враждебным взглядом.
– Да, я напился. Ну и что? Думаешь, оттого в моих словах меньше правды?
Он явно смущается.
– А что поделывает Вартецкий? – неожиданно спрашивает Ева.
Она смотрит мне в глаза, но тут же снова отводит взгляд (ее внезапная, как бы стыдливая смелость напоминает мне Клару). Большинство из нас понимает историческое значение этой минуты: имя Вартецкого она еще никогда не произносила вслух – после малиновой конфеты это второе запоздалое признание. Меня волнуют смешанные чувства: в первую минуту эта откровенность радует меня, но тут же в ее глазах я улавливаю давнишнюю страсть, которая сжимает мне желудок столь же сильно, как некогда. Мороженая малина, осеняет меня: белая, заиндевелая, что-то от того свежего летнего аромата и вкуса уже исчезло, но многое еще осталось. В баночке, которую я только что извлек со дна морозилки, четвертьвековая ревность: уже не та, что прежде, но я хорошо ее узнаю.
– Вартецкий? – говорю как можно равнодушнее. – Как раз вчера мы вместе обедали в школьной столовой.
– И что? Как он выглядит?
Спрашивает уже кто-то другой – Ева свою смелость исчерпала. Я делаю вид, что раздумываю.
– Вы помните его кожаный портфель?
Лица одноклассников враз проясняются.
– Он у него и теперь…
– Невероятно!
Ева смотрит куда-то в прошлое, словно этот потрепанный портфель был магическим предметом, который вновь оживил Вартецкого.
– И впрямь учителям надо бы добавить! – смеется кто-то.
– А что вы ели? – спрашивает Скиппи.
– Мясо в томатном соусе.
– А мясо не было для него жестким? Разжевать еще смог?
Смех усиливается. Ева, пожалуй, жалеет, что спросила о Вартецком. А чего еще она ожидала? Я поворачиваюсь к окну и вижу молодую пару, заглядывающую внутрь: девушка что-то говорит молодому человеку, указывая на нас пальцем.
– А правда, что он делает? – спрашивает Катка.
– К примеру, ходил каждую пятницу в Подоли, в сауну. А теперь с супругой купили где-то в Ржевницах по дешевке дачу, в пойменной области, и потому…
– Ну и что, – говорит Зузана, – было бы тебе, как ему, за шестьдесят… К тому же вероятность половодья не так уж и велика, верно? Можно и рискнуть. Или пан, или пропал.
– Серьезно, ему уже за шестьдесят?
– А ты как думала?
– Не перебивайте же его все время!
– Итак, – возвращаюсь к сказанному, – в сауну он уже не ходит, ибо каждую пятницу ездит на дачу. И потому ежедневно в учительской просматривает газеты и вынимает из них вложенные цветные рекламные проспекты.
– Рекламные?..
– Рекламы электродрелей, косилок-триммеров, дисковых точильных станков и тому подобное. Сравнивает различные предложения. Bauhaus против OBI. Высшая форма соревнования его поздней жизни. На столе в его кабинете…
Ева шумно встает. Покачивается.
– Тебе неинтересно? – говорю.
– Нет.
– Ты спрашивала…
– Но я хотела услышать… что-нибудь приятное.
– Сожалею, – развожу я руками, – яс Вартецким ничего приятного не пережил.
Она закрывает глаза и закусывает губу.
– Том! – одергивает меня Мария. – Ты что дуришь?
Только теперь я прихожу в себя. Наклоняюсь в сторону, давая возможность официантке унести пустые бокалы. Поворачиваюсь к Еве, но ее и след простыл.
– Sorry. Сегодня меня тянет побрюзжать.
– Господи, – говорит Фуйкова, – да ты постоянно живешь в своем музее молодости.