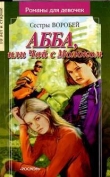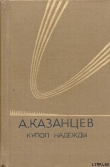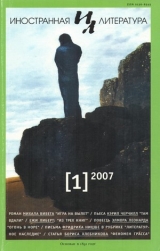
Текст книги "Игра на вылет"
Автор книги: Михал Вивег
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Ева
У туалета, куда она убегает выплакаться, наталкивается на красивую светловолосую девушку с маленькой татуировкой на плече, скользнувшую по ней равнодушным взглядом. Ева прикидывает, что в нынешней Праге татуировка примерно у каждой четвертой, а то и у каждой третьей девицы. Ополаскивая над умывальником лицо, она со злорадством представляет себе 2050 год и врачебные кабинеты, полные сморщенных татуированных старушек. Дверь приоткрывается: в зеркале она видит лицо Тома.
– Заходи, – говорит Ева. – Здесь никого.
– Я хотел бы извиниться.
– Закрой эту дверь. Закрой дверь и поцелуй меня.
Она подходит ближе и прижимается к нему. Том сопротивляется.
– Утром будешь сожалеть об этом.
Том
В полночь нас уже девятеро; готов поспорить – каждый про себя решает, что на будущий год не придет. Ева просит, чтобы я вызвал ей такси.
– Абитуриентские встречи – зеркала наших потерянных жизней, – говорю я.
– По-моему, это возможность всем развлечься, – смеется Фуйкова.
Сама она, разумеется, тут же пытается определить год, когда, по всей вероятности, умрет: если учесть, в каком возрасте в среднем по стране умирают женщины и к тому же принять во внимание семейную предрасположенность (предрасположенность к умиранию,осеняет меня), это случится где-то в тридцатые годы.
– Не знаю почему, но мне постоянно приходит в голову 2037 год.
Так или эдак, вероятность, что она будет жить еще после 2040 года, невелика; в 2050-х – практически нулевая. В общем, все просто. Ее подсчет кажется мне тягостным, но Фуйкова не согласна.
– Самый нормальный подсчет на свете. Каждый должен это осознать.
– А я не хочу осознавать! – восклицает Зузана, отбрасывая эту мысль. – Я молодая, красивая, передо мной вся жизнь, и горе тому, кто посмеет в этом усомниться!
Фуйкова, меняя тему, делится впечатлениями от бесед с клиентами: чета стареющих, всегда спорящих богатеев-парвеню хотят от нее, чтобы она обставила им квартиру, в которой они наконец будут счастливы.
– Подумайте! Все, чего за пятьдесят лет они не получили от жизни, теперь хотят от мебели!
В половине второго нас остается трое: Скиппи, Фуйкова и я. Мы едва живы от усталости и алкоголя. Догорели свечи, которые в начале вечера зажгла Мария, – понимаю, что мысли у нее были самые благородные, но мы пришли сюда развлекаться, а не сидеть за столом с тремя покойниками; одно с другим, на мой взгляд, не очень-то вяжется. Смотрю на пустые алюминиевые подсвечники. Игра на вылет, говорю я себе. Старший официант приходит напомнить нам, что заведение закрывается в час. Скиппи намерен ругаться.
– Пошли! – приказываю я.
Достаем кошельки, а потом несколько раз пересчитываем банкноты, оставленные здесь одноклассниками, но все время приходим к разным результатам.
– Математика мне никогда не давалась, – бормочет Фуйкова.
Ничего не могу поделать, но она кажется мне уродливее обычного.
Скиппи снова начинает раскладывать деньги по кучкам.
– Не стоит, плюнь на все! – говорю раздраженно. – Относись к жизни проще. Мудрость будущего.
Махнув рукой, подзываю официанта, который быстро пересчитывает бумажки – к удивлению, несколько стокроновых банкнот он нам еще возвращает.
– Дадим их Вартецкому на наводнение! – горланит Скиппи.
– Но ведь его дом пока не затопило! – возражает Фуйкова.
– Если доживет, затопит! Не то отдадим сироткам!
Логика выпивох.
– Тогда спокойно можешь отдать мне, – с трудом выговаривает Фуйкова.
Официант улыбается, он уже переоделся. Все оставшиеся деньги придвигаю к нему. В каком-то проблеске ясного сознания успеваю оценить, что к нам он относится все еще уважительно.
– Спасибо. Знаете, что написал Цвейг за месяц до самоубийства?
Он качает головой.
– Жизнь нашего поколения обречена, уже не в нашей власти повлиять на ход событий, и мы не вправе давать советы будущему поколению после того, как в жизни собственной не оправдали себя.
– Аминь, – говорит Фуйкова.
Мы вместе едем на Уезд, где Скиппи у подножья Петржинских садов блюет в кусты. Фуйкова пытается уверить меня, что на выпускном вечере на Слапах мы целовались. Я знаю, она любила меня, но, к счастью, была настолько благоразумна, что держала это при себе. Сколько, собственно, у нее детей? Один? Двое? Я всегда такие вещи забываю.
– А мы спали с тобой? Я был хороший?
– Я говорю серьезно. Скажи: ты это помнишь?
– Помню только, что я был вдребадан пьян. Это моя привычная точка опоры. Для моей памяти это лучший ориентир.
Скиппи издает ужасающие звуки. Поодаль светится в темноте памятник скульптора Зоубека – жертвам коммунизма: черные торсы человеческих тел. Киваю на них.
– Это мы, – брякаю глупо. – Дети Гусака.
– Не ври самому себе, болван, – отвечает Фуйкова резко. – Твоя жизненная трагедия ни с каким режимом не связана.
В конечном счете она права. Скиппи возвращается.
– Хорошо, – говорю я. – Пошли найдем какой-нибудь уютный нон-стоп и спокойно разберем наши жизненные трагедии.
Фуйкова
Из этого затрапезного нон-стопа мы выбираемся только после семи, а пока попадаю домой, уже восемь. Борис в микроволновке готовит детям какао. Вспоминаю, как папа в прошлом году вместе с микроволновым подогревом включил гриль – пластмассовая миска, в которой я собрала ему обед, расплавилась, и еда пристала к стеклянной тарелке на дне. С тех пор любую еду он подогревал исключительно на газовой плите. Мобильный телефон он также отверг. Он не вписался в XXI век – эти три года он как бы служил сверхсрочно. Над подушками безопасности и системами ABS в авто он посмеивался (не говоря уж о фарах, что поворачиваются в направлении движения руля). Его мир – автобус с прицепом, телефон с круглым номерным диском и громоздкий радиомагнитофон «Грюндиг». В последние годы он напоминал мне стариков, которых мои клиенты, без сомнения движимые благородным порывом, берут подчас в свои новые, для двух поколений, квартиры, а старики потом блуждают среди этого минималистского дизайна и в тщетных поисках крана растерянно глядят на футуристические водопроводные батареи.
– Ага, мы уже дома, – говорит Борис, с виду раздраженный. – И смердим, точно табачная фабрика.
Самоуверенностью, которую я когда-то в нем выпестовала, словно нежный цветочек, теперь он успешно пользуется против меня. Поучает, критикует и подтрунивает надо мной. Двенадцать лет назад боялся меня, а теперь подкалывает. Он без комплексов, подобно мне (слишком долго я скрывала их от него и детей, так что в конце концов освободилась от них; хотя где-то в глубине сомнение живет во мне, но есть ли смысл его отыскивать?). Вы бы поверили, что он в моем присутствии даже флиртует с женщинами? Когда я сдержанно возмущаюсь, он с ироническим превосходством объясняет мне, как устроена жизнь. Сообщает мне истины, которые я когда-то открыла ему, а он запросто присвоил их – не важно, что сама я их по большей части узнала от Тома. Любить не значит обладать.
Дважды он изменил мне, но весь год, пока умирал папа, он, можно сказать, не выходил из дому, делал с детьми уроки, играл с ними, покупал, готовил, а ночью, как и я, не спал и подавал мне бумажные носовые платки. Никогда я не думала, что буду любить кого-то, кто носит твидовые котелки, ненавидитвьетнамцев-торговцев и боготворит Гелену Вондрачкову, но это случилось. Обнимаю его.
– Люблю тебя, Борис. Ты это знаешь?
– А она у нас все время навеселе! – довольно улыбается он.
Прибегает Лукаш, он еще в пижаме. Вижу, он хочет поцеловать меня, и я, нагнувшись, подставляю лицо. Андулка, напротив, проходит мимо не здороваясь.
– Доброе утро.
Никакого ответа.
– В чем дело? – спрашиваю.
Борис ждет, пока Андулка возьмет какао и закроет за собой дверь детской.
– Ей кажется, что она уродина, —шепчет он.
Лукаш злорадно усмехается.
– Ничего, – говорю я весело, – это она в меня.
Том
И снова одинокий зимний уик-энд: Джеф где-то на лыжах, Скиппи на месяц улетел в Австралию. Делаю себе второй винный «шприц»; с одной стороны, мне жалко лить в такое прекрасное виноводу, но с другой – понимаю, что в десять утра мне не надо пить вино неразбавленным. Безучастно дочитываю газету и оба воскресных приложения, а потом составляю список людей, которым бы мог или должен был позвонить. В конце концов, естественно, не звоню никому. Меня не перестает удивлять, что некоторые человеческие свойства, которым теоретически полагалось бы исключать друг друга, в реальности вполне успешно сосуществуют: например, неприязнь по отношению к людям и неспособность переносить одиночество. Я наливаю себе третью рюмку, уже без воды. Презираю сам себя, тем не менее мое настроение постепенно улучшается; чуть позже мне даже приходит мысль заняться уборкой и таким образом добиться слабого подобия удовлетворения. Уборка – опиум для алкоголиков.
Пустые бутылки мы собираем сначала в углу кухни возле мусорной корзины, потом, когда уже нельзя подойти к плите, – за дверью, в прихожей. Пиво покупаем в жестяных банках (дальнейшее нагромождение стекла для нас непозволительно), поэтому преобладают винные бутылки; редко можно заметить этикетку русской водки или двенадцатилетнего шотландского виски, который получил Скиппи в благодарность за выжженные бородавки. Моя доля в этих запыленных бутылках по идее должна была бы составлять одну треть, однако на деле их подавляющее большинство; значит, и выносить их – моя забота. Это, как и всякое другое дело, стараюсь отложить на потом, по меньшей мере до тех пор, пока входная дверь не начнет ударять по бутылкам, тогда каждый приход Джефа и Скиппи станет звенящим настойчивым напоминанием.
Я беру достаточное количество пластмассовых сумок и начинаю решительно складывать в них бутылки: первые – их большинство – горлом кверху, следующие – наоборот. В некоторых из них остатки винного камня, изредка вытекает и несколько капель вина – здесь бутылки опорожняют до дна. В итоге сумок девять; я беру в левую руку четыре, в правую – пять и, как прокаженный, с предупреждающим, обличительным звяканьем (и с надеждой, что ни одна из сумок не порвется) выхожу из дому, направляясь к контейнеру. На улице останавливается такси, из него, к моему изумлению, вылезает Скиппи, с чемоданом, в мятом летнем костюме и ковбойской шляпе. И я ужасно радуюсь, увидев его.
– Привет, доктор. Стало быть, ты там не задержался.
Он ставит чемодан на тротуар, берет у меня часть сумок и идет со мной к зеленому контейнеру. Мы подходим к разным отверстиям и начинаем бросать бутылки.
– Ну и грохот, конец света! – кричит Скиппи.
Если бы…
Автор
Сильвестровскую ночь [38]38
Ночь в канун Нового года.
[Закрыть]он уже давно не отмечает – неудачных новогодних праздников в его личной истории так много, что это не может быть случайностью. В ночь на Сильвестра 2003-го его скепсис усиливается еще и тем, что позади остался тревожный год, большую часть которого он провел, посещая психиатрические больницы и геронтологические клиники, где одновременно умирали его дед и бабушка, – однако в то же время у него родилась дочь. Жизнь берет и дает… Банальная фраза или глубокая правда?
Он с дочкой и женой в Сазаве; в полночь они с женой выходят на террасу на втором этаже, чтобы хоть издали посмотреть на городской фейерверк. Жена приносит из спальни одеяло, чтобы набросить его им обоим на плечи, и электронную нянечку марки «Филлипс». Марка напоминает автору бумажную куртку «Грюндиг». С этим покончено, сознает он. Все пережито.
– Все пережито, – произносит он вслух. – Я пережил собственную молодость.
Отчасти это его личная заслуга, отчасти ему везло. Пережить молодость не каждому удается: он сталкивается с этими неудачниками в ресторанах, на улице, на встречах бывших абитуриентов. Видит их по телевизору, читает их статьи в газетах.
– Поздравляю.
Веронике двадцать семь, ей этого не понять.
На Новый год они с коляской отправляются к реке – после многих лет она замерзла. По заснеженному льду они проходят несколько километров, на всем пути повстречав только двух конькобежек с собакой.
– Ты уже знаешь, как она будет называться? – спрашивает Вероника.
– Игра на вылет, или просто вышибалы.
– Разве книжка про эту игру? – удивляется она.
– Вот именно, про такую игру, в которую мы играем всю жизнь.
– Нет, серьезно. О чем она?
Он идет и думает: этот вопрос он, собственно, еще не задавал себе.
– О выбитых людях. И о тех, кто не нашел себя в жизни.
– А в романе много таких? Таких, что не нашли себя?
Автор останавливается и начинает считать: поднимает большой палец правой руки – и застывает в сомнении.