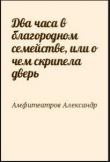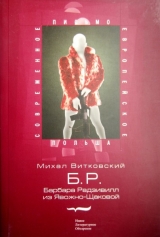
Текст книги "Б.Р. (Барбара Радзивилл из Явожно-Щаковой)"
Автор книги: Михаил Витковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Она хотела получить солидную сумму, и я ей немедленно дал, достал дрожащими руками из несгораемой шкатулки с двойным запором, потому что у меня глаза разгорелись на эти жемчуга. Старушку или кондрашка хватит, или не получится у нее вернуть эти деньги и заклад навсегда пропадет в моей шкатулке, в моей сторожке, каморке, пусть даже и еврейской! А по-еврейски это называется гит гемахт гешефт [21]21
Здесь: хорошо провернутое дело (идиш).
[Закрыть]. И этот жест – я по сей день так потираю руки – тоже еврейский. Моя бабка, Кропка Розенцвейг, со своей свекровью Перлой (sic!) Голдман лучшее мыло на улице Хлодной на Керцеляке [22]22
Рынок в одном из варшавских районов.
[Закрыть]продавали, лавочку с корсетами держали, запах чеснока изо рта… Ай вэй! Лучшее мыло, ганц цимес гребешки, а также лучшее повидло. Корсеты, мацу, уксус и гребешки, а у свекрови на улице Тамка – еще пуговицы и камешки. Моя тетка Роза Голд, не помню уж, то ли по материнской, то ли по отцовской линии… в смысле пратетка, и даже прапра… ну, короче, Роза в нашем штетл [23]23
Местечко (идиш).
[Закрыть]торговала дешевкой; всегда у нее зубы болели, и голова под париком все время чесалась… И так яростно торговалась, на всю улицу кричала: «Киш мин тухес!..» [24]24
Поцелуй меня в задницу (идиш).
[Закрыть]
Всех с первым же эшелоном, с дымом…
Окна у меня в решетках, и я ухаживаю за запылившейся искусственной розой с искусственными, тоже запылившимися капельками росы на листочках и на лепестках из губки. Такая атмосфера со времени перехода Красного моря царит во всех учреждениях подобного типа: в ломбардах, меняльных конторах, подозрительных лавочках, пунктах продажи почтовых марок, в комиссионках… Я – сова, не сплю, охочусь по ночам. Надеваю нарукавники. На голову – ермолку. Закрываюсь в каморке с большим калькулятором, работающим от сети, и открываю шкатулку. Достаю ровно сложенные пачки долларов, рублей и злотых, у каждого по отдельности разглаживаю ногтем уголки и проникаюсь неведомым блаженством… Несравненная сладость разливается в душе, когда я приступаю к описанию этих моих сладких ночных бдений… Что аж, прошу прощения, говном исхожу! От переполняющих меня эмоций в животе бурление происходит; затягиваюсь сигаретой, потому что в последнее время я, к сожалению, присоединился к «любителям подымить», калькулятор чудит, потому что пока еще время электричества, а не электроники, ну знаете, большие красные цифры, состоящие из точек, а точнее, из квадратиков. Неважно. А может, как раз чертовски важно. Довольно того, что я выглаживаю, обнюхиваю, подравниваю пачки денег, отдельно сотенные, отдельно полусотенные… Есть в этом что-то от раскладывания пасьянса. Пальцами в перстнях. И чем старее эти зеленые, тем милее их запах, и пахнет как будто бананами, неграми. На одной кто-то где-то когда-то записал номер телефона. Звонил я по нему ночами, не было ответа. А даже если бы и ответили, что я сказал бы? Что ночью звоню стодолларовой банкноте? Эй, сотня, жаль, что вас так мало у меня, загляни ко мне с подружками, пусть прилетают в окно на своих зеленых крылышках, Барбара Радзивилл в замке «Бастион» устраивает прием тунайт! Дикие оргии в липком и скользком ломбарде, чтобы вы у меня тут совокуплялись, чтобы размножались почкованием, потому что сегодня будет зеленая ночь [25]25
Зеленая ночь – ночь-перевертыш, карнавальная ночь, последняя ночь существования временного коллектива (конец смены в детском лагере, заезда в доме отдыха, последняя ночевка в турпоходе, последний концерт в гастрольном туре и т. д.), когда все его участники устраивают друг другу сюрпризы с переодеванием, мазаньем зубной пастой, прятаньем вещей и т. д.
[Закрыть].
Порой, когда происходила особо важная сделка, я доставал старые счеты, чтобы проверить. Проверить, возможно ли, чтобы прибыль была такой большой. Только когда я знал, что прибыль и в самом деле будет большой, я доставал из ящика счеты и дрожащими руками перекидывал благородные, солидные коричневые зерна, такие же сами по себе дорогие и красивые, как зерна кофе.
Десятки лет деньги находились в беспрерывной круговерти, кочуя с континента на континент, из кармана в карман, а тут нате-здрасьте, приехали на конечный пункт – попали в мою нору и так прекрасно обездвижены, как бабочка на булавке. Еще пытаются трепыхаться, но я не выпускаю их, я их собираю, о, я такой, я – маньяк-коллекционер. И эти драгоценности из моей коллекции на стольких шеях, на стольких трупах дышали, на стольких, что и фантазии не хватит, но кино, кино и театр у меня задаром, могу на развлечениях сэкономить, потому что здесь, в каморке, когда рабочий день закончен, заклады сами рассказывают мне истории, только мне! Вон цирконий, из колечка выковырянный, арию мне исполняет: кто выковырял, когда, для кого. Тут золотая коронка мне улыбается: из чьего рта, из какого концлагеря. И все так по-музейному неподвижно, так по-музейному аккуратно, краешки так выровнены, что аж судорога скручивает, когда надо какую-то сумму изъять на время и снова в этот кошмарный оборот пустить, позволить упорхнуть… Металл полировал, бумагу разглаживал, укладывал. А тут укладываю, а у меня уже руки трясутся от избытка чувств, как у вора какого, будто сам себя ночкой темною да со слепым фонариком обшариваю, обворовываю. Тут я обмахиваюсь веером из банкнот и чувствую, что у меня встает, прошу прощения, чую, как у меня в штанах шалит! По груди золотыми слиточками вожу и млею, потому что от этих слиточков самое большое наслаждение! А вершиной всего был момент, когда старое надтреснутое зеркало достал и эти старухины жемчуга на голову себе возложил, вроде вуали, откуда потом мое погоняло и пошло, и, даже когда я в тюрьме сидел, никто не называл меня иначе как Барбара Радзивилл. Так и говорили: Барбара Радзивилл срок мотает. А чего только не сделаешь ради защиты честно нажитого.
*
За окном непогода, стеклянная погода. За решеткой щерится Щакова, за окном, за пуленепробиваемым стеклом. За окном красота, за окном чудесно поют птички, как-то: вороны. Каркают, что тоже своего рода пение. Дождевая блевота, сыпь, эти скользкие ящерки дождевых струй выползают на потолок и оттуда людям на кожу. Потому что все гниет в холодных странах. Афта с левой стороны на языке. У основания языка ближе к горлу. Уже пожирает меня. Точно как у той самой Барбары Радзивилл. Зараза облепит все горло самое позднее уже следующей ночью. А послезавтра – перекинется с горла на бронхи, с бронхов – на легкие, тьфу! Сплевываю мокроту. Не совсем прилично, но мы, в конце концов, не в ресторане. Полотенца вроде как выстираны, высушены, а поднесешь к лицу – кисловатый запашок плесени. Выходит, не сохли полотенца, а подгнивали. Мозоль выросла. Птицы улетели. Картошка дорожает. Берут как за зерно. А не дают взамен ничего. Разве что семечки от вынутого из урны огрызка. Солнце как бледное подобие самого себя, как подтек на небе. На серые облака над Центром Продажи Раковин-Моек налеплен бледный кружок, округлый подтек. Белесое остывшее ничто. Манная кашка. След от оспы, след от прививки. Не солнце, а какое-то северное сияние! Я мою посуду. Шеф, можно мы сходим в тренажерный зал? А идите, идите себе все, я сегодня остаюсь за прачку! Каждый день стираю грязное тряпье в тазике, будто в каком-то девятнадцатом веке. Трусишки, никогда стирки не знавшие. Спереди – кефир, да и сзади – не зефир. Какой же этот Саша грязнуля, какой же этот Фелюсь неряха! Тру на стиральной доске, смахиваю пот со лба, откидываю волосы. Волосы тяжелые, как в том сне. Про весну.
Кстати, а что там было? Весна и волосы – это я помню. Легкое дуновение ветерка, тепло от земли. Румынская деревня, плоская равнина. Песчаная дорога. Я – румынская девушка и иду вся из себя такая, грудь большая, чуть ли не вываливается наружу, едва прикрыта какой-то тряпицей, вроде как блузкой… расстегнутой… Первый дух от земли, только что освобожденной от паводка, первая зелень травы. Иду с луга, с овцами, и, повторюсь, я – то ли еврейская, то ли румынская девушка, а мой отец из корчмы зовет меня:
– Адиджа! Адиджа! Живей, дочка, австрийские солдаты приехали! Надо пивом, пивом их угостить, а коням корму задать…
А я смотрю на моих овец, на наш тутовник, на горизонт, и нет сил ускорить шаг, потому что тяжело мне от этой весны, такая я стала ленивая и волосы чувствую на себе – тяжелые, в косу сплетенные… Земля и первая трава…
О нет! Саша! Вон, смотри! Еще раз доведешь трусы до такого состояния, сам будешь стирать! Может, я и толстый, может, у меня вены выпирают. Но я чистый! Вот только в последнее время руки у меня грязные, сам не знаю почему. Потому что вы, шеф, слишком часто деньги считаете по ночам. А ну пошел отсюда, не то как огрею! Чистый я, чистый – из жопы у меня фиалкой пахнет, фиалковым дезодорантом, что привез я из ФРГ! Вас что, мать опрятности не научила? Оно конечно, в морду клиенту дать, находящиеся в залоге вещи из ломбарда к себе таскать, машину кому-нибудь подпалить, с калашом по городу кружить… Бритвой цветы вырезать людям на карманах… Но чтобы раз в два дня трусы меняли! Воняет у тебя из задницы гнильем, Сашка! Вы у меня снимаете мансарду под крышей, поэтому чистоту и порядок обязаны соблюдать! Я тут хозяйка, я тут ключами на кольце позвякиваю! А ну, такие-сякие, вы только посмотрите, во что жилище превратили! Телевизор сломался, сходи в город, принеси что-нибудь! Мука закончилась, рис, а ну-ка, такие-сякие, живо изобразите то, что я видел на огороде у зеленщика. Ступай по яблоки на участки, может, еще не сгнили. А если вы, такие-сякие, будете тянуть с квартплатой, то пеняйте на себя! На мороз выставлю! Завтра же утром слетите с квартиры! (Наставь их, Боже, на новый жизненный путь.) В забой, с киркой! Может, вас в дискотеку «Канты» в охрану возьмут, вышибалами? А впрочем, нет. Налог на лицо при рождении вы не заплатили, пошлину за приход в этот мир пожалели, вот вас и не возьмут. По пятницам, когда там техно-пати, не только из Катовиц, но даже из Щецина иногда приезжают. Там и встречаются барышни, угольной пылью припорошенные, с парнями, в спортивные костюмы одетыми. А в таких трусах, как у вас, – учтите, такие-сякие, – в приличном обществе не примут.
Ладно. Завариваю чай кипятильником в большой белой кружке с сиськами, которую я получил на именины сто лет тому назад. С соответствующим девизом. Вытаскиваю пакетик с заваркой и прячу в баночку. Что такое? Кто сказал одноразовый? Никакой не одноразовый: такой крепкий, что можно еще три раза чай заварить с одного и того же пакетика!
А пока заваривается, подсчитать все долги, кто кому сколько должен. У этого Фелюсь сопрет видео. Познакомьтесь с Фелюсем, познакомьтесь с Сашей. Описание Саши. Саша, какой у тебя цвет волос, я сейчас как раз пишу людям про тебя.
У Сашиных волос вообще нет цвета. Потому что для цвета надо как минимум, чтобы волосы были. Эй, Саша, у тебя вообще есть волосы? Говорит, что есть. (Есть, у мышки есть на пипке шерсть.) Хобби… Пишу тебе «автомобили», пойдет? Может, машины, шеф? Ладно, пишу так: «автомобили» – косая черта – «машины».
Саша должен заботиться о руках. Как последний пидор, Саша на ночь втирает себе в руки крем. «Зачем? – спросите вы. – Он что, артист?» Пианист? Ну, Бритвочка, докладывай, как обстоит с тобой дело… Артист по жизни. Саша, вот он. Покажись людям. Не менжуйся. Такой мастер, а тут вдруг засмущался… Саша – артист по жизни и должен проявлять заботу о своих руках, потому что он вор-карманник. Говорит:
– Теперь, блин, воров на вокзале нет. Какие это карманники? Когда мы в Одессе ходили на Китайский вокзал и бритвочкой резали, так я даже подкладку не задевал. А теперь эти подонки идут с негнущейся рукой и так тебе бритвой по жопе проведут, ажно кровь брызжет!
Вот какой он, Саша. Улыбается во весь рот. Воплощенная идея экспроприации.
Парень он хороший, хоть и простой, как колун. Сейчас вот только немножко подгнил, как и все зимой, нет что ли, Сашенька? Как мешок картошки. Вода забулькала в кружке, в сырой темной каморке. Даже самый горячий чай здесь не поможет. Гнию я, и гниет картошка, которую Саша предусмотрительно посадил, выкопал и теперь она есть. Сегодня он снял все один за другим свои свитера, штаны-мешки и показал мне под мышкой зеленоватые бляшки. Сырость добралась и до него. Ой, жуткая картина! Придется с этим к дерматологу пойти, Саша. Она даст нам мазь, должно помочь, Не только здесь, во всей Явожне сидят люди по кафе, красиво одетые, в черных шалях, в кружевах, кофе пьют, сигареты курят, вместе уходят, идут. Идут, идут, уходят по затхлой лестнице наверх, кладут цветы на пыльный столик с зеркалом, вешают одежду на вешалки. И… тогда появляются бледные тела. Иногда ничего не происходит, но все чаще: «А ну посвети здесь…» – «Здесь ничего!» – «Если ничего, покажи, повернись, подними руку!» И выходит на явь плесень, легкий белесый или зеленоватый налет. Особенно в темных и влажных впадинах тела, потому что это обычно так и начинается в складках или где-то внутри. Между ягодицами, И это не выдумки. В кафе ничего не было видно, но иногда можно почувствовать: вот сидит красивая дама, курит, в шляпе, в духах, а все зазря. Чуткий нос чует издалека. Вроде как крысиный запашок из подвала.
Встаешь утром, а вода из крана идет холодная, цвета жидкого чая, непригодная для питья. Открываешь горячий кран – и тоже холодная, пятнадцать минут идет холодная, а платишь как за горячую. Хорошо, что хоть уголь есть, посылаешь Фелека на дырку-копанку, и он тебе за сущие гроши приносит. Зима – весь мир против тебя. Единственный плюс – за окно можно еду повесить, холодильник отключить, чтобы колесико в счетчике как бешеное не крутилось, быстро-быстро, будто хотело высосать из меня кровь. А за окнами холодно, что хочешь вешай – неделями не портится, только от сажи потом оттереть и ешь. Но опять-таки за окном темно: что сэкономишь на холодильнике, потратишь на свет. А впрочем, и так нечего есть, лучшие куски парии давно уже утащили из буфета. Всё чайного цвета: грязное белье, едва дышащие вперемешку с уже сдохшими фонари, следы мочи на снегу, хоть и припорошенные угольной пылью, всем этим бассейном. Моя дворня стирает с утра и развешивает в ванной, но высохнет ли хоть что-нибудь в этой сырости – отдельный разговор, потому что скорее грибок съест все и всех, ему что люди, что стены – один хрен! Жутко сопя, Саша (Украина) делает отжимания. А я только мечтаю, чтобы все наконец ушли и я смог остаться после работы в конторе и проверить, не переползла ли плесень на банкноты.
На зеленом плохо видно.
Просыпаюсь на следующий день и вою от боли: рука, а точнее, подмышка, о нет… эпидемия что ли какая?! Сглатываю слюну – больно. С подмышки словно кожу содрали, горит, щиплет, ноет, а завтра ничего не буду чувствовать, потому что начнется некроз и у меня все это место вырежут. К дерматологам очереди, запись за две недели. Возле аптеки парни, нанятые зеленщиком, торгуют лекарствами, потому что в очередях с такой болью не выстоишь. Это уже вторая эпидемия за мою жизнь. Предыдущая была в пятидесятые годы. Помню о ней из рассказов дядюшки. Это была эпидемия припорошенности. Болезнь, которая не затрагивает только самых больших городов и самых богатых родов. Начиналась она в какой-нибудь самый обычный, скажем, вторник. И все грустны, серы, припорошены этим углем, этим вторником. Невкусным обедом. Нулевой перспективой поездки в теплые края или выигрыша на тотализаторе. Удаленностью от ближайшей лагуны на световые годы. Потом глаза делаются красными от угольной пыли, а люди – все более серыми, их лица – все более сморщенными, некрасивыми, и вообще они стареют. По бассейну ходило сплошь вокзальное старичье. Глаза чесались, перхоть с волос сыпалась, ногти грибок пожирал, неприятный запах изо рта, личики такие скукоженные сделались (сам видел на снимках), сморщенные, словно яблоки печеные. Люди становились точно чернослив сухой и глупели от этого, превращались в дебилов. Как теперь в аптеку, так тогда и в парк аттракционов очереди стояли, на «карасоль» – так по-силезски карусель называют. Короче, становились полными идиотами, впадали в детство, им хотелось, чтобы было поцветастее, повеселее, потому что веселье – единственное лекарство от старости и от припорошенности угольной пылью. Конфетти и такие свернутые бумажные трубки – дуешь в них, и они разворачиваются – «тещин язык» называются. Вся территория покрывалась разноцветными клочками после фейерверков, взрывов, дядюшка тогда кучу денег заработал на своем тире, о чем ниже. А всего лишь он краски продавал в порошке, в жидком виде, в мыльных пузырях и сладостях, разноцветную сладкую вату и радугу в драже. Зимой краски в холодных краях линяют. Даже без эпидемии припорошенности. Сам этим периодически занимаюсь. Распечатываешь такой листок на принтере, что, дескать, за петардами сюда. Вставляешь в пластиковый файл и прикрепляешь к дверям гаража. Я там под Новый год, когда царит вечная зимняя ночь, петарды продаю. В гараже. Чуть ли не за полцены. Собирается вся щаковская бомжарня, до петард охочая. Как же они любят, чтоб взрывалось. Например, целыми днями то яблоко, то капсюль на проезжую часть бросят в надежде, что машина по ним проедет и их расхуячит во все стороны. А еще любят зажигалкой все попробовать, например расписание на автобусной остановке поджечь. Один раз даже нашу рекламную тумбу подожгли. Вот какая в народе потребность разноцветья! Красное в ночи кого хочешь возбудит, кого хочешь подожжет. А поскольку серо, то лампочками наподобие елочных все в этих холодных краях увешано, и в этом серо-стальном свете они зажигаются и гаснут. Но такие лампочки только на то и годятся, чтобы подчеркивать серость того, к чему прицеплены.
А именно мира.
Ну а эта эпидемия зимнего загнивания чуть ли не каждый год в том или ином виде нас посещает, хотя до сих пор мы ей как-то противостояли и она нас не брала, женьшень пили, а теперь только Фелек здоровым остался и за нами ухаживает. Затыкая нос. Фелек, принеси мне горячей воды! Приведи врача-частника, а то, если у Саши руки отнимутся, я отказываюсь дальше жить! Я уже в калькуляторе клавиши поломал, когда расходы на лекарства и докторов подсчитывал, а что поделаешь, нету выхода. Эй ты, Саша, а вдруг придет тот докторишка подслеповатый, у которого мы компьютер спиздили, а я сейчас на компьютере том все наши приключения описываю? О, блин, шеф, уж он-то нас и вылечит! Но пришел другой, уфф. Сюда, доктор, это здесь! Спасайте нас, заживо гнием! А уж как отвратительно выглядят эти лишаи, а уж что, пан доктор, творится в домах бедняков! У одной женщины до головы все съело, так и схоронили! В самом конце только эта голова о помощи взывала, остальное ампутировали. А голова та еще пела шахтерский гимн! Жант Францковяк – не знаю, слышали вы о нем? – тоже совсем сгорел. А доченьки-то его так и не объявят о его смерти, ой не объявят… Саша, ты слышал о Францковяке? Том самом, который «не скупись для папы»?
Он из французских поляков, Саша. Они потом в Польшу на экскурсию приезжали. У всех французские паспорта, а имена по-нашему звучат, ну, например, Болеслав Врона. А так все настоящие французы. С гордостью о себе говорили: «Рихтиг [26]26
Рихтиг – здесь: настоящие (силезск.).
[Закрыть]поляки – суть вестфаляки». Потому что после Первой мировой войны они приехали на работу во Францию из Вестфалии. Потом пошли картошечники, то есть выходцы с познаньских земель, а в самом конце иерархии Босые Антошки, из русской части раздела Польши.
Жант Францковяк был как раз из Босых Антошек. Приехал из этой самой Франции с двумя дочками. И в конце концов решил вернуться на старости лет сюда, откуда родом, а на жизнь у него было. Сколько? Да он всю жизнь по шахтам верхней Франции, вернулся с прогрессирующим силикозом. Но зато с французской пенсией. Потому что во Франции из-за силикоза тебя не таскают, как у нас, по санаториям, не выдают сухое молоко каждый месяц, а просто дают много денег. За такую-то и такую-то степень силикоза столько-то и столько-то франков. Впрочем, Жант Францковяк уже был худенький, тощенький, маленький, весил примерно сорок два кило, а дочки впихивали в него целые горы колбас, яиц, молока, сметаны, потому что каждый месяц он получал солидную пенсию. Так что одной дочке – машину, второй – машину, одной дом обеспечил, второй дом обеспечил, в том смысле, что выделил им квоты. Но Жант Францковяк не хотел есть и таял на глазах. Так одна дочка другую контролировала, напоминала одна другой, на сеструхины руки загребущие посматривала, а за ужином только и было слышно: «Не скупись для папы! Не скупись для папы!»
А чего силикоз не осилил, то гниль сожрала! Поэтому, господа, надо немедленно живым огнем, каленым железом очаги гнили выжечь, ой, будет больно, ой, будет вонять! И никакой женьшень тут не поможет. Только антибиотики: одними – раны помазать, другие – вовнутрь принять. И в Закопане, в санаторий, что есть духу мчаться. Ты помнишь, Саша, ту ночь в Закопане, когда мы ехали Крупувками [27]27
Крупувки – главная улица в курортном городе Закопане.
[Закрыть]? Снежинки нам на усы садились, бубенцы в санях звенели, а мы, пьяные от водки, велели вознице: на Каспровый! [28]28
Каспровый Верх – горная вершина (1987 м) в Татрах на границе со Словакией.
[Закрыть]Дык, паночку, туды возочки не возють! А в пансионате «Тубероза» что творилось… Когда Саша в первый (и в последний, ей-богу, в последний!) раз был со мной в шикарном китайском ресторане и вел себя безобразно. То мне на радость и вгоняя в оторопь каких-то английских туристок ржал конем, то мычал быком, потом по очереди звучал всеми тварями… это надо же, как же человек перед лицом смерти перестает считать деньги, чтобы еще попользоваться остатками жизни! С Сашей, в Закопане, в эти прекрасные морозы, которые не пробирают до костей, мы, расхристанные, без шарфов, без перчаток… Помнишь ли ты ту ночь в Закопане? Как ты в кафе «Эдельвейс» на игровых автоматах всех обыграл? Как мы в кафе отеля «Каспровый» с местными фарцовщиками пили водку и обделывали левые дела? Как мы переманили всех горцев, что торговали местным сыром, кожаными тапочками, мехом?! Они только сидели в «Каспровом», а те на них работали, на санях, на сырах, на тапочках мерзли. Как я купил тебе сырок и гуральский топорик, хэй, топорик! Точно с собственным сыном приехал сюда…
*
Саша! Куда опять этого парня понесло? Сашенька… Тишина. Александр Сергеевич, дорогой? Молчание. Страх и трепет. Саша! Кончай шутки шутить! Где полотенце? Скажи мне! Дэ ты подил той рушнык? Могу я узнать? Не прикидывайся, что не слышишь! Мое полотенце – моя собственность! Ты тут завязывай у меня в квартире со своими воровскими штучками! Что, Одесса-мама вспомнилась?! Иду наверх! А они здесь! У себя на чердаке. Пьяные в стельку. Не меняй тему, Саша, тема все та же, а именно отсутствие моего полотенца. И он начинает вертеться ужом на сковородке. Наказание господне с этим парнем! Где мое полотенце? Саша, ради бога, перестань играться этим ножом, когда я с тобою разговариваю! Когда ты разговариваешь со своим благодетелем-кормильцем. Фелек, не ковыряй в носу! Я запрещаю, в смысле просто считаю, что это некультурно, некрасиво. Неприлично. Просто не комильфо. Фи! А они пьют водку с Фелеком, курят сигареты из Одессы «Козак» – последнее говно без фильтра, табак в рот сыплется, в мягкой упаковке по гривне двадцать за пачку. Саша, отдай полотенце, плииз. А они в карты режутся и какой-то заговор замышляют, что, дескать, «Украина поднимется с колен». Та-ак, теперь этот парень будет мне давить на высокие идеи, этот великий, блядь, декабрист-романтик, чтобы отодвинуть скользкую тему полотенца. А полотенце денег стоит. Боже, как же ты выглядишь, ну совсем как мой дядюшка из Руды! Пузо наружу, в подтяжках, в татуировках, что я порой – скажу тебе по секрету – я порой думаю, в доме живу я или на каком-то корабле, на судне морском, пьяном, а может, у себя в собственном доме только на правах матроса, юнги корабельного? Плюют, понимаешь, табаком на пол. Я хлопаю в ладоши. Все, конец представления! Предупреждаю: если полотенце не отыщется до утра, то Украина не только поднимется с колен, но еще сядет в поезд и вернется назад на Украину!
И тогда Саша – а он уже хорошо знает, что нужно делать, чтобы меня не раздражать, – кладет руку мне на плечо. Успокаивающим жестом. Наливает мне изрядную порцию самогона и прибегает к своему коронному аргументу, которому, как он знает, я не в силах противостоять: этот бандит достает свою гармошку. Этот разбойник достает гармошку. То же самое произошло бы, если бы он достал балалайку, плачущую скрипку, хотя куда ему до скрипки. То же самое вышло бы. Так или иначе он с этим своим брюшком наружу перестает жрать тараньку – вяленую рыбку, что привез с собой с Украины, и открывает передо мною настежь всю свою чувствительную восточную душу. О которой он уже хорошо знает, что на меня это действует. Что я тотчас же упьюсь, притащу из ломбарда свои жемчуга, возложу их себе на чело. Но, шеф, этот берет вы, видать, сорвали с какого-то вокзального старикана. Наивняк! Это не берет, это бирет. Бирет, как на портрете! А ты на этой гармошке разливал душещипательное настроение. Фелек – на аккордеоне, потому что он дитя улицы, может, даже варшавской улицы, может, даже оркестр с Хмельной или с Праги. Раздается его голос с хрипотцой. Допустим, певца из тебя, Фелек, не получится, но к разбою все еще годишься!
От бессонной ночи знойной
На губах остался след.
У Иосифа на Гнойной, на улице Гнойной
Собрался малины цвет.
Нету сна, еды ни крошки,
Лишь бы было что нам пить.
Если Фелек на гармошке, Фелек на гармошке
Рвет меха, мы будем жить…
А я тогда с тобой танцевал, Сашенька, в сигаретном дыму танцевал, помнишь? Все как полагается, чин чинарем иначе могло плохо кончиться, коль скоро «на Гнойной танцы у нас»… В жемчугах и еще в какой-то там шали, доставшейся от теши Аниели! И Фелек нас обвенчал на нашем корабле на нашей лайбе. Которая того и гляди затонет в мутных волнах… Наш «Альбатрос»… эх, налей-ка еще, хоть я и не особый любитель принимать на грудь, но за окном вечная ночь, дай-ка этого своего козака противного…
Фонари так тускло светят,
Сторож в колотушку бьет.
А палач под эшафотом, там под эшафотом
Уж давно Антошку ждет…
И тогда ты разливал, разливал этими своими пальца́ми, этой своей лапищей по маленьким дешевым стопочкам, поливая и клеенку в цветочек, и всю эту антисанитарию, состоящую из огурцов, горок окурков и кучек пепла. И пахло водкой, пахло потом, ибо ты не соблаговолил к венчанию надеть белую рубашку! Всей одежды на тебе – голые бабы твоих татуировок. А потом ты совал мне в рот вяленую рыбу. Ну же, шеф, ну-ка, шефиня… Еще рыбку… Не обращайся ко мне так, негодяй! А может, в сам раз годяй? А может, пусть так говорит? Ладно уж, говори, Александр Сергеевич! Рыба твоя – дрянь, выглядит как камень, а то и железка, смазанная машинным маслом для шестеренок из масленки для швейных машинок! А из моих рук шефиня не съест? Только из твоих рук. Еще как съем! И ты совал мне в рот рыбку (вы, шеф, только не кусайте меня за палец! ай!), наливал водку и приставлял к моему рту стопочку. До сих пор, когда я это пишу, у меня руки так трясутся, что только через одну по клавишам попадаю! А потом ты понес что-то совсем уже несусветное… о шпионах, которые еще при социализме выкрали чертежи, разные идеи у «Опеля» для «Запорожца», а потом скопировали. Ой, Саша, Саша… Ой, врушка… Ты так блестел своей томпаковой печаткой, как будто это по меньшей мере золото, да и зубом своим золотым тоже. А этой подделкой «ролекса», Саша, скажу тебе прямо, ты можешь пыль пускать в глаза только на своей ридной Украйне. Да и то в каком-нибудь Житомире, потому что в Одессе этот номер уже не пройдет. И здесь, в Явожне, тоже, потому что здесь никто понятия не имеет, что такое «ролекс».
Ну да, в Одессе «ролексов» полно, причем настоящих! Помнишь, ты рассказывал, как там москали на проспекте сорят деньгами, как украинские мафиози целуют руку московским мафиози? Ну, выпьем за эту вашу Украину! Она бедна там осталась, зазуленька моя-моя мала, на зеленой Украине… Хэй, хэй, хэй, соко́лы, облетайте горы-поля-долы!Ой, Саша, казак непокорный! Власть для него ничего не значит. То есть я! Лишь степь увидит, тут же свободу чует – и на коня! А как начнет клясть-поносить крымских татар, у-у-у, голь перекатная, так даже слов на них не находит, только слюной сквозь зубы брызжет от омерзения. Да, была у него татарка, но ведь не крымская, а казанская. А это разница. Эти казанские – нормальные, считает он, а с крымскими (ненавистными) они бьются насмерть. Саша желает им, чтобы их перекрутило, чтоб им пусто было! Правильно сделали, считает парень, что их выселили из Крыма, и ничуть ему их не жаль. Ой, Саша, ладно, оставь уж себе это чертово полотенце, перекантуюсь! Ты этого достоин, годяй!
*
Все приносили барахло да барахло, а тут нате вам: после старушки с жемчугами – конец барахлу настал. То есть те что приносили перегоревшие чайники, все равно приходили. Манька Барахло была у меня частой гостьей… Но только я в тот день увидел в первый и последний раз в жизни старушку как новые люди стали у меня появляться. С настоящими сокровищами. Подстава? Меня аж дрожь ночью в постели проняла, когда я сопоставил отдельные факты. Слишком уж много получается шикарных украшений. У меня даже подозрения возникли. Как будто я был женой вампира, который золотые колечки ей носил. Раз принес – она обрадовалась, второй, третий раз принес – ей уже как-то не слишком радостно, призадумалась, а после десятого колечка сама, пригибаясь и оглядываясь через плечо на свою собственную тень, побежала в милицию выяснять, откуда колечки. А вам? Вам не будет страшно, если ночью глянешь в глазок, а там за дверью твоей слесарь-газовщик стоит и лицо у него точно из журнала «Детектив»? Свет в коридоре погас, а он звонит? А ты видишь его искаженное дверным глазком лицо. А может, даже не видишь его, но знаешь, что он там, слышишь стук его сердца, словно это молот, а сам он – молотобоец, на заводе с молотком безумствует? Что, не проходят мурашки? Значит, ты понимаешь, каково было мне, когда я стал соображать, что и как с этими закладами. Что все это из могил. А сами эти люди – из газет. Подставные люди, подставные старушки. Не отдающие себе отчета, куда их втянули. Потому что целая череда афер, одна за другой. Раскапывают. Кто этим занимается – неизвестно, неустановленные лица. Гиены. Копатели жемчуга. Бурильщики золотых зубов, обручальных колец. Проходчики старых часов. Репортаж в «Политике»: «Столица преступности: добро пожаловать в Катовице!» Жемчужный бассейн. А я здесь вроде как металлург, мне досталось переплавлять все это в слитки. Мне выпало быть молотобойцем, перековывать все в тугую массу. Я у них здесь вроде прачечной.
Пробежали по мне мурашки, ой пробежали. Вампир из угольного бассейна по сравнению с этим – детский сад. Но, думаю, что делать, когда у меня под носом зеленщик новые инвестиции раскручивает, беседку остекленную в польском панельном доме себе достраивает. Заведение со стриптизом при автостраде открывает. Гороскопы ничего хорошего не сулят, несмотря на то что новую скатерть постелил. Говорят, карты это любят. Начало девяностых, коко-джамбоиз каждого киоска с кассетами доносится. Эй, красотка, оо, глянь на мишку, аа!«Белые розы» и «Белый мишка»! Девяностые! «Телеэкспресс» и Европа! На прогноз погоды каждый день приглашает шампунь против перхоти. Мир сошел с ума, коровам в мясомолочных комбинатах дают пиво и ставят классическую музыку, комета летит прямо на Землю. По телевидению президентские выборы, какой-то левый тип в черных очках и с черной папкой, как черт из табакерки. Ну слыханное ли дело, чтобы у человека было четыре паспорта, какие-то там левые деньги на Западе заработал, и все думают, что в папке миллионы, которые он собирается раздать полякам. А в других папках разные бумаги на своих конкурентов. А может, в них ничего и нет! Жена тоже какая-то левая, из какой-то экзотической страны, из Перу, что ли? А пенсионерки ради него идут золотые зубы вырывать! Мир устремился к давно уже объявленному концу, который наступит в двухтысячном году. Машина для приготовления мороженого стоит столько, что если бы взять кредит, то до конца жизни – если платить по-честному – не расплатишься. Но кредиты больше не стоит брать, приняв во внимание скорый конец света. Брюнет себе факс-телефон установил. Пейджер приобрел. В костел теперь – в двубортном пальто, в плечах широкий, как шкаф, волос наверх зализан, «ауди». Нетороплив наш Господь Бог, ой, нетороплив, ну то есть совсем не спешит… О счастье своем личном надо подумать, потому что первая молодость быстро проходит, сбросить эту пару кило. Любовь – вот путеводная нить нашей жизни, но тело соткано из стихий… Только и думаю, как бы вены на ногах подлатать (потому что все эти мази – говно, только фирмам нажива) да как бы душой куда-нибудь воспарить. Ведь учили нас на курсе ОБЖ: избегай переутомления, переутомление – накопление некомпенсированных усталостей! Боже, время летит, мы живем, а живя, теряем жизнь! А на пленке и так все наоборот: черные лица, белые волосы. Зеркало, в которое я смотрюсь, когда на своей половине дома-близнеца жемчуга достаю, спрашивает меня вечерами: