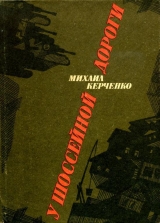
Текст книги "У шоссейной дороги (сборник)"
Автор книги: Михаил Керченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
– Ушибся? – спрашивает он кого-то, наклонившись над ямой.
Я вышел из засады. За мной выскочил Адам и с лаем кинулся на человека. Тот схватился за палку.
– Адам, назад! Что тут происходит?
– Казах Умербек попал в яму, – сказал мужчина, поднимаясь на ноги. Рыжий, рябой и курносый, он улыбался, показывая на редкость ровные белые зубы.
– Чему вы смеетесь? Надо выручать его…
– Я не смеюсь, всегда так… Природная ухмылка…
Я подбежал к лошади, развязал ременные вожжи и один конец опустил в полузасыпанный, заросший травой колодец. Мы еле вытащили огромного, как медведь, казаха. Свирепые брови, тонкие усы и виноватая улыбка… Умербек? Я догадался: это был дядя Хайдара.
– Что случилось? – спрашиваю у рябого.
– Я пчеловод. Кочую. К доннику еду. Вон там, за лесом, два грузовика. На них пятьдесят ульев. Летки не зарешечиваю. Меньше возни, и пчелы не задыхаются в ульях. Так вот едем. А навстречу Умербек. Остановились расспросить, где лучшая дорога к доннику. Он все знает. Пока говорили – пчелы напали на него. Мы-то в кабине. Он погнал лошадь, потом соскочил с ходка и побежал куда глаза глядят. Вот и попал в яму. Лошадь умная: нашла его.
– Я тоже пчеловод. Вы из какого колхоза? – интересуюсь.
– Да я частник. Рано весной выезжал на акацию. Возле железной дороги ее полно. Там же рядом болото. Ивняк растет. Так что я уже откачал несколько центнеров меда. А сейчас на донник надо. Скоро зацветет.
– Мы не позволим. У нас своя большая пасека, – сказал я.
Пчеловод улыбнулся снисходительно:
– Я знаю. Я и не собирался сюда. Зачем? Я – в Дубровное. У меня договоренность. Отдам бригадиру флягу меда – и я хозяин поля.
– У них есть свои пчелы?
– Зачем? Разве бригадир будет иметь от колхозных флягу меда? Даром! У меня, брат, дело поставлено крепко. Я столяр. Ты посмотри, какие у меня отменные улья, как полированные шкафы…
Мы пошли с ним к грузовикам за лесок, а Умербек сел в ходок и поехал своим путем.
– У меня, брат, отличный зимовник для пчел, – продолжал мой спутник. – Я летом кочую два-три раза. С донника перееду на подсолнечник. Машину всегда найду и грузчиков. Деньги решают все. А ну-ка ты попытайся кочевать. То машин нет в совхозе, то нет людей. Да и что ты за это будешь иметь? Ну, начислят тебе за сверхплановый мед три сотняги, не больше. А я каждый год кладу в карман не меньше шести тысяч. У меня сильнейшие семьи. Надо весной подкормить их сахаром – пожалуйста! А тебе сколько приходится ходить и клянчить этот сахарок? Унижений не оберешься. А ради чего? Как будто о своем хлопочешь…
Надо сказать, что формально в какой-то степени он был прав, но уж очень не по нутру мне его правда. У него было две причины ликовать: он процветает, а кое-где общественные пасеки хиреют. Ему это на руку.
– Есть колхозы, – продолжал он, – где медоносов сеют мало, а пасеки большие, пчелы еле прокармливают себя. Колхоз платит деньги пасечнику, его помощнику, сторожу. А было бы меньше пчел – один бы справиться мог и меду накачал бы.
И в этом он тоже был прав. И все же я понял его тайную заботу: он боялся конкуренции, боялся крупных высокодоходных пасек.
– И знаешь, – продолжал он после некоторого молчания. – Все пчеловоды воруют мед. Зарплатишка-то пшиковая.
Я круто повернулся назад и зашагал к себе.
– Куда ты? Я не о тебе говорил. На улья-то не хошь полюбоваться? Ну, драпай, беда какая. Больно ты мне нужен. Разиндюшился… Подумаешь!
Я неторопливо кружным путем пробрался к доннику. Вот он! Высокий, густой, через несколько дней зацветет. Ждать недолго. Поле начиналось у самого леса, где пролегала полузаросшая проселочная дорога, и уходило оно вдаль, куда-то к горизонту. Кое-где на верхушках больших стеблей образовались длинные колосовидные кисти белых цветков. Изредка над ними пролетают первые разведчики – пчелы. В воздухе разлит уже тонкий, но сильный медвяный аромат. Скоро здесь будет стоять пчелиный гуд. Залюбуешься и заслушаешься. Я решил проверить, не появился ли в цветках нектар. Сорвал кисть, присмотрелся. Обычно при обильном выделении нектар выступает наружу в виде двух блестящих капелек. Но сейчас я не нашел этих капелек на выгибах цветочных парусов. Рано.
Сзади неслышно, по мягкой замуравленной дороге, подкатила «Волга» и громко просигналила. Я вздрогнул, оглянулся. За рулем сидел директор совхоза Василий Федорович, рядом – незнакомый молодой, но лысеющий мужчина в квадратных очках. Это был, как я потом узнал, секретарь райкома.
– У тебя, брат, нервишки не того… – улыбнулся Василий Федорович. – А ты, оказывается, молодец – не любишь долго дрыхнуть: чуть свет, как жук, ползаешь по полям. Это, Григорий Ильич, наш пчеловод, – деловито-серьезным тоном сказал директор.
Секретарь поздоровался, пожимая руку, спросил, как дела.
– Да вот, видите, ждет, когда зацветет поле. Вы, Григорий Ильич, приезжайте сюда через недельку-полторы. Дух захватит, – воскликнул Василий Федорович. – Представьте себе, что вот эта бескрайняя равнина стала белой, как море во время шторма. Вокруг – легкая белая пена. А запах… Голова закружится.
Василий Федорович вынул из кармана сигареты, закурил и затянулся дымом так, что у него, наверное, и впрямь закружилась голова.
– Донник – это значит «дающий мед», – продолжал директор. – Но он дает и многое другое. Чудесное растение! Жаль, что наши агрономы недооценивают его. Если бы я был поэтом, я бы сочинил о нем поэму, пахнущую медом. Если скульптором, то воздвиг бы ему памятник, прославил на весь мир!
– О, куда вы хватили, – рассмеялся секретарь, не спуская глаз с оживленного лица Василия Федоровича, – но… продолжайте, продолжайте.
– Да, я горячий поклонник этого растения. Донник выручает нас во всем. Мы заготовляем его на сенаж и муку. Кормим птицу, свиней, коров. В нем так много белка! А какие урожаи! Растет на засоленных почвах, одновременно рассаливает их, обогащает азотом и делает пригодными для выращивания таких ценных культур, как пшеница, сахарная свекла, просо, кукуруза. И еще замечательно то, что он двухлетний: его легко можно вводить в любые севообороты. В прошлом году мы сеяли здесь донник с овсом. Убрали на сено. Нынче он хорошо отрос и уже вон какой вымахал…
Секретарь прервал Василия Федоровича:
– Это замечательно, что вы такой поклонник донника. Но не удивляйтесь: я – тоже. Мы в райкоме уже решили, чтобы все хозяйства серьезно занялись этой культурой. Будущей весной каждый колхоз и совхоз должны посеять донник. Но беда в том, что нет семян. И вот я прошу вас, Василий Федорович, оставить именно это поле на семена. Оно, пожалуй, лучшее в районе. Не косите его на корм.
– У нас донник есть и во второй бригаде. Обойдемся…
– За ним надо следить, вовремя скосить, обмолотить. Семена распределим между хозяйствами. Я уже говорил об этом с начальником управления Петром Яковлевичем Рогачевым.
Василий Федорович сказал, что он не возражает. Семена дорого стоят, и это тоже выгодно совхозу. Рядом пасека, и пчелы опылят растения и соберут нектар. Мед будет.
Мы сели в машину и поехали на пасеку. Из головы не выходила фамилия начальника управления: Петр Яковлевич Рогачев. Уж не тот ли Рогачев, подумал я, который учился со мной в одном институте. Правда, он тел на два курса впереди. Петька Рогач – так звали его студенты за колючий характер, неуживчивость и заносчивость. Он был самолюбив до мелочности, а в хвастовстве не знал удержу. Редко выпивал, в основном «за казенный счет», кино почти не посещал и питался скромно, преимущественно кефиром. Любил спорт. В настольном теннисе у него были успехи, но как стрелок и пловец уступал многим. И все же лез из кожи, доказывал, что он в институте лучший спортсмен. Честолюбие не давало ему покоя. В то время я не переносил «якающих» людей и решил помериться силами с Рогачем, начал упорно тренироваться. Сначала победил его в стрельбе, а потом и в теннисе. Теннис – моя любимая игра. В институтской газете поместили заметку «Не говори гоп…» Меня изобразили богатырем, а Рогача пигмеем. Это, конечно, обидело его, да и мне было неловко. Не по-товарищески поступил. Рогач перестал замечать меня. Но его неприязнь ко мне достигла особой остроты на конференции научного студенческого общества, где мы выступали с докладами. Моя работа была признана лучшей. Я получил похвальную грамоту, статью опубликовали в сборнике научных трудов института. А как раз Рогач и мечтал попасть в этот сборник. Надо сказать что он был очень способным парнем. Все лекции, все, что залетало в уши, навеки оседало в его памяти: и добро и хлам. Он говорил, захлебываясь словами. Спорить с ним было невозможно. Неужели Рогач попал сюда? Вот это сюрприз!
– У вас достаточно пчел для опыления этой плантации? – спросил секретарь.
Я очнулся.
– На пасеке сто ульев, – пробормотал я.
– Великолепно!
У ограды стоял ходок. Значит, Кузьма Власович приехал, отметил я про себя.
Григорий Ильич остановился перед пасечным домиком, полюбовался его отделкой, узорчатой верандой, ставнями.
– Не перевелись мастера по дереву! А, Василий Федорович? Кто это потрудился с такой любовью?
Я кивнул на Кузьму Власовича, который скромно стоял в стороне и наблюдал за нами, покуривая трубку.
– Вот он своими руками мастерил.
Григорий Ильич поздоровался с ним:
– Вы просто-таки художник, Кузьма Власович. Где учились?
– От деда кое-какое понятие взял. Вот и вся учеба.
В домике секретарь взглянул на мою плотно уставленную книжную полку, медленно повел глазами по корешкам, произнося вслух фамилии авторов: Толстой, Достоевский, Нацуме Сосеки, Андре Моруа… Бережно взял в руки томик Жюля Ренара «Дневник». Полистал.
– Любопытная и редкая книга. Остроумный писатель этот Ренар. Не читал? – обратился он к директору. И продолжил: – Обрати внимание: пчеловод, а, пожалуй, читает больше нашего. Завидую. На все не хватает времени.
Мы заглянули в полуподвальный омшаник. В нем было прохладно, тихо, сухо. Рассеянный свет падал на земляной пол через распахнутые двери. Около стены на гвозде висел мешок. В нем тихо жужжали пчелы.
– Это что такое? – удивился секретарь.
– Рой, – сказал я. – Когда из улья вылетает рой и прививается на ветке, Кузьма Власович надевает мешок на ветку с клубом пчел, затем встряхивает сучок, и рой осыпается. Мешок он завязывает и вешает на этот гвоздь. Здесь пчелы хорошо прохладятся, успокоятся, а потом мы поселим их в новый домик.
– Понятно. Омшаник ваш дряхлый, надо новый строить.
Секретаря, видно, неотступно занимали мысли о доннике, и он перед отъездом снова напомнил нам с Кузьмой Власовичем, чтобы наши пчелы как следует опылили его. Предупредил Василия Федоровича: тут недалеко пасутся гурты коров, надо беречь поле от потравы.
– Да, кстати, где ты достал семена донника? – вдруг спросил он Василия Федоровича.
– Это затея Кузьмы Власовича, – ответил директор. – Сначала он ходил по обочинам дорог и оврагов и ошмыгивал ветки дикого спелого донника, потом подключил сноху-учительницу, жену инженера Шабурова. Она привела учеников. Насобирали килограммов тридцать. Кузьма Власович уговорил трактористов, они вспахали между колками пару гектаров земли и посеяли донник. Через год у него была тонна семян. Тут он вовлек в это дело и нашего агронома. И вот видите… Теперь мы богачи.
Григорий Ильич снова с удивлением посмотрел на Кузьму Власовича. И я был рад за старика.
– Ну, Кузьма Власович, вы просто-таки молодчина. Не знаю, как выразить вам свое восхищение. Спасибо, отец. Вы представляете, чего стоит ваш труд? За это орден надо…
– А что тут такого? – пожал плечами Кузьма Власович. – Я ведь о пчелах заботился. Тогда ничего им не сеяли…
– Василий Федорович, – продолжал секретарь, – осенью, когда будете отпускать колхозным и совхозным агрономам семена донника, пусть они прежде всего скажут спасибо и поклонятся этому мудрому и трудолюбивому человеку.
Они уехали. Кузьма Власович набил трубку табаком.
– Вот какие дела. В самом деле, того, получилось, как надо. Весь район будет сеять для скота. А я и не думал, ходил, ошмыгивал ветки в мешок. Тоне спасибо. Это она – молодец!
7
Вот уже прошла неделя, а я ни строчки не записал в свою книгу «Учет материальных ценностей». Так можно совсем облениться и забросить записи. В институте сколько раз я принимался за дневник, но выдержки и старания хватало только на месяц-два.
На днях, проверяя ульи, нашел около десяти слабых пчелиных семей. Сегодня решил еще раз подсилить их. Приехал Кузьма Власович и, как всегда, очень обрадовался работе: надоело сидеть в городе без дела.
Он быстро заковылял к березе, под которой лежали лицевые сетки, фанерный ящик для сотов, гнилушки, разжег дымарь. Мы отобрали от слабых семей рамки с засевом и поставили для воспитания в самые сильные, загрузили их работой, чтобы они не роились. На это ушла добрая половина дня. После обеда сколачивали рамки.
Вечером отправились на озеро. Было тихо. Все оцепенело в голубом предвечернем покое, в истоме. Все отдыхало от дневного нещадного зноя: и лес, и трава, и вода.
Вдали над поблекшим горизонтом искрилось, как будто только что вынутое из кузнечного горна, солнце. С него медленно стекало и капало в озеро жидкое золото. Поехать бы на лодке туда, к этой таинственной, манящей каемке горизонта и подставить большое ведро, чтобы в него капля по капле собрать золото. Ведь сколько его льется прямо в воду! И так – почти каждый день. Тысячи лет… Разве наполнишь это огромное озеро золотом?
Белокрылые чайки в черных кокетливых беретах спокойно сидят у береговой кромки и на воде. Камыш застыл. В воздухе над головой тонко гнусят и толкутся вверх-вниз стайки мелких мошек. Стремительно пронеслась пара кряковых уток и скрылась за зеленой грядой камыша.
Мы сняли с кольев сухие сети и вместе с тычками положили в лодку. Я взялся за весла. Кузьма Власович сидел в носовой части. Мы плыли к острову в сторону солнца. Остров окутался прозрачной дымкой. Старик закурил трубку в бронзовой оправе и молча посматривал, как я работаю веслами. Шелковистая вода мягко переливалась вдоль гладких боков узкой лодки и приглушенно всплескивала у мокрых весельных щек.
– Эх, дождика бы сейчас! – восклицаю, посматривая в темную и жуткую глубину озера.
– Да, дождь нужен, – соглашается Кузьма Власович. – У нас, понимаешь, Иван Петрович, вощина на исходе. Надо завтра поехать в город, на склад. Сам знаешь: каждый день дорог. Я там Марину встретил, обрадовалась, кинулась ко мне: как живете? Просила, чтоб ты к ней прогулялся… Стосковалась девка, по глазам заметил.
– Что же вы молчали, Кузьма Власович? – с укором спросил я.
– Ишь встрепенулся! Забыл я. А если бы с утра припомнил, то тебе день показался бы как год. Знаю, сам был молодым. И сейчас зря сказал, надо было потерпеть до завтра.
Он притих, задумался.
У редкого камыша мы поставили сети, потом пересекли перешеек и причалили к острову. Его отлогие песчаные берега заросли высокими густыми травами. Кое-где дягиль и борщевик могли скрыть всадника. На острове росла осина, липа, а на опушках, особенно на низких местах, было много вербы и ольхи. Я решил, что ульев десять-пятнадцать перевезу сюда на лодке.
– Мы здесь каждое лето косим, – сказал Кузьма Власович. – Вывозим сено на лодках.
Чуть свет, когда на небе появились белесые прогалины и в лесу защебетали первые птицы, я запряг лошадь и покатил в город.
Кто ездил на лошади в синюю рань около упругих росных кустов, бьющих влажными зелеными ветками в сонное лицо, кто ездил по узко-высоким лесным коридорам с сиреневой дымкой вдали или по пахнущей чебрецом бархатной луговине с жаворонком, восторженно-трепещущим в звонком небе, тот, я думаю, испытал глубокую живую радость. И ему еще и еще раз захочется увидеть эту синюю рань…
На узких городских улицах с деревянными тротуарами было безлюдно и тихо. Я отыскал небольшой бревенчатый домик, на потрескавшемся углу которого прикреплена облупленная вывеска: «Пчелосклад». Постучал в низкую щелястую калитку. Загремела цепь, за забором лениво залаяла собака. Вышел хозяин. Он высунул голову из калитки, посмотрел на меня через очки, спросил:
– Новенький? Из совхоза, кажись? Проходи. Калитку не забудь закрыть.
Пчелосклад размещался в старом дощатом сарае. На полках, застланных пожелтевшими газетами, лежали стопки вощины, В ящиках – дымари, клеточки для пчелиных маток, разноцветные лицевые сетки, стамески, длинные ножи для распечатывания сотов и другой инструмент. Пахло медом. Я выписал все, что надо было для пасеки.
– Воск сдавайте, – сказал хозяин, протягивая мне квитанцию и напяливая на нос разбитые очки. – Донник цветет? – взглянул с прищуром поверх очков.
– Нет. Не цветет. А что?
– Там у вас нельзя поставить с десяток ульев? А?
Я сразу вспомнил корявого рыжего старика, который вытаскивал казаха из ямы. Частники? Жилистый народ! Они как-то выкручиваются, устраиваются, но от пчел не отказываются.
– Не о себе беспокоюсь. Начальник управления Рогачев просит.
– А, Рогачев! – Меня как-будто чем-то тупым ударили в грудь. – Не могу. У нас своя большая пасека. Совхозная!
– Так ты что: начальство не уважаешь? Али как?
– По-всякому бывает. – Я повернулся и вышел за ограду.
…Шабуров младший открывал ставни, когда я подвернул лошадь к его высоким тесовым воротам.
– А-а! Наконец-то явился. Въезжай, – обрадовался хозяин дома.
Он распахнул ворота.
На крыльцо выбежала Тоня. На ней кофточка без рукавов, фартучек туго охватывает талию, черные глаза полны неподдельной радости.
– Чуть-чуть не опоздал. Мы на работу собираемся, – сказала заиграв бровями.
– Надолго? – спросил Сергей Дмитриевич, помогая мне распрячь лошадь.
– До вечера. А сейчас в город пойду, в центр.
– Тоня! Не отпускай его, пока не позавтракает.
Сергей Дмитриевич завел мотоцикл и уехал. Мы остались вдвоем.
– Ты совсем забыл нас. – упрекнула хозяйка.
– Некогда, Тоня, – складываю вожжи и любуюсь ею.
– Неправда! Уж не сердишься ли? – донимает она меня.
– Не сержусь. Поверь мне, некогда.
– Верю. Скоро приеду к вам. Пустишь? – взглянула лукаво.
Я вздохнул и подумал, что пасека, очевидно «не приют спокойствия», как я предполагал.
– Зачем приедешь? Что ты там будешь делать?
– Сено косить. Вернее, косит свекор, а я в домике навожу порядок, купаюсь в озере, собираю гербарий. Отдыхаю. И тебе не дам скучать.
– Откровенно говоря, не приезжай. Ты будешь мне мешать.
– Вот как! Спасибо за такое радушие. Не ожидала. Я думала, ты будешь рад… Но ведь спорить поздно: все уже решено.
Мы вошли в дом. Мне было легко с ней: чувствовал себя свободно, непринужденно. Мне казалось, что я знаю Тоню давно, с детства.
– У тебя бритва есть? – спросила она, заглядывая в шкаф. – Какая? Ну, все равно. Я купила тебе механическую. Вот, возьми. Боюсь, одичаешь там, зарастешь щетиной.
Тоня говорит, говорит, а я задумчиво смотрю на нее: ребенок еще!
…По пыльным улицам города иду в типографию. Она находится в бывшей церкви. Церковь стоит на покатом бугре, в самом высоком и веселом месте города. За деревянной оградой старые-престарые тополя, могучие и ветвистые. Железную узорчатую ограду когда-то увезли на птицеферму, что находится на окраине города.
Возле одного тополя в гражданскую войну белые расстреляли священника за то, что он прятал в своем доме комиссара. Этот дом и сейчас стоит, в нем книжный магазин.
В типографии двойные двери: снаружи железные, за ними – деревянные. Я толкаю дверь и попадаю в настоящий заводской цех: печатные машины, линотипы и другие какие-то неизвестные мне станки; стопки белой бумаги.
– Вы к кому? – спрашивает парень с прилизанными усиками.
Я узнал в нем пианиста, который аккомпанировал Марине в Доме культуры.
– К Марине Дабаховой.
Он, скривив губы, измеряет меня с ног до головы откровенно-презрительным взглядом и показывает вверх. Надо мной нечто вроде антресолей. Там контора, где работает Марина. А вот и она спускается в зал по лестнице в новеньком платьице, оживленно-радостная, притягательная своей чистотой и юностью; светло улыбаясь, машет мне рукой. Она цокает каблучками по звонким железным ступенькам.
– Марина Андреевна, – перехватывает ее полная женщина, как я понял, переплетчица. – Ремзаводской заказ готов…
– Да-да. Я позвоню. Пусть забирают, – коротко ответила и снова посмотрела на меня. – Подожди здесь, я скоро освобожусь.
К ней подошла молодая печатница в саржевом халате с бумагой в руках. Густые и длинные волосы небрежно падали с плеч. Девушка краем глаза покосилась на меня и гордо тряхнула гривой.
– Что мне делать? – спросила у Марины.
– Ты, Зоя, сегодня будешь печатать газету. Ивакин заболел. И приведи, пожалуйста, волосы в порядок. А то в машину затянет.
Марина о чем-то поговорила с линотипистами, проверила с усатым парнем тискальный станок, приоткрыла дверь и заглянула на минуту в боковую комнату.
– Ну, вот теперь здравствуй! Заждался? Идем. – И на щеках заиграли ямочки. Мне хочется украдкой нежно взять ее за локоть, но нельзя: люди смотрят на нас. Мы поднимаемся вверх, сначала на открытую площадку, с которой видно все, что делается в типографии, потом входим в контору. Тихо. За распахнутым окном успокоительно и густо шумят столетние тополя. На их ветвях гнездится целая колония галок. Птицы истошно кричат, взлетают в небо и кружатся в воздухе.
– Кто этот парень с усиками? – спрашиваю.
Марина смотрит с одобрительной усмешкой: ей нравится мой вопрос.
– Ревнуешь? Симпатичный парень. Он здесь работает временно: отремонтировал тискальный станок и сделал форму для отлива валиков.
Я обнял ее. Она вспыхнула.
– Кто-нибудь войдет.
– Послушай, что я придумал. Ты переедешь на пасеку, будешь помогать мне. Поженимся и славно заживем. Как говорят, на лоне природы. Там благодать и покой.
Марина засмеялась, прищурила глаза.
– Это ты, конечно, в одиночестве придумал. В лесу всякое лезет в голову. Больше ничего не пришло тебе на ум?
Она порылась в столе, извлекла из бумаг зачетную книжку.
– Смотри: заочно и небезуспешно учусь в университете. А ты – замуж.
На большом полированном столе – подшивка районной газеты. Я подошел, начал перелистывать. Под заголовком «Здравствуй, русское поле» – два снимка, два юных монгольских лица. Сеялки. Текст: «Эти монгольские юноши и девушки готовятся стать сельскими механизаторами. Свой первый сев они проводят в колхозе «Заря». Фото и текст М. Дабаховой». Вот это приятная новость! Листаю дальше. На первых страницах газеты – портреты передовиков («Рисунки и фото М. Дабаховой»). В душе я горжусь ею: молодец!
– Марина, так ты серьезно увлекаешься фотографией?
– Спрашиваешь! Конечно, серьезно и давно уже. Разве ты забыл школьный кружок? А сейчас я вроде нештатного фотокорреспондента. Редактор попросит. Машину даст. Почему не съездить? Я, как ты знаешь, люблю двигаться. Наблюдать. Мне это необходимо… как будущему журналисту.
И, лукаво смежив ресницы, добавляет:
– Нередко Рогачев – начальник управления – подвозит меня…
– Что это за тип? Кажется, мы с ним из одного института.
– Довольно энергичный товарищ, беспокойный…
Она помолчала.
– Ну ладно… Ты к Шабуровым заезжаешь?
– Я там квартирую. Сейчас оттуда.
Она смотрит доброжелательно-насмешливо:
– Смотри, не заигрывай с хозяйкой. Она женщина боевая и не прочь с кем-нибудь познакомиться… Да-да. У нее ведь сын растет от другого.
Это для меня неожиданность. У Тони сын от другого? Трудно поверить.
– Сын? Знаю, – соврал я. – Ну и что же?
– Ах, ты уже знаешь! Сергей Дмитриевич взял ее с ребенком.
– Взял, несмотря на это? Молодец Сережа! – воскликнул я.
– Да, видно, любит. А первый муж ее тут же на механическом заводе работает.
– Откуда тебе все это известно? И где ребенок?
– В деревне, у бабушки. Сергей Дмитриевич как-никак мой двоюродный брат. Могу же я кое-что знать о брате и его очаровательной жене.
– Можешь. Между прочим, как относится Сергей к родному отцу, к твоему дяде, Дмитрию Ивановичу?
– Он даже и виду не показывает, что знает об этом. Сережа сильно привязан к Кузьме Власовичу – это дивный, душевный человек…
Она подбежала к окну, села на широкий подоконник, подозвала меня и, положив маленькие ладони на мои плечи, спросила:
– Правда, ты не разлюбил меня? И не думаешь о Тоне? – Ее глаза светятся нежностью.
– Как ты могла подумать? Зачем бы я приехал сюда?
Она проводила меня.
День-то какой! Галки! Юркие, непоседливые и крикливые, они вьются под куполами церкви, над тополями, в высоком бирюзовом небе. Легкий освежающий ветерок. Солнце яркое, не знойное, а ласковое.
Я зашел в управление. Начальника не застал.
– Рано утром уехал куда-то, – пояснила юная секретарша, не взглянув на меня. У нее на шее, белой, как у камбалы живот, висел большой, величиной с будильник, медальон. Под золото. Сейчас много любителей золота.
Я запряг лошадь в ходок и поехал на пасеку. В коробе стояли ящик с книгами и корзина с провизией. Все приготовила Тоня.
За горбатым деревянным мостом через усохшую Белоярку виднелся редкий лес, где в полдень укрывается от зноя стадо коров.
За лесом – поля и поля. Все вокруг кажется мне давно знакомым: и разбитая тракторами дорога, по бокам которой растут ромашки, донник, а кое-где и земляника, и бескрайние ровные луга, и пролетающая над головой старая ворона, и одинокий суслик, пугливо перебегающий колею, – все как будто бы обыденно и в то же время, как в сказке, необыкновенно. По этой дороге можно ездить на лошади сто лет и каждый раз делать для себя новые открытия.
В детстве мать рассказывала мне о девушке – Степной красавице. Она была волшебницей и хозяйкой этих полей.
…И могла та Степная красавица
В яркий день на полях превеликих
Золотые хлеба выращивать.
Колос к колосу – словно рать солдат.
Поглядишь вокруг – диву дивишься:
В колосках черно янтарем горит…
Я верил в существование Степной красавицы и, выезжая в просторную степь, за город, мечтал встретить ее. Пристально присматривался к девушкам на сенокосе и к тем, что собирала на полянах ягоды, и к тем, что встречались на дороге с грибными корзинами в руках или доили коров во дворах. Мне думалось, что она живет где-то в деревне и ждет меня, поглядывая в окно на дорогу. Ждет, когда я приеду.
Потом, когда я повзрослел, когда сказка ушла в прошлое, ушла вместе с невозвратным детством, когда я взглянул на мир чуть внимательнее и строже и мои губы коснулись живых девичьих губ, – тогда я понял, что Степная красавица – самый прекрасный образ, созданный моей фантазией, что я никогда ее не встречу, но и она никогда не уйдет из моего сердца. И однажды я сделал для себя открытие: Марина чем-то похожа на Степную красавицу.
…Иногда я вижу ее во сне: она, трепетно-красивая и недоступная, разговаривает со мной. Чаще всего является нежно-ласковой, порой – грустной.
«Иван! Иван! Ты забыл обо мне», – говорит Степная красавица.
Я опускаю глаза: неужто явилась, наконец?
«Иван! Иван! Ты любишь другую».
Что я мог сказать ей? Другая – это Марина. Они почти как две капли воды похожи друг на друга.
«Но ведь тебя нет…»
Она печально улыбается:
«Я есть. Ты просто не нашел меня. Потом ты это поймешь. Тебя околдовала Марина…»
Я пробуждался и дивился такому сну. Кажется, я только что разговаривал со Степной красавицей, она, как живая, стояла у моей постели и, пока я размыкал веки, скрылась за дверью. Я заглядывал за дверь, но там никого…
«Иван, Иван, ты проспал меня».
И вот сейчас, сидя в коробе, понукая лошадь и поглядывая вдаль, на поля и леса, я всем существом ощущаю ее присутствие. Осознаю, постигаю, что Степная красавица – это не бред и не сказка, это нечто почти реальное. Это действительно Марина с длинной русой косой и голубыми глазами.
…Изумрудное пшеничное поле лениво взбегает на бугор, спускается в лог, приближаясь к блюдцеобразному болоту, обходит его стороной, окружает зеленью, смыкается и сливается в одну ширь и опять убегает к горизонту. Там шарообразные сизые кусты тальника, там березовый колок, там луга… Хочется птицей взлететь в небо.
– Иди и ни о чем не думай, – сказала Марина, прощаясь со мной.
Я думаю о ней, о Степкой красавице, любуюсь полями, слушаю звонко-кипящую песню жаворонка, который повис надо мной и бьет крылышками во все серебряные и золотые небесные колокольчики.
Я думаю о ней, уловив краешком уха далекий, призывный и одинокий голос кукушки: она тоскует в лесу и своим голосом трогает мое сердце.
Я думал о ней весь день: когда поил из ручья лошадь и когда лежал на траве в тени берез, пока лошадь щипала сочную траву, и на пасеке, что бы ни делал, она стояла перед глазами.
Я люблю землю, по которой хожу, на которой лежу, цветы и вот эту стрекозу: она доверчиво села на мою руку, расправив свои золотисто-слюдяные крылья.
Я благодарен сердцу за любовь. Я счастлив. Марина, ты слышишь меня: я счастлив! Любовь – как это прекрасно! Я люблю тебя больше всего на свете, больше жизни, Марина.







