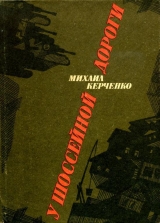
Текст книги "У шоссейной дороги (сборник)"
Автор книги: Михаил Керченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
На меня кинулись две пьяные бабы, подняв кулаки вверх:
– Замолчи, большевичка, сейчас немца позовем.
– Зовите! Где они, немцы? Напились чужой крови, гады гремучие, и уползли, вас бросили. Вам не уйти, придется расплачиваться.
Бабы вдруг замолчали все враз, рты поразевали.
– Верно, не убежать нам, – сказала одна, приближаясь ко мне. – Что делать?
– Куда бежать, на чем бежать? – повторяли другие. – Помоги, спаси. Все отдадим.
– Да вы что? Я не богородица. У меня вон трое детей и дом сожгли ваши…
Меня такое зло разобрало, что я готова была броситься с кулаками на этих растрепанных, плачущих и причитающих баб. Одна из них, худая-прехудая и, видно, злая-презлая, смотрела на меня огненными сумасшедшими глазами и ехидно улыбалась, показывая золотые зубы.
– Вот… у тебя кто муж? – спросила я.
– Ну, полицай! И у нее – тоже, и у нее… Тебе-то что?
– Когда ваши мужья-полицаи стреляли в людей – вы плакали, вы защищали невинных: детей, стариков, женщин?
Тут затрещал и подкатил мотоцикл. На нем сидел власовец, который (я сразу его узнала) ночью со своим другом Гришей грабил меня и сжег мой дом. Тощая ведьма с золотыми зубами бросилась к нему и, показывая на меня пальцем, закричала:
– Вон большевичка. Она немцев гадами называет. Убей ее, Данило, убей!
– Отстань, – грубо оттолкнул он ее. – Чужими руками жар загребать. Они и есть гады. А ты падло вонючее. Тебя убить можно за золотые зубы, а у нее, кроме детей, ничего нет.
– Ах ты, пес бродячий. Тогда убей меня.
Я с детьми убежала за землянку. Да разве там спрячешься? Данило, засунув ладони за ремень, на котором висел наган, важно так подошел к черноглазой женщине. Она стояла около брички, сверху обтянутой брезентом. Там возились дети. Женщина выжидательно и строго смотрела на Данилу.
– Здорово, Зося. Ты не рада мне?
– Своих забот полно. Хуже цыган живем.
– Где твой? Уж не сбежал ли?
– Гриша? Куда, зачем? А дети и я кому нужны?
– Куда и зачем – он знает. Дети никому не нужны. А ты еще имеешь цену. Одни глаза чего стоят…
– Не дури. Случилось что?
– Случилось. – Данило отпил из фляжки. – Где твой? Не виляй хвостом.
– Не знаю. В деревне, наверно.
– А может, за конями ушел?
– Понятия не имею. Дети, перестаньте галдеть.
Данило залез на козлы-сиденье в передке брички, встал во весь рост и, окинув невеселым взглядом весь этот табор беженцев, крикнул неимоверно сильным голосом:
– Люди, слухайте меня! Немцы транспорта не дають. Сейчас им не до нас. Спасайся, кто как может. Прячьтесь, разъезжайтесь, бегите в лес, а то вас большевики перестреляют. Или – за немцами – лизать им зады.
– Вы только послухайте, шо он брешет!
– А ты отказываешься лизать? – спросил кто-то.
– У меня свои планы, я переформируюсь. В Америку подамся.
– Предаешь нас…
– Цыц, стерва! Подкошу, не моргнув глазом. Не впервой…
Он спрыгнул на землю и снова отпил из фляжки.
– Где наш баул? – спросил у Зоей. – Давай сюда. Быстро! Ну!
– Какой баул? – замялась она и заулыбалась заискивающе. – Ты что, Данило?
– Ну, саквояж. Ты что дурой прикидываешься, запамятовала какой? Или тебе мозги вправить, прочистить их? Я это в два счета. Рука не дрогнет.
Бабы, глядя на эту сцену, зашептались:
– У них в дорожном ящичке награбленное добро: серебряные и золотые вещи, часы, ложки, кольца, серьги и зубы от убитых. Зося сама хвастала.
– У Гриши спрашивай. Придет… тогда. А моя хата с краю, – отпиралась Зося.
– Зося, я давно на тебя зуб грызу. Баба ты подходящая.
– Без зубов можешь остаться: поломаешь. А тебе без них трудно.
– Посмотрим. Пойдем. Поговорить надо. Здесь люди. Я тороплюсь. Не ломайся!
– Куда тянешь? Что люди подумают? – Она тянула время. Видно, мужа ждала.
– Вон в ту землянку, пока мужа нет. Или доставай баул быстрее.
– Чего я там не видела? Ты что задумал?
– Там скажу. Недогадливая! Проститься надо. А муж придет – разделим баул.
– Людей постыдился бы. Приспичило. Мне стыдно. И так пальцами тычут…
– Какие это люди? Дерьмо. Идем, – тянул он ее за руку. – Идем, а то в бричку утяну.
– Отстань от меня, ирод. Отпусти, говорю. Люди! Помогите! – крикнула Зося.
Но никто на ее призыв не откликнулся. Шептались:
– Гляньте, что главарь делает. Своего дружка жену тянет куда-то. А потом и до нас доберется. Во дожили. Ничего не свято.
– Баба завидная, – с завистью сказал толстомордый власовец с перевязанной рукой. – Баба что надо.
– Так она ж чужая, – возразила его сухопарая жена. – Злыдни ненасытные.
– Сейчас у кого сила – тот и хозяин.
– Ну, а Гришка явится, что будет?
– Волки разберутся между собой. Гришка – его холуй.
Зося ухватилась одной рукой за дышло, другой отпихивала Данилу. Он дернул ее так, что она не удержалась на ногах, упала на землю, завизжала. И опять никто не кинулся выручать ее. Данило пнул ее в бок и приставил к груди автомат. Он, видать, не любил, чтоб ему сопротивлялись.
– Сейчас умрешь, сука. Вставай быстрее.
Она тяжело встала, молча пошла к нашей землянке. А ее дети кричали из крытой брички:
– Мамочка, куда он тебя повел. Папа! Папочка, где ты? Убьет мамку.
– Замолчите, щенята. Я вас!.. – Он потряс автоматом.
Дети юркнули под полог, продолжая плакать. Данило пинком отворил дверь в землянку и толкнул туда Зосю. Кто-то хихикнул, кто-то плюнул, кто-то заматерился. Время шло.
– А вон Гриша едет! – крикнула золотозубая ведьма.
И в самом деле, кто-то на краю леса показался верхом на лошади. Сзади на поводу бежала вторая, буланого цвета лошадь.
Бабы кинулись к Гришке.
– Скорее! Скорей сюда!
Он пришпорил лошадь, и когда подъехал, они наперебой бросились объяснять ему, что здесь произошло и где сейчас находится его жена.
– Твою жену Данила заволок в землянку. Скорее выручай. Он какой-то саквояж спрашивал.
– Саквояж? – испугался Гришка. – Он нашел его?
Гришка подскакал к бричке, с ходу нырнул под палатку, начал расшвыривать узлы, постель, чего-то искать. Вскоре спрыгнул на землю с небольшим, кожей обшитым чемоданчиком в руках, воровато осмотрелся, увидел около шоссе мотоцикл и сколько было духу побежал к нему.
– Ты куда? Жену выручай. Трус! – Но Гришке, наверно, баул был дороже жены.
Из землянки, шатаясь, вышла Зося, сзади, застегивая штаны, появился Данила. Зося схватилась за голову и упала на землю от стыда. Ведь все люди смотрели на нее.
– Бандит! Насильник. Убейте гада.
Затурчал мотоцикл. Это Гришка завел его, чтоб удрать. Данила вмиг сообразил, что тут произошло, поднял автомат и выпустил по мотоциклу очередь. Гришка вскрикнул от боли, упал. Саквояж раскрылся, из него посыпались различные предметы. Данила, а за ним и люди со всех сторон кинулись к саквояжу. Власовец с перевязанной левой рукой ощерился, выстрелил Даниле в спину, убил наповал его и, продолжая бежать к мотоциклу, кричал:
– Мо-е! Все мо-е! Прочь с дороги! Убью, Собаки бешеные.
Он рвался к мотоциклу, бил по головам пистолетом, упал, был смят и больше уже не встал…
– Золото делят! Н-а-ш-е з-о-л-о-т-о!
Такой безудержной ярости я в своей жизни не видела. Люди обезумели от жадности. Нет, это были не люди – звери. Они топтали друг друга, дрались, кусались, пинались, падали на землю, судорожно хватали золото, вырывали его из чужих рук, раздирали противникам лица в кровь…
Мои сыновья, прижавшись ко мне, испуганно смотрели на дикую свалку.
Около землянки лежала красивая и несчастная женщина. На фургоне плакали ее дети. А муж, истекающий кровью, полурастоптанный, валялся у обочины дороги – в кювете.
Мужчины разделились на две партии и продолжали отчаянно драться, ножи в ход пустили. А женщины от испуга и горя голосили, кричали, визжали и рвали на себе волосы. Постепенно бой перешел в ругань. Страсти, казалось, поутихли. И вдруг в кювете застонал Гришка.
– А-а-а-а! Это он всему виной, – закричала растрепанная золотозубая ведьма, схватила ком земли и бросила в умирающего. И другие бабы последовали ее примеру: полетел град камней в сторону раненого власовца.
– И жена его… сука, прятала награбленное…
Теперь уже около землянки, где лежала Зося, зашлепали комки земли. Ну, думаю, сейчас на меня набросятся. Я с детьми юркнула за плетень. Но бабы ринулись к Гришкиному фургону. Грабить. Я испугалась: побьют детей, дуры.
По шоссе через мост шло несколько немецких грузовиков. В них сидели перебинтованные немецкие солдаты с автоматами. Власовцы подняли руки. Машины остановились.
– Что это значит? – спросил офицер. – Что здесь происходит?
– Заберите нас с собой в Германию. – Офицер подумал, усмехнулся про себя и что-то забормотал на своем языке, отдал солдатам приказ. Те быстро выскочили из кузовов.
– Грузийт ценный вещь, борохло не надо. Бистро, бистро!
Погрузка продолжалась не более получаса. Вдруг солдаты по команде забрались в кузова и угрожающе направили автоматы на людей. Машины покатились.
– А-а-а-а-а! – Толпа бросилась бежать по шоссе вслед за грузовиками. И тут застрочили автоматы. Люди падали. Мертвые и раненые…
Золотозубая ведьма подбежала ко мне, начала целовать:
– Они действительно гады, кровопийцы…
И с ней случился припадок.
Стала я собираться в дорогу, кое-что складывать на телегу.
– А ты куда? – спрашивают.
– С вами поеду, куда деваться? Вы меня ограбили, ничего не оставили, всю еду забрали, все вещи, хату сожгли. Что мне остается делать? Теперь вместе страдать будем. Вы на коровах едете, а у меня есть конь хромой.
Я, конечно, поехала через шоссе, в братний дом. В то время брат все еще находился в лагере. В деревне пока что полицаи командовали. Балбота и Зубленко совсем одурели, пили беспробудно, грабили людей. Зою изнасиловали в ее доме и вместе с ней дом сожгли. Так и не дождалась она своего Андрея Глухаря.
Приняла меня сноха в свой дом, приютила ребятишек. Живем, зиму ждем прихода своих солдат. Как-то заглянул к нам партизан – не застал дома. Снова явился – и снова зря. Наконец, застал. Я сидела за станком, ткала кросна.
– У тебя корова есть? – спросил он.
– Опять корова! Есть, говорю, берите. Я за скотину не держусь. Живой бы остаться.
– У вас во дворе две коровы. Зарежьте одну, кормите ребятишек, а то отберут полицаи. Так сказал командир отряда Трошин.
Согласилась я с ним. Приказала снохе:
– Я уйду сейчас в Рябки, а ты позови кого-нибудь и зарежь корову. Жалко мне ее, как будто человек она. Сама выкормила-выпоила. Приду, чтоб мяса в доме не было.
Побрела я в свою усадьбу, посмотрела на пепелище: одна печь стоит. Вот и кума Ульяша появилась. Осунулась. Она за сына беспокоится: писарем все же работает. Если ему сейчас к партизанам убежать, то полицаи могут хату сжечь и убить ее, Ульяшу.
– Ариш, ай несчастье какое у тебя? – спросила Ульяша.
– Нет, ничего. Пришла посмотреть на усадьбу. Скушно мне там, Ульяша. Шибко скушно. Душа болит за брата, за Зою. Бедная, несчастная Зоя.
– Заходи обедать, – приглашает меня подруга.
– Не хочу, спасибо. Домой надо торопиться…
Когда вернулась к детям, то люди уже разобрали мясо. Мне обещали принести за него двенадцать пудов хлеба.
Дня через два явился Николай Балбота и вызвал меня во двор. Я вышла на крыльцо. Уже весной пахло, подтаивать начинало. Так хорошо солнышко пригревало.
– Чья это квартира? – спрашивает. – Где ваши коровы?
– В пригоне. Ты что, милый, пришел на коров смотреть?
– Да. Твоя где? Что притворяешься?
– Зарезала, – говорю. – А что?
– У кого ты спросила?
– Ты что, спросонья? У кого я должна спрашивать? Я сама хозяйка. Что хочу, то и делаю.
– У немецкой комендатуры ты спросила? Ишь, какая самостоятельная!
– Мне немцы корову не кормили. Ты же знаешь! – твердо сказала я. – Сама ее кормила, сама ее и резала. Вот и весь сказ.
– А ну, вперед! – скомандовал Балбота. – Живо!
– Как это вперед? Ты что, хочешь меня погнать? Убить?
– Погоню. Будешь одеваться? – спросил. – Одевайся!
Зашли мы в избу. Собираюсь, а сама размышляю, куда он поведет меня? В комендатуру или к оврагу, где всех расстреливали?
– Ну, ребятки, – говорю старшим детям, – посидите тут, а я возьму с собой Колю.
Сноха ревет, засунув голову под подушку. Взяла я Колю на руки, а Балбота выхватил его из моих рук и бросил под стол, как щенка, меня вытолкал за порог и погнал. Значит, думаю, расстреляет, раз не дал взять с собой дитя. Иду по улице, а он сзади с автоматом. Люди выбегали из хат. Кто-то крикнул:
– За что ее?
Оказывается, не я одна, многие порезали своих коров. У одного старика мясо обнаружили в погребе. Когда мы подошли к дому этого старика, мясо вытаскивали ведрами и складывали на сани. Полицаи следили. Николай Зубленко там орудовал.
– Ариш, дюже испугалась? – с насмешкой спрашивает он.
Забулдыжный был парень, лентяй, потому легко немцам и продался, в подлеца превратился.
– Как тут не испугаешься? Вы же полицаи. С вас нет спроса.
– Не бойся. Давай мясо – отпустим. Куда спрятала?
– Никола, стреляй меня На месте – мяса нет. Все отдала взаймы, за хлеб. Детей кормить нечем: все власовцы забрали. Если хотите, то я соберу хлеб.
– Нам хлеб не нужен. Мясо давай! Мы любим мясо.
– Мяса нет, поменяла. Клянусь!
– Становись к стене. Торговаться вздумала, такая-сякая!
– Ну что ж, к стене так к стене, – говорю. – Стена любого примет.
– Ты на что намекаешь! Становись!
Руки у меня затряслись, а сердце словно окаменело. Стала у стены, зачем-то руки скрестила на груди. Сердце защищала, что ли? Вижу староста идет, Кузик. Я крикнула:
– Василь Васильевич, ты знаешь, за что меня сюда поставили? Знаешь, по чьей подсказке… Ох, спросят! Люди – не мухи…
Он хвать за голову, как дурачок, начал кривляться:
– Никола! – кричит полицаю. – Куда мне бежать? Скажи! Дюже напугала меня Аришка.
Издевается, значит, староста.
– Зачем, – говорю, – тебе бежать? Меня пригнали, мне и бежать надо. А ты после будешь думать, куда тебе бежать и твоим родным.
– Ну, ладно, иди к семье, – приказывает.
– Ты меня не приводил сюда, зачем я пойду?
Он отвел Зубленко в сторону, пошептался с ним, на меня поглядывая.
– Иди домой, – приказали они, – да мясо приготовь.
Ну, думаю, сейчас в спину… Поворачиваюсь. Сделала один шаг, второй. Прохожу мимо одного двора, другого, жду, когда в спину выстрелят. И вдруг: та-та-та из автомата. Я вздрогнула и остановилась. Оборачиваюсь. Они хохочут:
– Иди, иди! Это мы пошутили. В небо стреляли.
Дети встретили меня у ворот: «Мама, ты живая!»
Я взяла на руки младшего, вошла в хату. Племянница спрашивает:
– Петь, ты что такая бледная? На тебе лица нет.
– Мань, убили бы меня и не знали бы вы где, – рассказала ей все. Глянула в окно, а полицаи опять у ворот. Сердце заколотилось. Ну, сейчас все, конец. Вышла я на крыльцо, чтоб детей не пугать. Они к окнам прилипли, смотрят на полицаев.
– Что, опять затряслась? – спрашивает Балбота. – За своих щенят боишься?
– Доля моя такая, – отвечаю ему. – Некому меня защищать сейчас. Брат – и тот в лагерях…
– Давай, что у тебя есть. Жрать хочется.
А сами без приглашения в избу прутся.
– Ребята, ничего у меня нету. – Я догадалась, что они выпить захотели.
– Разживешься? – спрашивает Зубленко, подмигнув другу.
– Пойду, поищу. Что делать? Раз душа просит…
Накинула на плечи хусту – старую шаль, побежала искать самогон. Прошла поселок и лог. На отшибе жил знакомый мужик, он со своей бабой гнал самогон. Немцев подпаивал. Увидели они меня в окно, вышли на дорогу, встречают.
– Куда, Емельяновна, спешишь? Знать, переполох какой?
– Тихонович, спаси, если можешь. Надо два литра самогона. Полицаи ждут. Изгаляются надо мной целый день. Сообщи нашим, чтоб прибыли.
– Даша, – говорит жене, – налей покрепче.
Приношу домой самогон, ставлю на стол перед полицаями.
– Пейте, – говорю, – самый крепкий, первач.
– Молодец, Ариша. Давай мяса на закуску.
– Я здесь на квартире, ничего не знаю про мясо.
– Глянь в печку, в чугунах найдешь что-нибудь.
– Я не клала в чугуны, не полезу в печь, не мое дело.
Выпили они по стакану, кулаками закусили.
– Ну, ты и упрямая, Ариша. Так и лезешь на рожон.
– А вы, сынки, привыкли, чтоб вам все на блюдечке подавали в горячем виде. Ой, хлопцы, трудно будет отвыкать. Трудно. А отвыкать придется.
– Ты на что намекаешь? Ты это к чему? Что мы с ней церемонимся? – закричал Зубленко.
– Ладно, поостынь, – успокаивал Балбота.
– Мань, – говорю племяннице, – глянь в чугун, есть там что? Пусть съедят, дети и так переночуют.
Она вынула из печи чугун, сняла сковороду, посмотрела.
– Теть, тут одно коровье сердце.
– Пусть они съедят его. Им бы собачье сердце…
– Давай на стол, – приказал Балбота, – все слопаем. И лук давай. И помалкивай. Хватит! А не то…
Долго они сидели, выпили все до капли, сердце коровье съели и подались. Люди видели, как они шли по улице. Только домой не добрались. Их в целости и сохранности в партизанский отряд доставили.
Брат мой бежал из лагеря в лес к партизанам, и я туда уехала. Жили в палатках, в землянках, согревались у костров. Ждали со дня на день своих. Тяжело было: и голодно, и холодно. Мужики воевали. Мы каждый день кого-нибудь хоронили. До того все измучились, особенно старики и дети, столько накипело в душе горечи и ненависти к фашистам, что все – и женщины, и старики, и подростки – просились у командира отряда Трошина: «Давайте своими силами освободим деревню. Ведите нас в бой».
Я работала поваром, варила кашу для партизан. Как-то пришел на кухню Трошин. Я говорю ему:
– Товарищ командир, кое-что насобирала на одно варево, а завтра нечем кормить бойцов: ни хлеба, ни картошки.
А мой брат (он помогал мне на кухне) досадует:
– Ах, сестра! Ты все о еде. Не хлебом единым жив человек. Я рад, что среди своих, не за колючей проволокой.
– А как же! – говорю. – На голодный желудок трудно воевать. Мы-то терпим, а ребятишки? Они совсем отощали, говорить не могут, глазенки ввалились, кожа на скулах обтянулась, блестит. Так ведь недолго и до беды.
– Ладно, Арина Емельяновна. Потерпи еще один денек. Только денек! – успокаивал меня Трошин.
Недалеко от кухни стояла палатка Тихони – старого колхозного тракториста. И его жена там находилась. Вижу, идет к нам Тихоня, на загорбке что-то тащит, в руках узелок.
– Вот, Ариша, пшено и сушеные грибки, приберегал на черный день. Вари полевой суп. Корми бойцов.
– Ну, Тихоня, спасибо тебе, обрадовал.
Всю ночь за лесом гремели выстрелы. Утром слышу, кто-то идет по лесу: тресь-тресь – сучки под ногами трещат. Это был сын Ульяши Павлик.
– Ну, тетя Ариша, можешь домой ехать. Там уже наши.
Кто-то посоветовал отправить сначала моего старшего, чтоб он там все узнал, а потом уж и самим можно двигаться.
– Нет, – сказала я, – поедемте все. Не дай бог, убьют мальчика, а потом всю жизнь буду казниться.
До Болотного поселка мы добирались часа три. Наконец, видим: вдали над пожарной башней – красный флаг.
– Ну, братик, – говорю, – ты с ребятишками отправляйся домой на телеге, а я с Колей пойду на свою усадьбу, в Рябки.
– Что тебе там делать? Там же ничего нет, Ариша.
До сих пор сама не знаю, что меня тянуло на усадьбу, где ничего не было, ничего, кроме пепелища да старого одинокого тополя и печки. Может, манила меня туда память о прошедшей нелегкой жизни. Мне казалось тогда, что раз пришли наши, то они вернут мне все, даже молодость…
Шла я с сыном прямо через луг, земли под ногами не чуяла. А сама все вперед смотрела, туда, где когда-то стояла моя хата. Как магнитом тянуло. Увидела на шоссе машины с солдатами, бросилась к ним, бегу и кричу:
– Э-ге-ге! Обождите меня, сыночки.
Они услыхали, что кричит женщина, соскочили с машин, бегут навстречу. И тут я в обморок упала. Как во сне слышу:
– Дайте ей чаю! Дайте чаю.
Пришла в себя. Солдаты держат на руках моего сына Колю, дали ему сахар. Посидела я на земле, встала.
– Ну, мать, чего же так ты кричала? – спрашивает молодой офицер.
– Ребята, кричала я от радости, что вас увидела. Спасли вы нас. Спасибо вам, земной поклон от меня и от всех односельчан.
Арина Емельяновна очень волновалась, рассказывая. Она порой словно забывала, что с тех пор прошло много времени, десятилетия, в деревне народилось, выросло и живет новое поколение людей. События она видела перед собой так живо, будто все произошло не позже, как на прошлой неделе.
– А что стало с Кириллом Матвеевичем Трошиным? – спросил я. Арина Емельяновна тяжело вздохнула, посмотрела в окно.
– Он двадцать лет работал председателем нашего колхоза. Хороший был человек. В область направляли руководить какой-то большой организацией – не поехал. «Здесь родился, здесь умру». И умер за столом на работе. Он ведь был весь изранен, сердце часто шалило. Однажды плохо стало – положил голову на руки и… скончался. Прямо в конторе. Хороший был человек. Лучше не скажешь.
От тети я узнал, что Тихоня, вернувшись из партизанского отряда в деревню, нашел ломик, лопату и извлек из земли тот самый трактор ХТЗ, про который когда-то спрашивал на колхозном току предатель Скидушек. Выкопал, очистил, обтер его ветошью, заправил горючим, к трубе привязал красный флажок (давно, наверно, носил его с собой) и, забравшись на свой пятнадцатисильный, поехал вдоль деревни. Люди высыпали из домов на улицу, смотрели на Тихоню, как на героя. Молодец! Вот кто, оказывается, спрятал трактор! Вот кто теперь будет пахать землю. Лошадей-то нет! А трактор очень пригодится. Как раз посевная. Он, Тихоня, ждал этой минуты всю войну, он жил ради этой минуты, жил, чтоб сесть на трактор, прицепить плуг и пахать землю.
И он пахал землю с утра до вечера. И… наехал на мину, подорвался. Осталось одно тракторное колесо со шпорами. Его поставили на могиле Тихони под березкой на краю поля. В колхозной кузне сделали металлическую ограду со стальной пластинкой: «Здесь покоится…» Шумит грустно зимой и летом березка, свистит ветер в металлических трубках ограды. Порой сядет на ветку дерева грач и притихнет, словно задумается: «Жил человек, собирался долго жить, пахать землю, выращивать хлеб… И не стало человека».
Из далекой Сибири вернулись на клочок земли родной Андрей Глухарь и Карп. Они не только сохранили, но и приумножили колхозное стадо. Андрей постарел, все в душе рвался к Зое, Карп почти не изменился. Одновременно Андрей и Карп узнали об участи Зои и Праскуты, поведали им люди, как погибли мать и дочь. Карп зашел в магазин, взял бутылку и отправился на погост оплакивать свою возлюбленную; а заодно помянуть ее непутевого супруга Кирюшу – своего дружка.
Андрей Глухарь взял топор и пошел в дом Балботы судить собственным судом немецкого прислужника, бывшего полицая. Но полицай сидел в это время в тюрьме за крепкой решеткой, ждал своей участи.
Встретил Андрея на пороге дома Балбота-старший. Его гимнастерка была вся в орденах за военные подвиги. Глухарь был страшен в своей решимости отомстить за смерть жены. Они остановились друг против друга. У одного в глазах – гнев и ненависть, у другого – боль и беспомощность, великий стыд за сына.
– Знаю, зачем ты пришел, – прошептал Балбота, опустив глаза.
– Где твой подонок? – спросил Андрей.
– За решеткой, – показал Балбота на пальцах. – Я бы сам отрубил ему голову твоим тупым топором.
Андрей все понял, бросил топор, упал от горя на землю, заплакал.
Говорят, что он снова уехал в Сибирь, а Карп построил себе дом на том месте, где жили Кирюша с Праскутой.
Старший сын Арины Емельяновны Петя стал военным летчиком. Иван – геологом, а Коля – музыкантом. Он каждый год ездит на двинские и печорские земли, собирает там народные песни и не догадывается, что его мать Арина Емельяновна знает великое множество старинных песен.
Судьбы людей сложились по-разному.
– А где Пашка, сын Ульяши? – спросил я.
– Иди в школу. Узнаешь.
Я отправился в родную школу и не нашел ее. Я помнил одноэтажное деревянное здание посредине большой зеленой поляны. Теперь там стояло трехэтажное, кирпичное строение. В нем училось новое племя детей. И это здание им тоже будет впоследствии так же дорого, как мне то, которого уже нет. Его сожгли немцы.
Я постоял минуту у парадного входа, поколебался и вошел.
Мне попался навстречу невысокий, в очках, энергичный мужчина. Голову украшала пышная седеющая шевелюра.
– Вы к кому? – спросил он любезно.
– Я хотел видеть…
– Директора?
– Старую школу, где я некогда учился.
Мужчина развел руками.
– Она сгорела в войну. Я директор Грачев Павел Федорович.
– Сын Ульяши? Пашка!
Мы обнялись.
Он был старше меня. Жизнь у него сложилась трудно. В войну он работал у немцев переводчиком и сотрудничал с партизанами. После войны сразу начал работать в школе. Заочно окончил институт.
Он показал мне свою большую светлую школу. А мне жалко было ту, в которой я учился. Мне хотелось вернуться (хоть на миг, хоть мысленно) в отдаленную и добрую пору детства. И я сказал об этом своему товарищу. Он оживился и за руку потащил меня на улицу.
– Идем, я покажу тебе мост…
Я обрадовался. Этот мост в детстве казался мне таким невероятно огромным, высоким и длинным, что дух захватывало. Деревенские ребятишки любили целыми днями рыбачить под мостом, стоять у кромки воды с удочками. Задрав головы, мы любовались замысловатым переплетением бревен. До чего хитроумно и красиво было это сооружение, этот мост. Позже я побывал в разных уголках страны, видел мосты-гиганты, но кажется, чудеснее нашего не находил. Это был наш мост, он висел над нашей рекой, соединял деревню с Заречной частью. А там, в Заречье, в пяти километрах от деревни есть большое озеро с топкими торфянистыми берегами. Там водились лебеди. Нас, детей, не пускали на это озеро, потому что можно было провалиться сквозь зыбкий мох, провалиться и утонуть. Были такие случаи. Однажды мы с Пашкой ночевали под лодкой на берегу этого озера. На рассвете нас разбудили лебединые крики. Звонкие, чистые. Казалось, что это звучали серебряные трубы. Как далеко и как мелодично разливались призывные крики белогрудых птиц. Они – птицы-лебеди – разбежались над водной гладью, стремительно взмахивая крыльями, потом бесшумно повисли в воздухе и плавно полетели, поднимаясь все выше и выше в лазурное небо. В тот момент мне захотелось быть летчиком, чтобы вот так же, как птицы, плавать в воздухе. Может быть, тысячу раз на чужбине я вспоминал это озеро, звонкие крики лебедей и их взлет. Я думал, что лебеди, наверно, ежегодно прилетают на клочок земли родной, а я уже скоро постарею, но так и не могу выбраться из повседневной жизненной круговерти, чтобы взглянуть на мост, на озеро – дорогие и памятные мне места. Паша отгадал мои мысли.
– Федя, этого озера уже нет. Его осушили. И лебеди теперь не прилетают.
– Зачем осушили?
– Там хотели добывать торф. Но его оказалось мало, только по берегам. И торф кто-то поджег, все выгорело. Наша речка тоже частично питалась из этого озера. Смотри, как обмелела она…
– Да. Очень жалко. А ты помнишь, там дальше, за озером, рос осинник?
Я хорошо его помнил – тонкие, почти без сучьев молодые деревца. Осиновая роща. Мы туда ходили за костяникой. Я люблю эти ярко-красные кисловатые ягоды. Как-то я заметил осиное гнездо. На веточках висел довольно большой, с футбольный мяч, слегка удлиненный серый шар, напоминающий собой дирижабль. Я дотронулся до него палкой, кажется, проткнул, и тут из шара вылетели и набросились на меня сотни желтых красивых ос, начали жалить. Я еле удрал от них. Лицо опухло. Мама сказала: «Это тебе наука. Нельзя разорять чужой дом. Они защищали свое гнездо, своих детей».
– Осинник выпилили… на спички. Но ты не огорчайся. Там посажены сосны. Они уже большие и красивые…
С тех пор я ни разу не заглядывал в ту осиновую рощу. А бывало, проходил около нее я довольно часто, потому что там дальше находилось пастбище. Отец работал в колхозе конюхом и пас лошадей. Я носил ему обед и почти каждый раз бегал на выпаса с товарищами.
Это были самые счастливые, незабываемые часы в нашей мальчишеской жизни. Нас одолевало любопытство, стремление больше увидеть, больше узнать. Тракторы, сеялки, автомашины нас уже не удивляли. Нас влекло к чему-то таинственному, загадочному. А где больше тайн, как не в природе? Там мы открывали для себя другой, неожиданный мир. Леса, речки и ручейки, болота и луга, птицы и звери – все, все нас привлекало, притягивало. Этот мир дорог был нашим сердцам, мы очень любили его. Мы часами просиживали у огромного муравьиного шатра, наблюдая за жизнью крохотных и беспокойных существ – муравьев. Нас удивляло их трудолюбие. Мы с замиранием сердца подкрадывались к сломанной сосне, где сидел черный дятел – лесной барабанщик. Ударяя клювом в защеп, он извлекал странные звуки: казалось, дребезжала гитара или тревожно грохотал барабан, призывая кого-то. Иногда мы полукругом лежали в мягкой траве и с удивлением смотрели на зеленого, пучеглазого и до смешного неуклюжего богомола. Вот он, приподняв ноги, в боевой готовности затаился около цветка и терпеливо ждет какое-нибудь насекомое. Его голова поворачивается туда-сюда и внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Появился паук. Богомол моментально, как ножницами, рассекает его… Многое нас восхищало: огромные голубые стрекозы-самолетики, коршун под облаками, огненно-рыжая лиса у копны сена…
Отец учил нас верховой езде. Я хорошо помню тот день и то глухое место, где первый раз в жизни встретился с опасностью, помню, что я тогда пережил. Проселочная тележная дорога, кое-где заросшая травой, с глубоко выбитыми колеями, извивалась вдоль опушки леса и подходила к болоту, заросшему густым лозняком. Это место было какое-то угрюмое и дикое. Я всегда старался быстро миновать его. И вот с узелком в руках я бегу к отцу. Ни души вокруг. Вдруг вижу: кто-то лежит поперек дороги. Сначала я подумал, что это жеребенок. Но хвост и морда собачьи. Это, наверно, огромный серый пес после сытного обеда… И тут я понял, что это не пес. Псы где попало не валяются. Я вскрикнул от страха, что вот сейчас буду растерзан. Зверь приподнялся, не побежал прочь, не попятился даже, а спокойно уставился на меня спросонья красноватыми глазами. Может, он в жизни не встречал такого как я человека-лилипута и с удивлением смотрел на малыша. Я боялся, что он сейчас бросится на меня, и что было сил закричал:
– Оте-ец!
Я звал отца на помощь. Эхо, перекликаясь, полетело от одной рощи к другой:
– Оте-ец! Оте-ец! Оте-ец!
Я звал его потому, что был мал и слаб и не сумел бы отбиться от зверя. Только на отца была надежда, только он должен был спасти меня. Волк все понял и тихонько, с достоинством удалился в камыши. Теперь мне кажется, что именно тогда, в ту опасную минуту, когда крикнул: «Отец!», я вдруг понял значение и глубокий смысл этого слова и все, что с ним связано: отчий кров, отчий край, отчизна, отечество, Родина!
Рябки – это дорогой клочок земли родной, и на этом клочке, у самой шоссейной дороги, стоял домик – свидетель незабываемых событий. Много было таких хат и домов в Белоруссии, на Украине и в России. В них жили мирные, с любящими сердцами люди. Чужеземцы пытались все разрушить и уничтожить. Люди вынесли великие муки, но защитили свои очаги и изгнали захватчиков.







