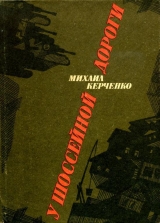
Текст книги "У шоссейной дороги (сборник)"
Автор книги: Михаил Керченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
В стороне парни возятся с неводом. Я начинаю помогать им. Каждому хочется сделать первый заход.
– Тише! Предлагаю розыгрыш очередности, – сказала Айжан.
– Согласны, согласны!
Она пишет билетики, сворачивает в трубочки и высыпает в чью-то шляпу. Все выстраиваются в очередь, подходят к шляпе и тянут билеты. Мне достается «невод». А потом такой же «выигрыш» оказался в руках Марины. Айжан ликует. Хайдар улыбается, хитро прищурив глаза. Тут что-то не то… Марина снимает платье. На ней розовый купальник. Я тоже раздеваюсь. Мы лезем в воду.
– Не приподымай свой край, – говорю я Марине, припоминая, как когда-то мы рыбачили с Дмитрием Ивановичем, и он бесцеремонно командовал.
Она покорно старается следовать моим советам.
– К камышам поворачивайте, – кричат с берега.
– Эта мерзкая веревка трет плечо, – морщится Марина.
Мы приближаемся к берегу. К Марине подбегает Хайдар. Он хватается за край невода и энергично, что есть сил тянет на себя.
Я втайне надеялся на удачу, хотел удивить всех большим уловом, но нам не повезло. Невод оказался пустым. Второй заход делают Айжан с Хайдаром. Я смотрю на его сильные волосатые ноги. Говорят, что женщинам нравится волосатость – признак мужества.
Они поймали с полведра карасей.
Марина играет в волейбол в своем розовом купальнике, ее не покидает веселое настроение.
– Послушайте меня! – хлопает она в ладоши. – Поедем на остров. Разведем костер, сварим уху, а в золе будем печь картошку.
– Картошку? Где мы ее возьмем? – удивляются девушки.
– Правда, где мы ее возьмем? – лукаво спрашивает Марина, взглянув на меня. – У тебя есть картошка?
Я утвердительно киваю головой.
– Что же ты стоишь? Идем за картошкой.
…Мы идем молча. Она – впереди. Поворачивается, берет меня за руку. Сердце учащенно бьется. Я словно опьянел и шагаю неровно.
У пасечного домика Марина останавливается, смотрит на меня с еле заметной лукавой усмешкой.
Из-под спрута-коряги вылезает Адам, гавкает спросонья, потом ласкается к Марине, пытается лизнуть ее.
– Узнает своих, – говорит она и треплет Адама за уши.
Мы подходим к крыльцу.
Она останавливается, я обнимаю ее, целую. Я самый счастливый человек. Мне никуда не хочется идти.
– Что мы будем делать? – спрашиваю.
– Как что? Бери картошку, хлеб. Нас ждут на берегу.
Мы не спеша несем хозяйственную сумку, Марина за одну ручку, я – за другую. На берегу нас окружают, засыпают вопросами:
– Вы, наверное, забыли, что мы вас ждем?
– Да, забыли, – отвечает Марина. – И некому было напомнить.
В камышах я отыскиваю три лодки. Марина, Айжан и Хайдар садятся со мной. Плывем к острову, где я косил траву. За нами остальные. Сзади играет баян, поют: «Из-за острова на стрежень…»
Озеро поблескивает мелкими изломами волн. Дует робкий влажный ветерок. В небе тают белые невесомые облака. Мы разожгли костер и стали варить уху в большом ведре. Потом закопали в золу картошку. Марина рядом со мной. Мы бродим по острову, любуемся буйными зарослями, валяемся на траве под тенистыми соснами. Мы устаем и к вечеру возвращаемся к костру. Он давно погас, и пепел остыл. Картошку съели. Все уехали. Наша лодка одиноко стоит на отмели. Мы садимся в нее, плывем молча. Озеро совсем присмирело. Вечерняя заря улетает от нас, как огромная жар-птица. На пасеке сказал Марине:
– Подожди немного. Я сейчас запрягу Серка и отвезу тебя домой.
Она подошла и положила руки на мои плечи. В ее глазах что-то озорное.
– Я никогда не ночевала в шалаше. Я останусь…
Я привлекаю ее к себе. Адам вылезает из-под коряги, навострив уши, удивленно смотрит на нас.
24
…Прошло три года. Много воды утекло даже из неглубокой и медлительной Белоярки. А жизнь мчится так стремительно, так неудержимо, что порой робеешь перед ее могучим напором.
Все это время я не брался за свои записи. И конторская книга «Учет материальных ценностей», в которой вел их, куда-то запропастилась. Однажды, роясь в письменном столе, спросил у жены:
– Где моя книжка с записями?
Марина внимательно посмотрела на меня и, загадочно улыбаясь, ответила:
– Ты сейчас на новой работе и тебе надо вести новую книгу, а старая отыщется когда-нибудь…
Кстати, о новой работе. Когда я вернулся из Москвы, директор совхоза Рогачев лежал в больнице. Сильное нервное потрясение, или, как сейчас модно говорить, стресс, сбило его с ног. Не выдержал человек перипетий судьбы.
Меня вызвал первый секретарь райкома партии Григорий Ильич. Я шел и думал, как бы поинтереснее, поувлекательнее рассказать ему о своей поездке. Однако Григорий Ильич сразу предупредил, что разговор пойдет о моем назначении директором совхоза.
– Рогачев, – сказал он, – тяжело болен, ему надо основательно подлечиться. А совхозные дела, брат, не остановишь, наступила пора осенняя, серьезная, очень ответственная. Так что надо, Иван Петрович, засучивать рукава…
Я был ошеломлен: как же так, я год назад из тюрьмы… Наверное, секретарь не знает об этом. Будут неприятности.
– Все знаю! – успокоил меня Григорий Ильич. – Я звонил в институт, где вы учились и работали. О вас самые добрые отзывы. Институт готов взять вас на прежнее место. И мы верим вам, надеемся…
Спросил, как я намерен начать свою работу, с чего.
– Но я не дал согласия, Григорий Ильич.
Секретарь так выразительно жестко посмотрел на меня (что ты, мол, ломаешься, неужто не понимаешь всей серьезности дела), что я смутился:
– По-моему, Григорий Ильич, надо начинать с рабочей силы… Людей там мало, разбрелись…
– Не торопись с выводами. Дня два-три поездим с тобой (он незаметно перешел на «ты») по отделениям совхоза, я буду представлять тебя людям как нового директора. Присматривайся к народу, к хозяйству. И как говорится: лиха беда начало…
В воскресенье мы устроили в клубе вечер. Пригласили всех, кто живет в совхозе, а работает в городе. Объявили о нашем вечере по местному радио. Я рассказал о перспективах совхоза: расширим птицефабрику, построим теплицу, скотные дворы механизируем и наведем там такой порядок, чтобы было легко и приятно работать. Все это в наших руках, средства есть. В ближайшее время поступит строительный материал – лес. Будем возводить для рабочих коттеджи, целую улицу. Дороги и тротуары асфальтируем, поселок озеленим. Все это реально, нужны только рабочие руки…
И к нам потянулись люди. За один месяц поступила сотня заявлений о приеме на работу. Шла и городская молодежи..
Кадрами в совхозе по-прежнему ведала жена Василия Федоровича, Муся. Она с улыбкой вспомнила нашу первую встречу:
– Если бы в то время мне сказали, что не пройдет и года, как вы станете моим начальником, – ни за что не поверила бы.
Так началась в моей жизни новая полоса. Марина была довольна мной: я, неожиданно для нее, сделал, как она сказала, заметный шаг вперед.
Ни одно хозяйство не стоит на месте. Мне пришлось много работать, много думать, пережить, перестрадать. У меня, как и у Рогачева, появилось чувство соперничества, хотелось руководить так, чтобы не только хорошо шли дела, но и люди заговорили обо мне как о способном директоре. Наверное, большое или малое чувство тщеславия сопутствуют каждому человеку. До поры до времени оно где-то глубоко прячется, спит, но если его растревожат, оно, как медведь, становится на дыбы. Правда, в то время я об этом не думал. Я искал свои пути, учился на ошибках Рогачева и на своих тоже.
Сейчас я не собираюсь скрупулезно рассказывать о своих делах, может, придет время… А вот как сложилась за эти годы жизнь моих близких и знакомых, пожалуй, расскажу.
Петр Яковлевич стал директором сельского профессионально-технического училища, женился на девушке-зоотехнике, которую когда-то лишил премиальных перед ее поездкой в санаторий. У них растет сын. Рогачев очень подвижен, активен. Он меньше находится в училище, чем в колхозах и совхозах: читает популярные лекции, пишет заметки в районную газету. Он вполне доволен своей судьбой, гордится бородой, которую отпустил и выкрасил в рыжий цвет.
Григорий Ильич сдал кандидатский минимум и сейчас работает над диссертацией об организации звеньевой системы на животноводческих фермах. Я думаю, из него получится настоящий ученый.
Сергей Дмитриевич тоже пошел в гору: его перевели работать в Москву, в министерство. А Тоня не поехала туда. Я не знал, почему она не поехала с мужем. Это оставалось тайной. Мы встретились с Тоней в областном центре в ясный солнечный день. Сидели в скверике, она расспросила, как я живу, а потом сказала, что решила вернуться в наш город и снова работать в школе. Перевезти к себе мать с сыном. С ними будет жить и Кузьма Власович. О Сергее Дмитриевиче умалчивала. Чувствовалось, что она пережила какую-то внутреннюю драму.
Через скверик проходила опустившаяся пьяная женщина. Так мне не понравилась эта женщина! Если бы я знал, что произойдет через две-три минуты, я силой бы утащил Тоню оттуда. Пьянчужка вела за руку прехорошенькую русокудрую девочку лет четырех. Они присели на скамейку рядом с нами. Тоня познакомилась с девочкой Люсей, угостила ее конфетами, приласкала. Люся оказалась бойкой, любопытной и разговорчивой. Тоня сказала:
– Вот и я была когда-то такая же лепетунья. Матери покоя не давала. Только моя мама не пила…
– А тебе какое дело, что я пью? – огрызнулась женщина.
Я сказал Тоне:
– Не связывайся с ней.
Она пожала плечами:
– Ребенка жалко. У вас есть свой дом, Люсенька?
– А тебе какое дело? – проворчала женщина.
– Тетя, мы на вокзале спим, – пролепетала девочка.
– Если тебе жалко эту соплюху, – сказала пьяная, – то возьми ее себе.
Она грубо толкнула ребенка, сорвалась с места и неожиданно быстро побежала прочь, через дорогу, по которой непрерывно сновали машины. Девочка заголосила, швырнула на землю конфеты и, косолапя, бросилась за матерью прямо в гущу машин.
– Раздавят ребенка! – крикнула Тоня, кинулась вслед за Люсей и… попала под грузовик. Все произошло в один миг. Ни пьяная женщина, ни девочка не пострадали. Тоню на «Скорой помощи» доставили в больницу, сделали операцию. Я вызвал Марину, дал телеграмму Сергею в Москву.
Назавтра мне разрешили навестить ее. Она была в сознании и просила впустить меня. Когда я вошел в палату, она не заплакала, только широко открыла черные, окаймленные густыми бархатными ресницами глаза. Таких чудесных глаз, такой душевной глубины и такой боли в них я никогда нигде не видел!
– Я ждала тебя, – тихо выдохнула Тоня. – Все, милый Ваня, конец. Для чего жила? Чтоб с тобой встретиться? Спасибо за все. Я любила тебя, знай это. Пусть Марина не обижается. Она…
Тоня впала в забытье. Умерла она на моих глазах. Я потерял большого друга. Мне казалось тогда, что такого удара судьбы я еще не испытывал.
Я взял отпуск и уехал в Крым. Жил в доме, который стоял на обрывистом берегу. Кто перенес большое горе, тот знает, что от него сразу не излечишься. Человек тлеет, как головешка, тихонько сгорает. Живет воспоминаниями и в них порой находит силы для жизни. Если жил внутренне хорошо, если твое прошлое светло, в нем было много радостей, то тогда легче перенести горе.
Я часами сидел на веранде и вслушивался в отдаленный шум волн. И чудилось мне, что кто-то ведет чудесное сказание о Синдбаде Мореходе. Когда же море свирепело и слышались не приглушенные пушечные выстрелы, а сплошной гул, треск и громовые раскаты, я оживал, у меня словно вырастали крылья буревестника, который мечется над волнами. Мне самому хотелось взлететь над бездной и куда-то умчаться… Я думал о Тоне, видел ее паза. Я не верил, что ее нет на свете.
…В открытое окно мягко плыла прохлада. Я взглянул в туманную морскую даль. Тихая и приятная грусть, воспоминания о жизни на пасеке пробудились во мне. Черное море тяжело ворочалось и глухо рокотало. Волны то налетали высокой синей стеной на серый каменистый берег и разбивались, то беспомощно откатывались назад, чтобы снова с грохотом обрушиться на неприступные камни. Я видел, как из легкой морской пены рождались сотни диких белогривых коней и, выгнув дугою шею, стремительно мчались к берегу. Море изменчиво, море неповторимо, как жизнь…
Послышался звонок. Обычно в это время приходит почтальон. Он подал целую кипу газет, журналов, писем. Я стал разбирать почту. Перелистывая журнал, обратил внимание на «Записки пасечника». Любопытно! Читаю. Все необыкновенно знакомо. Боже, так это же мои записи. Как они сюда попали? Ах, Марина, Марина! Это дело твоих рук. Вот почему я не нашел тогда книгу с дневниковыми записями! Ну, погоди! Вскрываю письмо от Марины…
«Лето у нас в полном разгаре. Поля чуточку побурели от зноя. Пшеница наливает колос. Как хороши наши сибирские земли, березовые колки! Думается, что тебе надо вернуться домой. Здесь тебе будет легче. Поверь мне. Я знаю, что ты страдаешь… Я знаю, что море прекрасно, но оно чуждо тебе, в нем нет успокоения. Дома, на наших полях и лугах, ты наберешься сил, окрепнешь. Жду тебя!»…
В тот же день я уехал. Вот и Сибирь, родимые привольные места. Не доезжая до родного города, теплым вечером сошел на предпоследнем полустанке. Решил: пойду через поля прямо к пасеке. Запахи донника, чебреца, полыни разливались в густом упругом воздухе, пьянили меня. Стрекотали кузнечики, иногда жужжали шмели, звенел поздний жаворонок. Солнце золотило пшеничные колосья, ветер осторожно колыхал их. Росла в груди радостная теплота. Из-под ног с шумом вспорхнула стайка молодых куропаток. Любуясь их полетом, я снова вспомнил легенду о Степной красавице:
…И было у Степной красавицы
Много белых, как лунь, кобылиц.
Все долгогривые, быстроногие.
Разъезжала на них она
По своим полям-владениям…
Я устал, сел у копны свежего сена и незаметно уснул. Видел во сне Степную красавицу, она шла ко мне по зеленому лугу в золотых туфельках, в сарафане, расшитом бисером. Легкая белоснежная кисея прикрывала ее плечи. Улыбаясь, протянула мне руки: «Иван, Иван! Ты забыл меня, Иван. Ты любишь другую». И подала букет полевых цветов. Я вдохнул их аромат. Степная красавица засмеялась заразительно-весело и вместо цветов в моих руках оказалась горькая полынь, что растет на пустырях и по обочинам дорог. «В моих руках и полынь становится душистой. Я ведь волшебница. Все женщины волшебницы, и руки у них волшебные, и глаза, и голос…»
Возле нас откуда-то появился старик с длинной серебристой бородой. Он с достоинством поклонился, произнес: «И могла та Степная красавица на полях превеликих золотые хлеба выращивать».
И перед нами тотчас зашумело пшеничное поле. Старик нагнулся, сорвал колосок, растер его и высыпал на ладонь янтарные зерна. Он говорил и тут же возникали и исчезали картины, вызванные волшебной силой Степной красавицы. Я попытался схватить ее за руку. Она вырвалась, засмеялась, крикнула убегая: «Догони!»
Я проснулся, сожалея, что это был сон. С низин тянуло прохладой. Степь ликовала. Звучали птичьи голоса. Из-за бугра появилась всадница на белой лошади. Легкий ветерок развевал ее волосы. Она въехала на холм, придержала коня и, заслонившись ладонью от солнца, посмотрела вдаль на поля. Это была Степная красавица, женщина-волшебница, это была Марина. Я поднялся во весь рост и крикнул: М-а-р-и-н-а!
Услышав мой голос, она пришпорила коня, подлетела, легко соскочила на землю.
– Здравствуй, Иван-царевич!
– Здравствуй, Василиса Прекрасная!
Как хороша жизнь!
У ШОССЕЙНОЙ ДОРОГИ
Незадолго до войны наша многочисленная семья уехала из Белоруссии в Казахстан. В то время мне было лет двенадцать. На всю жизнь врезались в детскую память теплая и нежная зелень лесов, наполненных птичьими голосами, яркие от обилия цветов и солнца светозарные луга и поляны, нежно-голубое, не знойное, а мягкое и очень глубокое небо родного края.
Мир детских впечатлений трудно во всей полноте воскресить словами или красками. Этот необыкновенный, загадочный мир неповторим и вечно живет в душе. Вот почему любому человеку, где бы он ни был, хочется вернуться в родные места и вновь пройтись по знакомым тропинкам и дорожкам, чтобы по крупинкам воскресить в памяти далекую и невозвратную пору детства. Правда, позднее я привык к широкому раздолью знойных, пахнущих чебрецом и полынью казахстанских степей с придорожным посвистом одиноких сусликов, к белесому и сухому небу с переливчатым трезвоном жаворонка, привык к пышным вечерним зорям. А зори в степи действительно богатые! Но все же меня влекла Беларусь. Она жила в рассказах родителей, в их мягком говоре, в песнях и сказках, в улыбке отца и матери.
Мы уехали из Белоруссии, а там осталась моя тетя, мамина сестра, она нянчила меня, я был привязан к ней. Прошли годы. Не стало родителей, я побывал в Якутии и на Востоке и, наконец, осел на Урале. Я потерял тетю, считал, что Арина Емельяновна погибла. Но она выжила, вынесла войну. Спустя тридцать лет ее письмо нашло меня и позвало в дальний путь:
«Приезжай, племянничек, повидаться. Я как-никак твоя тетка. Живу с внуком, а сынки-соколики поразлетелись по белому свету».
После трех дней пути по железной дороге я добрался до районного центра. У белокаменного вокзала на малолюдной площади меня окликнул шофер такси, вертлявый, без устали улыбающийся и страшно курносый. До сих пор вижу розовую пуговицу его носа, а на ней, словно пробитые пулями, черные дырочки ноздрей.
– Приехал на побывку? – спросил шофер.
– Да, – ответил я, напряженно всматриваясь в него. – Ты в Рябки? Знаешь Арину Емельяновну?
– Ты что, Петя? – удивился он. – Кто твою мать не знает!
– Я не Петя, я племянник Арины Емельяновны.
– А я принял тебя за Петра, ее старшего сына. Здорово похож. Как двойник! Бывает же. Ну, садись!
В дороге нас настигла грозовая туча. Поднялся порывистый ветер, взметая тонкую белесую пыль. В мутные стекла кабины зашлепали первые крупные капли дождя. Шофер гнал машину на большой скорости, надеясь заблаговременно добраться до ближайшей деревни. Мы беспокойно посматривали по сторонам. За озером уже хлестал сильный ливневый дождь.
Ослепительно и зловеще, с каким-то хрустом и шипением сверкали молнии, раскатисто грохотал гром, угрожая обрушить на нас сырое, темное небо. Езда в дождь по ровной асфальтированной дороге даже приятна, но когда над головой неистовствует небесная канонада – немножко становится не по себе.
Впереди мы заметили женщину с узелком в руках. Она, подгоняемая ветром, шла не оглядываясь, и когда мы поравнялись с ней, отступила на бровку дороги и нерешительно подняла руку. Мы остановились.
– Сынки! Может, довезете меня до Рябков. Боюсь, дождь прихватит. На автобус опоздала, решила пешочком… Авось, думаю, кто подвезет.
Она была босая, на плече висели черные ботинки, связанные черными шнурками.
– Садитесь, бабуся, – сказал шофер, лукаво сломав брови и с улыбкой посматривая на меня. – На ловца и…
– Ты к чему это, сынок? – спросила бабка, тяжело влезая в машину. – Ноги, как колья: не гнутся.
– Давайте руку, помогу! – обратился я к ней. – Присаживайтесь.
Она так и застыла. Поправила большой узорный платок на голове, который сбился и сполз на глаза, и всмотрелась в меня.
– Голос знакомый и лицо… Аль обозналась? Федь, не ты ли это? Племянничек!
Я все понял.
– Тетя! К вам еду. Здравствуйте!
– Вот и встретились, – обрадовался шофер.
От дождя мы все-таки не ушли, но до Рябков добрались благополучно. Шофер подвернул к новому дому у шоссе, в котором жила Арина Емельяновна. Дверь была на зацепке. Из соседнего двора через плетень выглянула женщина, поприветствовала нас и сказала, что внук Арины Емельяновны на сенокосе: может, там и заночует. А молодая хозяйка уехала на дойку коров и тоже вернется не скоро.
Дождь усиливался. Мы откинули зацепку и вошли в дом, по-деревенски просторный и уютный. Тетя усадила меня на диван, а сама, не выпуская узелок из рук, примостилась на печке-лежанке: «Ноги отойдут, одеревенели».
…Я присмотрелся к Арине Емельяновне и отметил про себя, что она не такая уж старая, как мне показалось, когда она садилась в машину. Глаза живые, карие, чуть-чуть раскосые и поэтому кажутся насмешливыми, лицо чистое, скуластое, на лбу две-три упругие складки. Волосы темные, с густой проседью на висках. Она очень походила на мать: улыбка и глаза знакомо светились добротой. Мать рассказывала, что детство у Арины Емельяновны было тяжелое: с восьми лет пошла на заработки, зиму и лето за кусок хлеба нянчила чужих детей, натерпелась всего – и голода, и унижений, но всё пережила, не утратив доброты.
– Ну, вот мы и дома! И какой же ты большой стал, Федя, не узнать! Как доехал? Чем занимаешься? – забросала она меня вопросами, то нервно улыбаясь, то на радостях всхлипывая. Потом вдруг спохватилась («Что же это я сижу?»), соскочила быстро с лежанки и начала хлопотать у плиты.
Я накинул на плечи плащ и вышел за ограду: не терпелось увидеть родную деревню. Туча свалилась за ближний лес, и солнце задорно сверкало в каждой лужице, от земли веяло свежестью. Деревню я не узнавал. Так должно быть… За тридцать лет здесь все изменилось. Многое сгладилось в памяти, в жизни людей (не только у меня) произошли большие перемены. Смотрю: не те дома, они обновились и похорошели, улица стала ровной, аккуратной, словно ее к моему приезду специально обиходили, вымыли, покрасили и выставили напоказ… И люди проходят незнакомые… Столько лет утекло, полжизни уже позади! Защемило сердце. Вроде я втайне надеялся встретить здесь отца и мать, как будто они не умерли, а уехали жить сюда в Рябки, но почему-то не торопятся свидеться со мной…
Тетя накрыла стол, налила в тарелки щей, мы сели обедать.
– Ну, первым делом расскажи о вашей жизни в Казахстане.
Ее особенно печалила смерть моей матери. Расспрашивала, где работали, как жили, от чего умерли родители («Наверное, в войну и в тылу несладко было»), привез ли я их фотокарточку. Фотографию-то я не догадался привезти. Тетя заплакала.
– Хотела хоть глазком взглянуть на сеструху, не дождалась меня, хлебнула, бедная, горя, некому было ей помочь. Ты, племянничек, не обессудь меня, старуху, за слезы. Такой час пришел. В другое время и поплакать некогда.
Чтобы отвлечь ее от тяжелых мыслей, я спросил:
– Тетя, а как вы тут?
– Сейчас хорошо, живем лучше и не надо, – улыбнулась она сквозь слезы. – Что хаять? Но тревожно… Боюсь, как бы не снова война.
– А при немцах как жили? Мы ведь считали вас погибшей.
– Не приведи господь, милок… Всего натерпелась с детьми. А теперь… Внук в моем доме поселился, бригадирничает в колхозе. Не захотел бабку одну бросать, из армии вернулся, женился да так, видно, навсегда прирос к родной деревне. Друзья перетягивали в город – не поехал.
Мы помолчали.
– Тяжело вспоминать, но войну забыть нельзя. Я молодежи рассказываю. Даже в школу приглашали.
Она взглянула в окно. Где-то там, вдали, снова моросил дождик, небо посерело, стало ниже. Арина Емельяновна повернулась к окну, нахмурилась.
– Вымокнут дети, простудятся…
Это она беспокоилась о внуке и его жене. Что-то вспомнила, глубоко вздохнула, посмотрела на меня внимательно и сказала:
– Моя жизнь сложилась трудно, но что сделаешь? Если бы знала, где упаду, то там солому постелила. Через полгода, как твои родители уехали отсюда, я вышла замуж. Муж заведовал животноводческой фермой. Из района часто ездила к нам в колхоз девушка-зоотехник. У нас ночевала. Трудно было в колхозе, вот я и упросила ее взять моего мужа зоотехником в район. Она согласилась помочь, да так круто взялась за это дело, что не только перевела моего мужа в район, но и сошлась с ним. Осталась я с двумя детьми. Председатель колхоза поставил меня заведовать продуктовым складом. Постоянно там торчать не надо было, урывала время для детей, а если уж кому что приспичит получать со склада, то прибегали за мной, я шла и выдавала продукты. Все равно трудно было, а найти няньку – невозможно. Молодые в деревне все заняты, а старушки – на вес золота, да и за ними ухаживать надо, как за детьми: такие щепетильные и нотные, что не подступись. У нас здесь была гулящая женщина Праскута. Так она бросила восьмилетнюю дочь, уехала куда-то с меньшим сыном. Как-то пришла ко мне на склад ее девочка Зоя, стала у порога, шепотом попросила кусок хлеба:
– Есть хо-чет-ца! Вот здесь сосет.
– А ты почему шепотом, милая?
– Тетя Ариша, я не могу громче, сил нет.
Я отрезала ей ломоть от колхозной булки.
– Иди к соседям, попроси молочка. Всухомятку вредно есть.
– Не пойду. Там тоже дети…
И стала она наведываться ко мне каждый день. Не прогонишь ведь.
– Знаешь, Зоя, иди ко мне жить, будешь за детьми приглядывать, а я кормить тебя, одевать, обувать стану.
Пришла. Глянула я на ее голову, а она вся в струпьях, вши цепочками сидят на каждом волоске. Ужас! Истопила я баню, остригла Зою, отпарила в воде струпья, сняла их, как шапку, завернула в грязное платье, отнесла в огород и закопала в землю. Болячки на голове я лечила травянистым отваром, потом волосы отросли длинные, густые.
– Живи, – говорю, – Зоя. Корова доится хорошо, молока много, пей вволю, ешь хлеб, суп и доглядывай за детишками, только не обижай их.
Прижилась Зоя. Да так раздобрела, что стала дебелой, как невеста. Тут и мать отыскалась, явилась без сына, бросила его где-то. Удивилась она, что Зоя без нее так выросла и раздобрела: теперь не умрет, теперь ее можно заставить чертомелить как следует.
– Ты на кого работаешь? Про мать забыла, людям добро наживаешь, бесстыдница!
После свидания с матерью приходит ко мне Зоя. Стала у порога, опустила глаза вниз и говорит, еле сдерживая слезы:
– Тетя Ариша, я ухожу от вас насовсем.
– Что так?
– Мама забирает меня.
– На то она и мать. Ее право.
– Люди говорят, чтоб я поделила ваше хозяйство напополам.
Я обомлела.
– Какое хозяйство? Дом? Так ты его не строила.
– Корову, мама говорит, забери.
– Ты ее выкормила или хоть клок сена приготовила? Ухаживала за ней, Зоя?
– Нет, только молоко ела.
– Милая дочка, я тебя обую, одену из последнего, как могу, – и все. Коровка детям нужна, и без своей крыши нам не обойтись. Денег, сама знаешь, у меня нет.
Через месяц Зоя вернулась худая, грязная.
– Нянь (няней часто меня называла), возьми меня к себе обратно, бога ради.
– Нет. Поживи, дочка, своим умом. У тебя есть мать.
– Вчера она сошлась с вашим соседом Кирюшей. А меня прогнала.
– Вот как, тогда ступай в колхозную контору посыльной. Там есть каморка. Кровать поставишь. А в куске хлеба, в стакане молока никогда не откажу. Приходи в любой день, как своя.
Приехал к нам в деревню подросток, глухой как пень, и фамилия у него – Глухарь. Надо же! Где-то он на жестянщика выучился. Вызвал меня в контору председатель колхоза.
– Надо, Ариша, приютить парня у себя. Мастер он хороший.
– У меня что, приют? Своих хоть в детский дом отдавай.
– Он будет ночью колотить в мастерской, топить ее, а днем за твоими детьми доглядывать, помогать тебе.
Взяла. Так же, как и Зою, обиходила, в бане пропарила, прожарила. Ходит парень ночью в мастерскую, а днем домовничает. Удивительно то, что дети к нему привязались, слушались не хуже чем меня. Он всегда что-нибудь делал. Огород загородил, пригоны починил, крышу перекрыл. Ну, думаю, если этот будет уходить, так все заберет. Люди видят, что он не сидит сложа руки. Тоже четыре года прожил. Стала замечать, что иногда нет-нет, да и придет под мухой. Выпивать стал. Худо дело. Что-то с парнем не ладно. Свихнется. Бросил книги читать. А до этого каждый вечер нам вслух читал. Сказки всякие. Книг у меня было полно.
– Женить, – говорю, – тебя надо.
– Кому я нужен, глухой, – заплакал он.
– Душа-то у тебя не глухая, ты работящий и добрый человек. Грамотный.
И тут я вспомнила про Зою. Она в то время на ферме учетчицей работала.
– Вот, милая, тебе жениха нашла, – как-то сказала ей. – Хороший человек.
– Глухаря поди?
– Да. Трудолюбивый, пальцем тебя не тронет, на руках будет носить.
– Я, няня, подумаю. Мне надо как-то устраивать свою жизнь.
А надо сказать, что Зоя к этому времени красавицей стала, многие парни на нее заглядывались, и все же она согласилась стать женой Глухаря. Зоя привязалась к нему, полюбила. Он выстроил лучший дом на селе. А вот бог не дал им детей. Они стали мне вроде сына и дочери. Бывало, в праздники ко мне идут, детям гостинцы несут, по хозяйству помогают. А Праскуту не признавали: Зоя не могла ей простить.
В тридцать восьмом году мой муж отстал от своей полюбовницы и вернулся домой. Не прогонишь: к детям вернулся. А они смотрели на него опасливо, как на чужого, не шли на руки, не давали прикоснуться к себе. У меня спрашивали, показывая на отца пальцем:
– Мам, он зачем к нам пришел? Чужой дядька.
– Жить пришел. Он ваш отец.
– А где раньше жил? Он кормиться пришел к нам?
Я молчала.
– Мы его боимся. Пусть уходит.
Так и остались навсегда чужими дети и отец. Родился у нас третий сын, и мужа забрали на финскую войну. Вернулся он с финской сильно контуженный и вскоре умер.
…В сорок первом году, вот в такую же сенокосную пору, у нас тут стояла жара. Я шла с луга, еле ноги волочила. Намотала руки литовкой, плечи болели, сожгла их солнцем, устала до смерти. Сердце почему-то ныло, предчувствовало что-то недоброе. Я тогда сильно беспокоилась о детях. Их было, трое. Самому большому – Пете – только что минуло двенадцать лет, среднему – Ивану – девять, а самому меньшему – Коле – два годика. В то время в колхозе садика не было, ребятишки оставались дома без надзора, и уж не обходилось без того, чтобы они чего-нибудь не набедокурили. Я боялась, что подожгут хату, а хуже того – сами в огонь попадут, боялась, что утонут в реке, она вон протекает за нашим огородом, там они всегда купались… А по шоссе и в то время уже сновало много машин: станут перебегать дорогу и – под колеса. Далеко ли до беды? Так вот, подхожу к хате, а навстречу со двора выскакивает Зоя. Глаза круглые, испуганные, как у кошки, за которой кто-то гонится. «Ну, видать, беду несет мне», – подумала я и схватилась за плетень, ноги отказались идти, отяжелели, не поднять.
– А-а-а, нянь! – кричит. – Скорей сюда беги. Я заждалась тебя.
– Ай, что случилось?
Я уже представила детей мертвыми: лежат на земле рядышком, а вокруг люди столпились, поджидают меня, мое горе разделить…
А Зоя увидела, что я напугалась, рот раскрыла и не знает, что сказать.
– Чего молчишь? Говори! Где дети?
– Да подожди ты, нянь. Германец напал. – Зоя заплакала.
– Какой германец? На кого напал?
– На нас! Война началась. Война!
– Война, вот что!
Всего я ожидала, только не этого. И не могла я в тот момент до конца постичь тот ужас, который таился в слове война! Я будто оглохла, не хотела слышать Зоин голос. Зачем она так кричит? Зоя приблизилась ко мне и уже более спокойно сказала:
– Напал немец. Киев уже бомбили. По радио передали.









