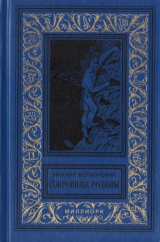
Текст книги "Ёрш и Пыж"
Автор книги: Михаил Волконский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
XXI
– А я тебе скажу, куда деваться, – таинственно заговорил Ёрш. – Ежели нет у тебя пристанища – я найду… Пока что я отведу тебя…
– Да тебе-то что? Ты что мне за благодетель выискался? – перебил его Корецкий недоверчиво и всё-таки подозрительно.
– Я не благодетель, – не торопясь начал Ёрш, свернув новую цигарку, закуривая и сплёвывая.
Его невозмутимое спокойствие подействовало на Корецкого.
– Всё-таки какая ж тебе корысть от меня? – спросил он более мирным тоном.
– Может, и корысть есть, – ответил Ёрш, – может, ты мне нужен для дела – вот как ты есть…
– Для дела я не гожусь, – заявил Корецкий, – и ничего не желаю! Я думал раз навсегда сразу сделать, а затем зажить, как следует по натуре своей. Ты думаешь, что я – из острожной братии, что ли?..
– Вижу, брат, – вздохнул Ёрш, – что ни в какой ты академии ещё не бывал, не образовался, как следует. Всё вижу. Смелости в тебе должной нет…
– Ну, положим, смелость-то во мне есть…
– Ой ли! Это что ты девчонку-то в реку спровадил? Так ведь не один, небось, орудовал…
– Не говори ты мне об этом, не смей говорить! – вспыхнул Корецкий.
– Вот в том-то смелости настоящей и нет у тебя, – невозмутимо продолжал Ёрш, – что вот сейчас «не говори» да «не смей»… А не смеешь-то ты сам… Ты только руку приобрёл – это называется, и больше ничего. Да и то не один действовал.
– А ты почём знаешь?
– Вижу, потому и знаю… Он тебя подговорил, и ты ему в помощь был только…
– Кто он?
– А вот векселёк-то чей у тебя был…
– Ну, что ж, он, так он…
– Он, видно, воробей стреляный…
– А чтоб пусто ему было! Жил я без него…
– Вольною птицей, – подсказал Ёрш.
Корецкий махнул рукой и отвернулся.
– Ну, что ж, – вздохнул опять Ёрш, – что было, то прошло. Надо теперь за себя постоять… Прежде всего отсюда стрекануть… На это угольки нужны… Пешком не разбежишься…
– Я денег достану! – вдруг решительно сказал Корецкий.
– Вот это дело, – одобрил Ёрш, – вот такой человек мне и нужен теперь, который желал бы денег достать…
– Так я и без тебя обойдусь…
– Ну!..
– У меня тут дочь есть. Я у неё возьму…
– Много?
– Хватит…
– Это чтоб уехать?
– Чтоб уехать…
– А потом что?..
– А потом – не знаю…
– Вот то-то и оно! Да и что ж, банкирша она, дочь-то твоя? Ты так пойдёшь к ней, она и отсыплет? А пока что где ты будешь? Небось, жрать хочется?
– Пожалуй, хочется…
– А потом к ночи спать захочется?
– Вероятно!
– В ночлежный пойдёшь? А там облава будет. Тебя-то теперь, благодаря документику, уж по городу ищут, стрелочки пущены, а ночью без облавы в ночлежках не обойдётся, так ты и попадёшь прямо-прямёхонько… Ловко рассчитал…
– Так куда ж я денусь, чёрт! Я под мостом, либо в саду на скамейке не привык ночь проводить…
– Что так? Разве дурно на вольном воздухе, в особенности ежели темно совсем, так темно, что будто из этой темноты кто смотрит на тебя, а там вдалеке слышно, как река плещет?..
– Замолчи, говорю, не смей!..
– Опять «не смей»! Ну, идём со мной.
– Куда?
– В уголок укромный, где поесть дадут, а спать ляжешь, так облавы не будет. – Ёрш встал и взял за плечо Корецкого. – Идём, что ль, – повторил он, – я сам жрать хочу, да и горло промочить хочется… Мерзавчика раздавить теперь – разлюбезное дело…
Против «мерзавчика» трудно было устоять Корецкому. Он поднялся на ноги и пошёл за Ершом.
Они с реки повернули в немощёный переулок, потом миновали пустынный огород, перелезли через сломанный, полуразрушенный, гнилой забор и очутились на маленьком заднем дворе большого старого дома. На этот двор выходила нештукатуренная каменная стена с тёмными редкими окнами.
Несколько оконцев, словно слепых, выглядывало у самой земли из подвального этажа.
Ёрш нагнулся и постучал в одно из них.
– Ты, что ль, Ёрш? – послышался глухой голос из подвала, и оконце поднялось невидимой рукой, открыв собою чёрную дыру, в которой ничего нельзя было разобрать.
– Я с гусём, – сказал Ёрш. – Прицепки ищет.
– Меченый? [2]2
Бывший под судом и наказанием. – Примечание автора.
[Закрыть] – спросили из подвала.
– Ни! Ещё не меченый, только руку имеет.
– Почитай, круги пишет? [3]3
Лжёт. – Примечание автора.
[Закрыть]
– Глянцовитый. Лак с него не сошёл. Темноты боится… натаски просит…
– Стрелок? [4]4
Охотник поживиться на чужой счёт. – Примечание автора.
[Закрыть]
– Какой стрелок! Говорю, руку имеет, только зяблик ещё… [5]5
Новичок. – Примечание автора.
[Закрыть]
Затем Ёрш наклонился, прильнув к земле, к самому окну, и, глядя одним глазом на Корецкого, пошептался в окно так, что тот ничего не мог слышать.
– Ну, шагай за мной! – предложил он Корецкому наконец, провёл его за угол и вошёл в дверь такую низенькую, что нужно было нагнуться, чтобы пройти в неё.
Корецкий последовал за ним.
XXII
Стоял жаркий июльский день, такой, какой бывает после долгого, упорного зноя. Воздух, казалось, не только нагрелся солнечными, таявшими в нём и насыщавшими его лучами, но высох и раскалённою недвижною корою облегал припечёную, затвердевшую землю. Небо без влаги потеряло синий цвет и стало прозрачно-серым, как матовое, сильно освещённое стекло. Маленькие перистые облака, предвещавшие приближающуюся бурю, стояли на месте, не двигаясь, и лениво, но заметно изменяли свои пушисто-курчавые очертания. Листва деревьев не колыхалась и повисла недвижная, как резное из бумаги натянутое кружево. Птицы умолкли и попрятались в гущу.
Вся природа притихла, изнемогая в жаре. Суетилась и шумела только людская жизнь. По мостовой гремели экипажи, на железной дороге издали свистел паровоз, на барках слышался гул рабочих, затеявших перебранку, пароход шипел, но и эти отклики неугомонной людской жизни раздавались придавленно и не могли рассеять тяготевший в воздухе тяжёлый, неодолимый гнёт.
Затишье было пред грозою, и всё таинственно ждало этой грозы, чтоб она разрядила насыщенный таинственною силою воздух…
Так парило с утра. К полудню стало совсем душно, и на краю неба показалась наконец надвигавшаяся туча.
Панна Юзефа боялась грозы и с утра чувствовала смятение, тяжесть головы и беспокойство, но это не помешало ей отправиться, как это она делала ежедневно теперь, на кладбище. С самых похорон бедной убитой Лизы, она каждый день проводила на кладбище у её могилы всё время, пока не стемнеет.
Покрытая цветами, свежая могилка Лизы с временным белым крестом была насыпана над склепом между двумя гранитными часовнями с теплящимися лампадами, служившими памятниками старику Тропинину и жене Валериана Дмитриевича. Это срединное место между ними Валериан Дмитриевич готовил для себя, никак не думая, что тут ему придётся похоронить Лизу.
Неутешная панна Юзефа садилась на скамеечку или становилась на колена и молилась, опустив голову на руки…
Приехав, по обыкновению, на кладбище, она забыла про тучу, забыла про грозу; ей уже ничего не было тут страшно, весь страх, весь ужас был тут, в земле, между этими богатыми гранитными часовнями, под обложенною дёрном и покрытою цветами насыпью с белым прямым и молчаливо недвижным крестом, красноречивее всех слов, беспощадно свидетельствовавшим о её горе.
Она привезла и сегодня, как вчера, новые цветы и, не торопясь, разложила их, убирая, как невесту, могилку…
Было красиво, было богато, было хорошо, но было пусто и холодно, несмотря на зной и духоту. Тёмно-лиловая огромная туча разрасталась от края неба, тянулась и плыла, наползая и изредка глухо как бы готовясь и пробуя свои силы, погромыхивая громом. Туча шла быстрее и быстрее, затемняя небо, навстречу солнцу, как бы кичась, что заслонит его, и, вспыхивая уже полымем молнии, горделиво готовилась заменить этими грозными, прерывистыми вспышками своего света ослепительный зной солнечных лучей.
Но солнечные лучи не сдавались и ещё ярче золотили всё на земле под тёмно-лиловою тучей, сбоку проникая под неё и резко чередуя с тенями без полутонов пятна скользящего света.
Панна Юзефа опустилась на колена, сложила руки по-католически, пальцы в пальцы, и опустила голову. Губы её зашептали молитву, из влажных, покрасневших от плача глаз полились несдерживаемые слёзы, и тело затряслось от рыданий…
Слепящий зигзаг молнии, разрезав тучу, полоснул по ней, и близкий сухой, трещащий удар грома, как ружейный залп, грянул и раскатился, словно земля потряслась…
Панна Юзефа вздрогнула и подняла голову.
Пред ней, у часовни, над могилою жены Валериана Дмитриевича, на тёмном фоне тучи стояла, освещённая лучом солнца, сама эта жена, в таком же голубом платье, как она была изображена на портрете в кабинете Валериана Дмитриевича. Она стояла, опустив руки, и смотрела на панну Юзефу…
Резкий порыв ветра дунул из-под тучи, затрепетали и забились ветви дерев, с земли поднялся столб пыли, в нём закружились подхваченные оборванные листья, и крупные капли дождя ретиво и властно забили в жаждавшую влаги землю.
Панна Юзефа протянула пред собою руки, хотела крикнуть, но, как сноп, повалилась навзничь в обморок…
XXIII
Когда Юзефа очнулась, она увидела себя в маленькой, низкой комнате с большою русскою печкой. Очевидно, это был домик кладбищенского сторожа. У печки стояли лопаты, по стенам висели венки. Панна Юзефа лежала на скамейке. Возле неё суетились люди.
Кроме сторожа и молодой бабы, жены его (их Юзефа признала сейчас же), тут был ещё бритый довольно представительный господин, который распоряжался, выжимал полотенце и клал ей на голову холодный компресс.
– В себя пришли! – сказала жена сторожа.
Юзефа, очнувшись, быстро привстала, словно ей было стыдно за то, что случилось с нею.
– Останьтесь лежать лучше, побудьте так, – посоветовал ей бритый господин.
– Нет, ничего, – возразила панна Юзефа, держась за голову. – Что это было со мною?
– Удара грома испугались, – пояснил господин, – обморок. Хорошо, что я был поблизости и мог принести вас сюда…
– Да, да, я удара грома испугалась! – протяжно произнесла Юзефа.
За окнами гроза уже утихала, дождь ещё лил, но гром гудел отдалённее, и вспышки молний были не так ослепительны, как прежде…
– Ну, вот вы и оправились, – заговорил бритый господин, обращаясь к Юзефе и заглянув в окошко, – скоро нам можно будет и домой ехать, если хотите; ведь у вас карета тут?
– Да, карета…
– Теперь гроза уже не опасна, а дождь в карете ничего не сделает…
– Я хотела бы поскорее домой, – сказала Юзефа.
– Я думаю, можно хоть сейчас…
– Я сейчас бы хотела!..
Сторож сбегал за каретой и велел ей подъехать к своему домику.
Юзефа собралась быстро.
Господин, оказавший ей услугу, пошёл провожать её.
– Позвольте мне отрекомендоваться вам, – проговорил он. – Я актёр театральной труппы Козодавлев-Рощинин, а это вот, – показал он в темноте сеней на молодую девушку, – моя воспитанница, дочь Галактиона Корецкого; может быть, изволили слышать?
В это время сторож отворил наружную дверь, сени осветились, и Юзефа увидела лицо воспитанницы Козодавлева-Рощинина.
– Никакого Корецкого я не знала и ничего не слыхала о нём! – отрывисто пробормотала она и кинулась, не обращая внимания на дождь, в карету, не дав времени Козодавлеву-Рощинину раскрыть зонтик, хотя он и присноровился сделать это, чтобы провести панну Юзефу до экипажа.
Она захлопнула дверцу, серые в яблоках лошади, потемневшие со спины и боков от лившего дождя, рванулись вперёд, и карета покатилась, разбрызгивая грязь резиновыми шинами.
Козодавлев-Рощинин глядел ей вслед, оставшись на дожде с непокрытой головой и с нераскрытым зонтиком в руках.
«Нет! Корецкий не соврал!» – решил он и, вернувшись в домик сторожа, велел позвать извозчика, на котором он приехал с Микулиной на кладбище.
Он привез её сюда сегодня не без умысла, хотя она и не подозревала ничего, а была убеждена, что дядя Андрей просто повёз её на прогулку.
Уже давно Козодавлева-Рощинина поражал странный поступок матери Манички, которая, прикинув свою дочь негодному отцу, исчезла и затем никогда не только не поинтересовалась о своём ребёнке, но и о себе не давала знать, как будто между нею и ребёнком не существовало никакой родственной связи.
Какова бы ни была мать, каков бы ни был отец и каков бы ни был ребёнок, было немыслимо, противоестественно, чтобы женщина, оставив так на руках отца своё дитя, не вспомнила о нём.
Куда исчезла мать Манички, Корецкий не знал сам. Он очень редко говорил о ней с Рощининым и никогда, даже приблизительно, не указывал её следов, потому, впрочем, что они и для него были скрыты.
Когда он, полупьяный, показал Рощинину на улице карету, запряжённую серыми лошадьми в яблоках и подъехавшую к дому Тропинина, и сказал, что сидевшая в карете барыня – мать Манички, Рощинин подумал, что это плод его пьяной фантазии.
На похоронах убитой девушки в шедшей близко за гробом и безутешно рыдавшей женщине он узнал ту барыню, на которую ему указывал в карете Корецкий. Он спросил у провожавших похоронную процессию, кто она, и ему сказали, что это – панна Юзефа, кормилица и воспитательница дочери Валериана Дмитриевича Тропинина.
Затем, когда он был в кабинете у Тропинина, его поразило необычайное сходство висевшего над диваном портрета жены Валериана Дмитриевича с его Маничкой.
От камердинера Власа Михайловича он узнал подробности о смерти жены Тропинина, о том, как она умерла в маленьком польском городке через несколько часов после родов; и о том, что Валериан Дмитриевич не хотел в первое время глядеть на ребёнка и не видел его.
Город, в котором всё это произошло, был тот самый, где проживал Корецкий, где родилась Маничка и где мать подкинула её Корецкому и исчезла.
Всех этих данных было для Рощинина более чем достаточно, чтобы сообразить, в чём было дело. Для него стало очевидным, что взятая в кормилицы панна Юзефа подменила ребёнка, брошенного сначала всецело на её присмотр. Эту очевидность подтверждало сходство Манички с покойной женой Тропинина.
Расчёт Юзефы был довольно простой, хотя и смелый, но на успех его она могла положиться, потому что всё обеспечивало ей безнаказанность. Она должна была уехать с ребёнком в тот же день, когда была взята, уехать далеко и, таким образом, навсегда расстаться с господином Корецким. Но случай предоставлял ей возможность не расставаться со своим собственным ребёнком, и который был тоже девочкой. Стоило только оставить его при себе, а господского ребёнка, которого жалеть ей было нечего, прикинуть Корецкому.
И какая будущность открывалась пред нею и для неё, и для её дочери! Дочь её будет жить в холе, в неге и в богатстве, станет впоследствии наследницей огромного состояния, и сама панна Юзефа, конечно, останется на всю жизнь при ней вместо матери.
Так, очевидно, рассчитала панна Юзефа, так оно и вышло.
Всё это легко представил себе Козодавлев-Рощинин, но ему нужно было окончательно убедиться в справедливости своих предположений, чтобы быть вполне уверенным, что эти предположения верны, и что он не ошибается.
Для этого он, под видом прогулки, привёз сегодня на кладбище Маничку, одев её в такое же, как на портрете, голубое платье.
Он знал, что панна Юзефа проводит тут целые дни и что её можно увидеть у могилы Лизы.
Он повел Маничку по дорожкам кладбища.
Дальше помог случай; или судьба. Маничка заинтересовалась двумя часовнями над тропининским склепом, увидав их издали.
– Если хочешь, поди, посмотри поближе, – предложил ей Рощинин, завидевший тоже издали склонённую над могилой фигуру панны Юзефы.
Маничка подошла.
В это время ударил гром, панна Юзефа увидела Маничку и упала в обморок.
Было достаточно и этого; но окончательно убедил Рощинина ответ панны Юзефы на его напоминание о Корецком. Она сказала, что не знает его, но по тому, как сказала она это и как кинулась под дождём в карету, для Рощинина не было уже сомнений, что его предположения верны.
Теперь оставалось одно: раскрыть всю историю Тропинину и вернуть ему настоящую его дочь.
Но каким образом было сделать это?
Так прямо прийти к нему и рассказать было невозможно, потому что из всех доказательств, кроме поразительного сходства Манички со своею матерью, Рощинин не мог представить ни одно.
Панна Юзефа, конечно, отречётся от всего, а пьяный пропойца Корецкий не может внушить никакой веры в своё свидетельство.
Да и положение Козодавлева-Рощинина, как актёра, то есть человека, не имеющего оседлости, принадлежащего к артистической богеме, не могло сообщить ему такое уважение, чтоб к его словам относились без подозрительности.
Дело было сложное, совсем необычайное, и сходство Манички с покойной Тропининой скорее можно было объяснить простою случайностью, которою-де хочет воспользоваться бродячий актёр для того, чтобы всучить в дочери убитого горем отцу и богатейшему при этом фабриканту свою воспитанницу, такую же бродягу, как и он.
Рощинин понимал это и понимал также психологию отца, для которого неожиданно должна как бы воскреснуть дочь, только что похороненная им. Для такого почти невероятного чуда нужны были неоспоримые, очевидные доказательства, а пока их не было в руках у Рощинина. Но он надеялся, что судьба поможет ему отыскать их.
XXIV
Вечером, в день прогулки на кладбище, Маничка сидела у себя в номере, в гостинице, заперев дверь на замок, по приказанию дяди Андрея.
Она не могла понять, что сделалось с ним в последние дни. Он с утра уходил, оставляя её одну и требуя, чтобы она запиралась на ключ. Появлялся он только для того, чтобы отправиться с нею погулять, причём он ни на шаг не отпускал её от себя, а затем привозил домой и просил, чтобы она запиралась. Он взял с неё слово, что она не пустит к себе никого, в особенности Корецкого, что бы он ни говорил ей и как бы ни уговаривал.
Обед, завтрак и всё, что ей было нужно, приносили ей в номер; в театре она не была занята, и туда дядя Андрей не пускал её. Вечером, вернувшись из театра, он заходил к ней; она ждала его с самоваром, он пил чай, расспрашивал, как она провела день, и довольный, что никто не тревожит её, прощался, благословлял её на ночь, целовал в лоб и уходил к себе.
Маничка сидела у раскрытого окна и глядела на знакомую уже ей, успевшую надоесть, изученную во всех подробностях площадь. Дядя Андрей перевёл её из прежнего маленького номера в более дорогой и лучший, с окнами на улицу.
Одиночество Манички было так томительно и скучно, что казалось длившимся необычайно. Она успела уже привыкнуть сидеть так вечером у раскрытого окна и глядеть на площадь, и знать, что ничто не нарушит её одиночества. Но на этот раз она ошиблась. Ручка двери чуть-чуть шевельнулась, дверь попробовали отворить из коридора, потом постучали. Маничка встала, подошла к двери и спросила:
– Кто там?
– Это я, отец твой, – проговорил из-за двери Корецкий, стараясь придать своему голосу как можно более нежности.
«Вот оно! – мелькнуло у Манички, – что же мне теперь делать?»
– Отвори! – сказал Корецкий.
Маничка металась по комнате. Она не смела ослушаться дяди Андрея, а вместе с тем не знала и боялась того, что произойдёт, если она отворит.
– Я не могу! – сказала она.
– Не можешь?.. Отчего же ты не можешь?
Маничка хотела солгать, что у неё нет ключа. Но она никогда не лгала до сих пор и ей стоило большого усилия, чтобы сказать, что ключа нет.
– Ан врёшь! Ключ в замке, я вижу! – проговорил Корецкий, заглянувший в замочную скважину.
Маничка, уличённая, совсем уже растерялась и, не зная, что ей говорить, бросилась к постели, легла на неё и, уткнувшись головой в подушку, закрыла лицо руками, решив, что пусть будет, что будет!
«Господи, помилуй и сохрани!» – твердила она про себя, стараясь не слушать того, что говорил ей из-за двери Корецкий.
Он сначала просил, приказывал, требовал, казалось, хотел сорвать дверь с петель, но гостиница была полна народом, и он боялся шуметь, боялся даже говорить слишком громко.
– Маничка, Маня! – жалобно просил он. – Отвори, мне нужно сказать тебе два слова только! Твоя мать желает тебя видеть! Я тебя хочу отвести к ней!
Услыхав эти слова, Маничка почувствовала, что борьба не по её силам, и что она не в состоянии владеть собой.
Сколько раз с самого детства думала она о своей матери, мечтала о ней и представляла её себе. Отца она боялась, страшилась; он почти всегда являлся грубым и пьяным и все разговоры с ним кончались тем, что она отдавала ему свои деньги. Спросить у него о матери она никогда не осмеливалась – и вдруг… он сам говорит ей о матери и обещает отвести к ней!
Маничка встала с постели; голова её кружилась, пред глазами как будто туман застлал всё… Она сделала шаг по направлению к двери и остановилась… Она вспомнила запрет дяди Андрея: ни под каким видом не отпирать двери, в особенности, если придёт Корецкий.
«Нет, не отопру!» – спохватилась она и снова вернулась на постель.
– Да чего ты боишься? Смешная, право! – настаивал, между тем, Корецкий за дверью, – ведь я отец тебе и зла не сделаю. Ведь я даже не пьян сегодня, ты по голосу слышать можешь… Маня, отопри, пусти меня! Ну, если я виноват был пред тобою, прости меня… Если не пустишь, я пропаду, Маня, совсем пропаду! Такие дела, что, может, ты меня спасти можешь… то есть твоя мать спасти меня может… Пойдём к ней, попроси её за отца… Она ведь тут, в этом городе, она близко… А пропаду я – на твоей душе грех будет…
Корецкий говорил слезливо и жалобно и говорил такие слова, которых Маничка никогда не слыхала от него.
В самом деле, если он хочет раскаяться? Может быть, дядя Андрей сам велел бы впустить его, если б знал это. А не впустит она отца – он совсем отчаится и пропадёт навсегда, погибнет… и она погубит его, она!.. Потом она всю жизнь будет вспоминать вот эти минуты, когда он просился к ней, хотел раскаяться, измениться, а она не пустила его к себе…
Нет, положительно, дядя Андрей не знал, когда запрещал ей и брал с неё слово. Она должна отпереть!
Маничка подошла к двери и взялась за ключ…







