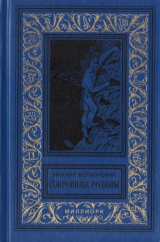
Текст книги "Ёрш и Пыж"
Автор книги: Михаил Волконский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
XVIII
– Вы имеете сообщить мне какие-нибудь факты по делу об убийстве дочери фабриканта Тропинина? – строго спросил следователь Козодавлева-Рощинина.
– Имею, – ответил тот.
– Говорите.
– Прежде всего я должен сказать вам, что арестованный артист Ромуальд-Костровский невиновен!
– Вот как? – сказал следователь и улыбнулся тою улыбкою, которою могут улыбаться разве лишь старообрядческие начётчики, когда их желают уличить в неправильном толковании Священного Писания.
– Он невиновен, – повторил Козодавлев-Рощинин, – потому что для его обвинения недостаёт самого главного – мотива или причины преступлений. С какой стати, и какая выгода ему была убивать эту девушку?
– Об этом мы не будем говорить, – перебил следователь.
И хотя он сказал: «об этом мы не будем говорить», он сейчас же стал выяснять те мотивы, на основании которых, по его мнению, Ромуальд-Костровский мог совершить это убийство.
Он так много думал об этом и так наладил ход своих мыслей, что ему захотелось высказать их для того, чтобы послушать самого себя.
В его воображении Ромуальд-Костровский рисовался безнравственной, пьяной натурой, которая готова совершить убийство ради самого убийства.
Само пролитие крови доставляет-де таким натурам удовольствие, и они являются порождением нашего расшатанного, болезненного времени, когда прежние грубые мотивы преступлений, как выгода, месть и тому подобное, заменяются более тонкими, и психологически безнравственными.
– Но ведь нельзя же обвинять человека, – стал возражать Козодавлев-Рощинин, – на основании только произнесённой им в пьяном виде фразы из драмы Островского! Ведь то, что сказал Ромуальд-Костровский – «вяжите меня, я убил её», – известные выходные слова из драмы Островского и больше ничего!
– Может быть, это и из драмы Островского, – опять перебил как бы задетый за живое следователь, – и сама по себе такая фраза ничего бы не значила, если бы она не являлась звеном в цепи других, так называемых косвенных улик. Обвиняемый не может объяснить, где он находился вечером пятнадцатого июля, затем выяснено, что он вернулся домой только утром шестнадцатого, причём платье его было в грязи, и он также не умеет объяснить, откуда взялась эта грязь.
Судя по разговору следователя, видно было, что недаром он не получал повышения по службе.
Вместо того, чтобы допрашивать свидетеля, каким явился к нему Козодавлев-Рощинин, он разглагольствовал с ним, пускаясь в совершенно ненужные и лишние объяснения. Сам он, однако, видел в этих разглагольствованиях особенно хитрую сноровку, думая путём такого, как бы частного, разговора вмешать истину, которую легче затемнить при вопросах и ответах официального, сухого допроса.
«Ну, полноте, мамочка!» – чуть не сказал ему Козодавлев-Рощинин по своей привычке, но вовремя спохватился и проговорил только:
– Ну, полноте! Нельзя же ведь, правда, обвинять человека, потому, что он пьяный произнёс фразу из роли, или что платье его было в грязи, или что он не может объяснить, где он был вечером пятнадцатого июля! Это доказывает лишь, что человек он пьяный, и больше ничего. Он и есть на самом деле пьяный человек и не помнит, что делает в пьяном виде.
– Позвольте, – остановил его следователь, – да у вас есть какие-нибудь факты?
– Какие факты?
– Которые вы можете сообщить правосудию!
– Да разве то, что я вам говорю, не факты? Я вам докладываю, что он пьёт запоем, что он пьяница, а вовсе не преступник-убийца! Это – факт положительный!
– Нет, сударь мой! – покачал головой следователь. – Это не факты, а собственные ваши рассуждения, может быть, очень почтенные с вашей стороны, потому что вы хотите ими оправдать своего товарища, но они для следствия не пригодны; рассуждать будут судьи, а следствие должно считаться только с фактами.
– Ну, а что вы скажете, – проговорил Козодавлев-Рощинин, – если я вам укажу на другого человека, которого можно с гораздо большею достоверностью обвинить в убийстве дочери Тропинина?
– Что я скажу? – переспросил следователь, хитро и пронзительно взглядывая прямо в глаза комику. – Скажу, что, может быть, вы хотите сбить с толка правосудие и затемнить дело в пользу вашего приятеля. Вероятно, этот артист был вашим приятелем?
– Нет, он моим приятелем не был, и встречались и разговаривали мы с ним только на сцене. Сбивать с толка правосудие мне нет никакого основания, а, напротив, мне кажется, что я могу направить его на истинный путь.
– В таком случае повелевайте! – сказал следователь, взял перо, помакнул его в чернильницу и приготовился слушать и записывать.
– Определённого я ничего не могу сказать, – начал Козодавлев-Рощинин, – но, кажется, мне известен человек, для которого смерть молодой Тропининой является выгодной…
В это время звонок стоявшего на столе телефона резко задребезжал; следователь остановил Козодавлева-Рощинина, сказав:
– Погодите, сейчас! – положил перо, взял трубку телефона и приставил к уху. – Да! Да! – ответил он в трубку и снова стал слушать.
Слушая, он сдвинул брови и сделался очень серьёзен; потом лицо его приняло торжествующее выражение.
– Я сейчас приеду, – проговорил он в телефон, положил трубку и обратился к Козодавлеву-Рощинину. – Ваш приятель сознался в совершённом им убийстве, – произнёс он как бы даже победоносно и добавил: – Извините, мне сейчас надо ехать.
«Не может быть! Нет, не может это быть! – повторял себе Козодавлев-Рощинин, выйдя от следователя и направляясь снова к дому Тропинина. – Нет, тут что-нибудь да не так, – рассуждал он, – пусть он сознался, но всё-таки тут что-нибудь да не так».
Комик был очень взволнован; внутри его дрожало всё и, несмотря на собственное признание Ромуальд-Костровского, о котором сообщил ему следователь, он чувствовал какую-то упрямую уверенность, что его комбинация была более правильна, чем даже собственное признание Ромуальд-Костровского.
Он опять проник к камердинеру Власу Михайловичу, рассказал ему, что был сейчас у следователя, и так стал просить его, чтобы тот опять доложил о нём, что камердинер решился ещё раз побеспокоить барина.
– Скажите ему, что человек безвинно может погибнуть, – повторял Козодавлев-Рощинин, – и что он один может спасти его.
Камердинер пошёл докладывать, долго не возвращался и, наконец, пришёл.
– Пойдёмте, я проведу вас, – заявил он Козодавлеву-Рощинину. – Валериан Дмитриевич велел провести вас к себе.
Он провёл комика по коридору в небольшую, очень просто отделанную спальню, а из неё – в огромный кабинет, такой огромный, что он мог бы служить целым залом.
По одной стене тянулись шесть высоких зеркальных окон, задрапированных гобеленами, посредине противоположной им стены выступал из белого мрамора камин, в виде очага, стены до половины были покрыты дубовою резною панелью, а наверху затянуты такими же гобеленами, какие были на окнах, потолок был тоже дубовый, резной. Посредине стоял письменный стол таких размеров, что он, казалось, мог служить подмостками для маленькой сцены.
На дворе сгущались уже сумерки, гобелены на окнах были спущены, и комната освещалась мягким, ровным светом расположенных по карнизу, у потолка, электрических лампочек, затянутых белой тафтой.
Мягкий, пушистый ковёр покрывал пол комнаты, и вся она была заставлена мебелью, шкафами с книгами, статуэтками.
Дорогих вещей тут было столько, что, несмотря на всё волнение Козодавлева-Рощинина, глаза его разбежались; он оглядел несколько раз комнату, прежде чем увидел сидевшего на диване Тропинина.
Над диваном висел большой портрет молодой женщины в голубом шёлковом платье, написанный масляными красками.
Увидев Тропинина, Козодавлев-Рощинин заметил и портрет и воззрился на него.
– Чей это портрет? – спросил он, не успев поздороваться и отрекомендоваться Валериану Дмитриевичу.
Очевидно было, что бедный актёр так был поражён обстановкою богатого кабинета, что растерялся и не знал, с чего начать.
– Это портрет моей покойной жены, – ответил Тропинин скорее машинально, чем сознательно.
Козодавлев-Рощинин перевёл глаза на него.
– Простите, – начал он, – что я беспокою вас, но дело идёт о спасении человека, по всем данным, неповинного, хотя якобы уже и сознавшегося в преступлении.
– Но что же я-то тут могу? – слабо произнёс Тропинин.
– Прежде всего ответить мне на один вопрос: у вас есть родственник Степан Валерианович Тропинин?
Валериан Дмитриевич провёл рукою по лицу.
– Как вы сказали? – переспросил он.
– Степан Валерианович Тропинин, – повторил Козодавлев-Рощинин.
– Нет… не знаю!.. Впрочем… погодите! У моего отца был брат по имени Валериан, я помню это, потому что он носил одно имя со мной, но только я его никогда не видел.
– Ваш отец был в ссоре с ним?
– Нет, не то что в ссоре, но они не виделись, потому что Валериан Тропинин ничего общего не имел с моим отцом, был праздный гуляка и не хотел его знать.
– А вам неизвестно, был у него сын?
– Ну, да, конечно, был! – вспомнил вдруг Тропинин. – Он мне несколько лет назад писал дерзкие письма, на которые я не отвечал.
В начале разговора Валериан Дмитриевич, подавленный своим горем, говорил, как бы не отдавая себе отчёта в своих словах, но теперь расспросы Козодавлева-Рощинина заставили его овладеть своими мыслями и вспомнить про существование двоюродного брата.
– Так этот Степан Тропинин – сын гуляки? – продолжал расспрашивать комик, – и, по всем вероятиям, сам находится в достаточной степени нравственного падения?
– По всей вероятности! – как эхо, отозвался Валериан Дмитриевич.
– Так я и думал! Так я и думал! – раздумчиво произнёс несколько раз Козодавлев-Рощинин.
Тропинин в это время вдруг будто опомнился, лицо его из совершенно равнодушного и бесстрастного стало осмысленным.
Он спустил ноги с дивана, взглянул прямо в глаза Козодавлева-Рощинина и сказал:
– Почему вы спрашиваете меня о Степане Тропинине и почему вы знаете его?
– Я его не знаю, но случайно видел… – начал было Рощинин и, как бы перебив самого себя, продолжал: – Смерть вашей дочери, как единственной вашей наследницы, могла быть выгодна единственно этому Степану Тропинину; у него мог явиться расчёт, что вы не переживёте смерти дочери и тогда ваше состояние перейдёт к нему, как к наследнику.
Тропинин закрыл лицо руками.
– Не может быть… это было бы слишком ужасно! – сказал он.
– А между тем, я случайно увидел, – опять заговорил Рощинин, – я случайно увидел вексель на пятьдесят тысяч рублей, подписанный Степаном Валериановичем Тропининым, и этот вексель находится в руках человека, которому терять нечего, который заведомо способен на всякое преступление и который появился здесь, в городе, очень недавно. Он пошёл бы на всё и не за пятьдесят тысяч, а тут у него вексель по предъявлению Степана Тропинина на такую сумму!.. Кажется, ясно, что между ними была заключена сделка, и что Степан Тропинин рассчитывает легко заплатить пятьдесят тысяч из миллионного наследства, которое получит после вас.
– Тогда этот арестованный актёр не виноват? – воскликнул, как бы просыпаясь, Тропинин.
– В том-то и дело, что не виноват, милостивец! Потому-то я и решился потревожить вас.
Тропинин вздохнул.
– Но ведь это – не моё уже дело, – снова возвращаясь к своему горю, махнул он рукой. – Это дело следователя, расскажите ему.
– Я был у следователя, пробовал говорить с ним, но из этого ничего не вышло, потому что следователь не хотел даже выслушать меня до конца. Ему сообщили по телефону, что Ромуальд-Костровский сознался, и он поспешил, верно, отправиться к нему, а Костровский, очевидно, допился до белой горячки и бредит; они же принимают бред за подлинное сознание.
Светлый промежуток, вызванный в мыслях Тропинина неожиданным сообщением Козодавлева-Рощинина, затемнился снова надвинувшимся горем и думой об убитой дочери. Что для него были теперь чужие несчастья, когда её не было, а вместе с ней не было и жизни у самого Валериана Дмитриевича?..
– Нет, оставьте меня! – произнёс он даже с сердцем. – Мне не до ваших дел, я не хочу входить в них!
– Может быть, вы не хотите, – с отчаянной решимостью возразил Козодавлев-Рощинин, – но вы должны помочь мне оправдать невинного человека!
– Должен? Почему я должен? – злобно заговорил Тропинин.
– Во имя справедливости!
– Всё равно её нет на свете, этой справедливости!
– Среди людей – вы правы – пожалуй, нет её, но Господь выше людей и Он справедлив.
Тропинин горько улыбнулся и покачал головой.
– Нет, справедливости нет и выше людей! Разве то, что случилось со мной, справедливо?
– Так вы и в Боге отчаялись? Я понимаю теперь, как тяжело вам! Но только напрасно, напрасно вы отчаялись и перестали верить.
– Я поверил бы, пожалуй, снова, разве только если б воскресла моя дочь и была возвращена мне.
– Разве вы думаете, что это невозможно? – вдруг спросил Козодавлев-Рощинин.
Валериан Дмитриевич глянул на него, как будто сомневался, сам ли он сходит с ума, или пред ним находится сумасшедший, который говорит ему такую вещь.
– Да, это невозможно! – сказал он.
– Для Бога нет ничего невозможного! Мы не знаем путей Его, и то, что нам кажется немыслимым, то для Него легко сделать для верующего в Него! Почём вы знаете, убита ли ваша дочь в самом деле или нет? Вы видели обезображенный водой труп молодой девушки, но можете ли вы с уверенностью сказать, что это была ваша дочь?
Тропинин встал со своего места, пошатнулся и снова сел.
– Погодите, я с ума схожу… У меня в голове мутится и путается… – с трудом проговорил он и взялся за голову. – Но если бы даже я ошибся и не узнал обезображенного лица дочери, то платье, которое было на ней, и вещи, несомненно, были её!
– А разве, – перебил Козодавлев-Рощинин, – вещи, принадлежавшие вашей дочери, не могли быть надеты не на вашей дочери, а на другой?
Тропинин снова встал и быстро заходил по комнате.
– Скажите, – остановился он пред Козодавлевым-Рощининым, – вам что-нибудь известно?.. Вы не договариваете чего-нибудь?.. Или просто фантазируете, чтобы заставить меня принять участие в деле вашего товарища?
– Я ничего ещё не знаю, но и не фантазирую; одно только я повторяю вам: верьте, для Бога всё возможно! Не отчаивайтесь и надейтесь!
И, проговорив это, Козодавлев-Рощинин повернулся и вышел из комнаты так быстро, что Валериан Дмитриевич не успел удержать его.
XIX
На другой день в местной газете появилось подробное сообщение об аресте трагика театральной труппы по обвинению его в убийстве дочери фабриканта Тропинина.
Было описано, как ловко приехавший из Москвы сыщик выследил его, и затем была лаконическая, но многознаменательная прибавка: «Преступник сознался уже в содеянном им преступлении».
Корецкий, идя по улице, слышал, как два чиновника, направляясь на службу, разговаривали об аресте театрального трагика и говорили, что об этом нынче напечатано в газете.
У Корецкого не было денег, чтобы купить номер, и он зашёл в трактир, где посетители могли пользоваться газетою даром.
Он зашёл в знакомую ему чёрную половину «Лондона» и, оглядевшись, увидел, что у окна сидел какой-то невзрачный человечек, не то мастеровой, не то так, сам по себе, держал в руках газету и глубокомысленно читал её.
– Читаете? – подошёл к нему Корецкий.
Ему хотелось поскорее самому почитать газету.
Человек глянул на него из-за газетного листа и ухмыльнулся.
– Интересно про убивство? – ответил он, не стесняясь вступать в разговор с таким оборванцем, каков был Корецкий, потому что и собственное его одеяние вовсе не отличалось изысканностью и изяществом.
– А легко разбираете или с трудом? – развязно поинтересовался Корецкий.
– Не особенно бегло, а всё-таки маракуем.
– Может, лучше я прочту? – предложил Корецкий. – У меня глаза хорошие.
Он не был пьян и держался с достоинством.
– А что же, присаживайтесь! – пригласил его новый знакомый, передавая ему газету.
Корецкий быстро схватил её, сел у столика и довольно бегло прочёл вслух сообщение об аресте преступника.
– Так вот он уже и сознался! – как-то особенно блеснув глазами, проговорил он.
– Да, сознался, – подтвердил его собеседник, – а кто это мог ожидать?
– А что ж тут неожиданного? – спросил Корецкий.
– Да всё-таки актёр!
– Ну, так что же, что актёр?
– Значит, человек для серьёзного преступления неподходящий. Я по своему делу при них много болтался, так знаю их! Окончательно пустельга и больше ничего!
– А ваше дело какое?
– По малярной части. Больше при театре всё, и насчёт освещения тоже.
– Понимаю, работа не из трудных.
– Всякая работа трудна, коли горло промочить нечем. Може, на счёт опрокиндоса пройтись желаете? Так я с хорошим человеком всегда очень рад!
Корецкий осклабился. Он был всегда рад выпить, даже и не с хорошим человеком, в особенности, если у него, как сегодня, не было денег.
– Только у меня насчёт пенендзов плохо. Не раздобылся ещё презренным металлом, – заявил Корецкий, небрежно разваливаясь на стуле.
– С этой стороны задержки не будет, – пошутил его собеседник, достал из кармана двугривенный, кинул его на стол и крикнул половому: – Эй, малый, сооруди нам графинчик, с приличною нашему званию закуской, как говорят господа артисты! Я, – обратился он к Корецкому, – терпеть не могу один прохлаждаться, а вот если подвернётся хороший человек, так с большим удовольствием!
– А как вас по имени, по отчеству? – осведомился Корецкий, польщённый, что его второй раз назвали хорошим человеком.
– Крещён Иваном, звали Степаном, а прокликали Ершом. Так на эту кличку и отзываюсь. А вас как?
– Меня-то?
– Да.
– Галактионом зовут, а по прозвищу Стрюцкий.
– Не слыхал что-то!
– Я не здешний.
– Издалека приехали?
– Не то чтобы очень издалека, туда не попадал ещё, а так по белу свету околачиваюсь.
– Сам себе господин, значит?
– Это вот уж именно сам себе господин! Птица перелётная.
– Ну, что ж, курица – тоже птица, а и она пьёт. Не угодно ли? – рассмеялся Ёрш, наливая в стаканчик водку, которую подал половой с двумя солёными огурцами. – Это продовольствие, – пояснил Ёрш, кивнув на водку и огурцы, – на закулисном языке «вино и фрукты» называется! Так у нас и кричат актёры, чтоб им пусто было: «Ёрш, – говорят, – принеси вино и фрукты!..»
– Я театральные порядки знаю, тоже при этих палестинах околачивался, – заявил Корецкий.
– Ну, вот, значит, мы с вами, как это говорится, одного поля ягода, – хихикнул Ёрш. – Выпьем!..
Корецкий тоже хихикнул. Он уже видел, что его новый знакомый «одного с ним поля ягода» и не потому только, что оба они возле «театральных палестин» околачивались.
– Рыбак рыбака видит издалека, – проговорил он.
– Вашими бы устами да водку пить! – произнёс Ёрш.
И они стали пить, а по мере того, как пили, видимо, чувствовали друг к другу всё большее и большее расположение.
– Чудной это народ – актёры, – начал Ёрш, возвращаясь снова к театру, – фантазии имеют разные, фантазией и живут только…
– А что? – спросил Корецкий, очень внимательно потягивая водку и рассеянно слушая.
– Да как же! Ведь, вот хоть бы это дело трагика Ромуальд-Костровского; ведь уж и пойман человек, и сознался, а они, то есть актёрская братья, не верят…
– Как же это не верят?
– А так, в особенности есть там комический актёр – Козодавлев-Рощинин, так он так и кричит: «Не верю, чтоб Ромуальд-Костровский убил, у меня, говорит, есть данные, что убийца – другой совсем человек…» Блажные люди – сами посудите… если он уже сознался…
Корецкий вдруг насторожился, но Ёрш, захмелев немного, сейчас же заговорил о другом, как оно и свойственно человеку выпившему перескакивать с одного предмета на другой. Через некоторое время он уже говорил Корецкому «ты» и задушевным голосом сообщал ему конфиденциально:
– Надоел мне этот театр хуже горькой редьки! Что, в самом деле, они думают? Я и без них проживу, в лучшем виде проживу… Я с ними расплевался сегодня и ушёл. Пусть без меня делают, что хотят. Ты как думаешь, а? Я вот теперь гуляю, потому волю чувствую. Вот и с хорошим человеком встретился. Ведь ты, Стрюцкий, – хороший человек, а?..
XX
Они вышли из трактира вместе и повернули по направлению к реке. Река была большая, судоходная с отлогим песчаным берегом.
– Я тут люблю на солнышке на песочке пригреться и поспать, – сентиментально стал объяснять Ёрш, – а ты реки не любишь?
– Почему ж ты думаешь, что я не люблю реки? – обиделся Корецкий.
– А выкупаться хочешь?
– Чего ж, можно и выкупаться.
– А вдруг утопленник за ногу схватит?..
Корецкий поёжился и возразил:
– Будет вздор болтать! А ты мне вот что скажи: как это ты говорил, что актёр Козодавлев-Рощинин не верит, что трагик виноват, и какие такие у него есть данные?..
Ёрш равнодушно достал кисет с табаком и стал себе крутить из газетной бумаги цигарку.
– А кто его знает! – ответил он. – Слышал я, как он в уборной надрывался, до хрипу кричал…
– Что же он кричал?
– Что видел, дескать, документ…
– Документ?
– Да. Вексель.
Ёрш опустился на землю и сел. Корецкий тоже подсел к нему. Движения его сделались вдруг нервны. Начинавший разбирать его хмель как будто сразу прошёл.
– Вексель? – переспросил он. – Какой же вексель, у кого он видел его?
– У Корецкого, якобы, оборванца, – нехотя продолжал Ёрш, – он так и говорил «у Корецкого, оборванца», я помню… Он говорил, что докажет, что Ромуальд-Костровский не виноват, непременно докажет, что виноват не Ромуальд-Костровский, а этот самый Корецкий…
– Как же это он докажет?
– По документу, значит!.. Да тебе-то что?
– Мне? Ничего, – спохватился Корецкий и разлёгся на спину. – Я только думаю, что дурак этот Козодавлев-Рощинин.
– Отчего дурак?
– Хочет доказывать, а кричит громко об этом; нешто так доказывают! Нужно это втайне делать, чтоб никто не знал… Не его ума это дело, сразу видно. Так он говорит, что видел вексель?
– Видел.
– Ну, и дурак опять. Кто ж ему поверит, что он видел?.. Уж если он доказывать хочет, так должен доказать прежде всего это, а теперь тот, у кого он видел документ, запрячет его так, что никому не сыскать… Вот и ищи потом…
– В том-то и дело, что запрятать не сможет…
– Отчего ж это?
– Оттого, что вексель у него отобран…
– Кем это?
– Полицией.
Корецкий сунул руку за пазуху, нащупал там висевшую у него на шее на верёвке бумагу и переспросил, усмехнувшись:
– Полицией?
– Да, – подтвердил Ёрш, – полицией.
– Ну, это пустяки, врёт он! – сказал Корецкий.
– Может быть, – широко зевнув, согласился Ёрш, – он всё это в уборной промеж других артистов рассказывал, а я на сцене у самой двери сидел и слушал от нечего делать. Может, он и наврал всё…
– Что же он рассказывал?
– Да говорит, что будто некий сыщик переоделся босяком, разыскал этого Корецкого в ночлежном доме, лёг с ним спать рядом на нарах, да у сонного у него и вытянул вексель с шеи, а на верёвочку пустую бумажку ему навязал…
Корецкий, услышав это, пришёл в необычайное волнение. Он трясущимися руками раскрыл рубашку на груди и, забыв, что он не один, вернее, не обращая уже ни на что и ни на кого внимания, вытащил верёвку, распутал её и развернул бумагу…
Действительно, это был не вексель, а простая, ничего не значащая бумага…
– Батюшки, ограбили! – завопил он, зашатавшись на месте. – Ограбили, утащили у меня проклятые… чтоб их разорвало… ограбили ведь!
– Эге, брат, Стрюцкий, – свистнул Ёрш, – Корецкий-то этот, выходит, ты сам…
Корецкий в своём волнении глянул на него безумными глазами, как иступлённый, и спросил:
– Что ты говоришь?..
– Говорю, что Корецкий-то, выходит, ты сам и что дочь фабриканта убил ты!..
Не успел договорить Ёрш эти слова, как Корецкий, кинувшись и повалив его, был уже на нём, схватил его за горло и стал душить…
– Я тебя убью, гадина! – хрипел он не помня себя.
Но Ёрш, видно, был привычный к такого рода переделкам, ловко вывернулся из-под него и вскочил на ноги.
– Ты чего бесчинствуешь, пёс ты поганый! – накинулся он на Корецкого. – Что ты думаешь, доказчик я, что ли? Да я, может, лучше тебя все эти дела знаю. Ты, дурья голова, не драку теперь среди бела дня затевай, а больше всего думай, как бы тебе сокрыться отсюда из этого города… понимаешь?..
Корецкий пришёл в себя и опомнился.
Тон Ерша и ловкость, с которою тот вывернулся из-под него, убедили его, что это – человек бывалый и бояться его особенно нечего. Промаха в том, по-видимому, не было, что он открылся ему.
– Куда же мне деваться теперь? – проговорил он, сидя на земле, и развёл руками.
– Вот так бы и спросил, – наставительно произнёс Ёрш и, как ни в чём не бывало, снова сел рядом с ним и стал опять разговаривать, так что обратившие было на них издали внимание рабочие на барке, приняли, что промеж них ничего серьёзного не произошло, а так только была милая шутка…







