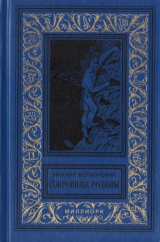
Текст книги "Ёрш и Пыж"
Автор книги: Михаил Волконский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
V
В театре «Отелло» дал такой плохой сбор, какого не было и в самый неудачный, дождливый, день. Стулья и кресла совсем были пусты, даже даровые места оказались незанятыми. В скамейках и галерее набралось человек двадцать да ещё какая-то подкутившая, пьяная компания взяла ложу, видимо, относясь совершенно безразлично к тому, что представляли, и явись в театр просто ради того, чтобы деться куда-нибудь всем вместе, не разъединяясь, после шумного и весёлого обеда… Для этих двадцати человек и для пьяной компании в ложе пришлось играть.
Играли очень плохо. Трагик, хотя успел отрезвиться к представлению, но всё-таки не твёрдо держался на ногах и плёл такую ахинею, что путал вконец актёров, и без того совсем не знавших своих ролей…
Маленькая Микулина в роли Дездемоны была очень мила в своём самодельном платьице, единственном парадном, бывшем у неё. Она выпорола из него рукава и вставила на место их кисею, что и должно было изображать великолепный наряд венецианской дамы.
Пьяная компания в ложе одобряла её очень шумно, аплодировала и вызывала.
Конечно, эти вызовы и аплодисменты производились не ради игры Микулиной, а ради её молоденького, хорошенького личика.
Пьяная компания вовсе не следила за тем, что происходило на сцене, разговаривала и смеялась во время действия и, когда опускалась занавесь, громогласно вызывала Микулину. Она должна была выходить, кланяться и отвечать улыбками на бессмысленную овацию подкутивших, пьяных людей, не знавших, что выкинуть ради своего удовольствия.
Когда в исступлении ревности Отелло задушил на сцене Дездемону и роль Микулиной таким образом кончилась, пьяная компания демонстративно покинула театральный зал и уселась на веранде, потребовав себе ужин и шампанского.
Микулина, сконфуженная своим первым выходом в ответственной роли, чувствовала, что он не удался ей, и эту неудачу особенно ещё подчеркнули неуместные и унизительные рукоплескания из ложи.
Она была обижена до слёз. Она так надеялась на эту роль! Теперь для неё было ясно, что она – не актриса и никогда не станет ею.
Она переодевалась в крошечной уборной и делала это торопливо, чтобы поскорее снять с себя личину неудачной Дездемоны и стать снова самой собою.
В дверь раздался стук, определённый и требовательный.
– Кто там? – спросила Микулина.
– Это я, – ответил голос Антона Антоновича, антрепренёра.
– Я переодеваюсь, не могу впустить! – сказала Микулина, инстинктивно накидывая на себя платок, как будто он через дверь могли увидеть её.
– Так одевайтесь скорее, я подожду, – прозвучал снова антрепренёрский голос.
– Что такое? Что случилось? Зачем вам меня надо? – удивилась Микулина.
– Надо, так надо! – проговорил антрепренёр, вдруг изменив прежний ласковый тон на строгий и сердитый.
Микулина поспешила одеться и отперла дверь.
– Ну, поздравляю вас с успехом! – заговорил антрепренёр, распустив свой большой рот в широкую улыбку.
– С каким успехом? – снова удивилась она. – Кажется, никакого успеха не было…
– Однако вам аплодировали и вас вызывали!
– Пьяная компания в ложе?
– Всё равно, кто б ни вызывал! А теперь вас ужинать приглашают.
– Кто?
– Те, что были в ложе.
– Эти пьяные люди?
– Ну, отчего же пьяные… просто навеселе.
– Я не пойду к ним! – вырвалось у Микулиной как бы помимо неё.
– Отчего же вам не пойти? – возразил Антон Антонович. – Авось вас не убудет, и корона не свалится с вашей головы! Потому не свалится, – пошутил он, – что её никогда и не было на вашей голове, даже картонной! Вы ведь королев не играли!
– Я не пойду! – повторила Микулина. – Так и скажите им.
Лицо антрепренёра нахмурилось.
– А я вам говорю, что вы должны идти и пойдёте! – почти крикнул он. – Сборов совсем нет! Нужно хоть чем-нибудь заманивать публику; играете вы из рук вон плохо, так обходительностью возьмите! Это – мой вам совет; а не послушаетесь его, так я вам вот, что скажу: если вы не пойдёте сейчас ужинать, так завтра я вас из труппы выгоню. Я дармоедов у себя в труппе держать не могу!
– Что?.. Что?.. Каких дармоедов?.. – спросил, подходя, комик Козодавлев-Рощинин.
При виде его антрепренёр как будто несколько смутился.
– Вам что за дело? – обернулся он к комику.
– Как… что за дело? – вдруг, густо краснея, подступил к нему Козодавлев-Рощинин.
– Антон Антонович требует, чтобы я пошла ужинать с компанией, которая сидела в ложе! – сказала Микулина.
– То есть я не требую, – перебил Антон Антонович, – а передаю только приглашение…
– Я вам передам! – рассердился комик. – Это ещё что за новости вы выдумали? Разве мы для ужинов пошли к вам в труппу?.. И как вы осмелились!..
Козодавлев-Рощинин вспыхнул весь и лез на антрепренёра почти с кулаками.
– Вы не кричите, я не глухой! – стараясь сохранить собственное достоинство, стал возражать антрепренёр. – А если вы начнёте у меня буянить, так я и на вас не посмотрю и вас вместе с ней выгоню! – и, проговорив это, он повернулся и ушёл, ворча ещё себе под нос.
– Посмотрим! – пустил ему вслед Козодавлев-Рощинин. – Ты не беспокойся, Манюша, – обратился он к Микулиной. – Я тебя в обиду не дам! Эдакое грубое животное! Пойдём домой!
И, взяв молодую актрису под руку, Козодавлев вывел её из театра через заднюю дверь, миновав веранду, где пьяная компания шумела и кричала, требуя немедленно к себе хорошенькую Дездемону.
VI
Маничка Микулина была не только наперсницей и воспитанницей комика Козодавлева-Рощинина, но и его, так сказать, приёмной дочерью.
Он её взрастил, воспитал, и принята она была в труппу исключительно ради него.
Звала она его с детства «дядя Андрей», и он с чисто отеческой лаской отзывался на такое обращение, и как ни бедствовал сам, но делал всё возможное для своей Манички, отказывая себе часто в необходимом.
Она была для него приёмная дочь, и он был бы вполне счастлив ею, если бы этому счастью не мешал родной отец Манички, у которого Рощинин взял её ребёнком, подобрав на улице.
Сначала отец Манички, казалось, был очень рад и доволен, что освободился от обузы, которую представлял для него ребёнок, но потом нашёл себе источник некоторого дохода в том, что вытягивал деньги у Козодавлева-Рощинина, являясь к нему и требуя назад своего ребёнка.
Это был бесшабашный гуляка и пропойца, не знавший никакого ремесла и вечно сидевший без дела.
Отдать ему назад Маничку Рощинин не решался и предпочитал откупаться от него, чтобы иметь право, как говорил он, считать, что хоть одному созданию он мог даровать свободу в своей жизни.
По мере того как росла Маничка, он всё больше и больше привязывался к ней, ухаживая за ней и перевозя её с собой из города в город.
Отец девочки следовал за ними, часто каким-то чутьём узнавая места, где играл Рощинин. Впрочем, это и не представляло особых затруднений, потому что обыкновенно в Великом посту провинциальные актёры съезжаются в Москву для заключения контрактов, и там, зная хоть немного театральные порядки, легко можно узнать, куда какой актёр приглашён.
Отец Микулиной изучил эти порядки, потому что всю свою жизнь вертелся при театре то бутафором, то афишёром.
Неизвестно было, каким образом он устраивался, чтобы переезжать из города в город, и чем он жил ещё, кроме подачек Рощинина.
Однако случалось, что вдруг он появлялся в более или менее приличной паре и каком-нибудь котелке или широкополой шляпе; но затем эта более или менее приличная пара исчезала у него, и он снова превращался в оборванца, грязного и пьяного.
На какие ухищрения ни пускался только Козодавлев-Рощинин, чтобы скрыть, с какой труппой отправляется он играть, всё оказывалось напрасным – отец Манички вырастал точно из-под земли.
Его преследования стали особенно назойливы с тех пор, как сама Маничка сделалась актрисой и начала получать заработанные собственным трудом деньги. Жалованье она получала небольшое, но она шила на других актрис и имела на этом заработок. Однако почти все деньги отбирал у неё отец, а если она успевала потихоньку от него купить себе какие-нибудь вещи, то он и их отнимал у неё, продавал, закладывал и пропивал.
Иногда Рощинину с его питомицею удавалось провести некоторое время в покое, и, когда выдавались такие недели, что они, приехав в новый город, не видели этого человека, они радовались, что могли вздохнуть спокойно, но знали, что это ненадолго, и что он появится вновь.
И чем длиннее был «светлый промежуток», как они называли это, тем невозможнее и неисполнимее были впоследствии требования оборванца. Он доходил иногда до того, что являлся во время представления в театр и шумел, и кричал, требуя свою дочь обратно и обвиняя Козодавлева-Рощинина в самых гнусных преступлениях.
Хорошо, если была возможность заставить его замолчать, то есть имелись деньги, чтобы дать их ему.
Но, когда дела, как теперь, шли плохо, сборов не было и денег было мало, тогда положение становилось отчаянным.
Матери своей Маничка никогда не знала и никогда ничего не слыхала о ней. Отец иногда, являясь к ней пьяным за деньгами, плакал, говоря, что мать подкинула её ему на руки, что она бежала от него, обманув его… Но кто была эта мать и почему она бежала, трудно было понять из его несвязных пьяных слов. Невозможно было разобрать также, насколько являлся правдивым его спутанный рассказ.
По паспорту он значился холостым.
Случай был вполне исключительный, потому истинный бич в жизни Манички и её воспитателя, жизни и без того далеко не сладкой и полной всяких огорчений и лишений.
VII
Едва только вышел Козодавлев-Рощинин с Микулиной через заднюю дверь из театра, пред ними появился, как зловещее видение, освещённый висевшим у двери фонарём, отец Манички.
Только этого недоставало!..
– А-а-а, вот-с и накрыл я вас! – проговорил он тихим, но пьяным голосом. – Честь имею кланяться, каково поживаете? Иль не рады видеть родителя, сударыня?..
Маничка дрогнула и крепче ухватилась за Козодавлева-Рощинина, державшего её под руку.
– Не скандальте, пожалуйста, не скандальте… – начал было Рощинин, но эти слова, вместо того, чтобы укротить отца Манички, только взволновали его.
– Скандалить! – вдруг громко завопил он. – Коли ежели я почну скандалить, так весь ваш балаган переверну!.. Иль вы забыли, как скандалит Галактион Корецкий? Забыли вы Галактиона Корецкого?..
Фамилия Манички по сцене была Микулина. Отца её звали Корецким.
– Мамочка, да ты пьян совсем, – спокойно произнёс Рощинин, никогда не терявший присутствия духа и при всех случаях сохранявший в речи юмористические обороты, заключавшиеся, главным образом, в употреблении ласкательных слов вроде «мамочка», «милушка» и так далее.
– И пусть пьян! – горделиво согласился Корецкий. – Пусть я трижды пьян – не тебе учить всё-таки Галактиона Корецкого… Кто ты такой, а?.. Кто ты такой, спрашиваю я тебя! Актёришка и больше ничего. Дам я тебе денег, заплачу, сам напьюсь пьяным, а ты представляй мне, потешай, то есть… Ты из моей дочери тоже актёрку сделал – разве я на то тебе отдал её?.. Давай рубль сейчас…
Рощинин, услыхав, что дело идёт о рубле только, поспешно стал шарить в карманах. Это занятие, впрочем, оказалось напрасным – в его карманах со вчерашнего уже дня не было ни копейки…
Корецкий протяжно свистнул.
– Не ищи – не найдёшь, – снова заговорил он, – да если б и нашёл – ты думаешь, я теперь рублём удовольствуюсь? Как же! Обрадовался! Рублём вздумал отделаться… По моим, брат, делам теперь мне тысячи нужны, и они будут у меня, эти тысячи… Вот они, где у меня, эти тысячи, – он хлопнул себя по груди. – Я душу свою продал, – продолжал он, пошатнувшись, – а ты рубль… Ну, давай рубль… пока… а там поговорим пока что… Давай рубль, говорят тебе…
И он протянул к Рощинину руку.
Тот невольно отстранился от него.
– Теперь у меня, голубушка, нет ни одного мораведиса в кармане… – начал он.
– Что-о? – грозно переспросил Корецкий.
– Ни одного сантима, – пояснил Рощинин, – а приходи завтра – завтра я дам тебе рубль…
– Завтра! – захохотал Корецкий. – Завтра… Я сегодня хочу…
– Сегодня нет…
– Дядя Андрей, уйдём, спрячемся! – стала просить Маничка, в ужасе следившая за происходившим.
Хотя подобные сцены не раз уже происходили при ней, но она не могла привыкнуть к ним и всегда её охватывал новый ужас при появлении пьяного отца… Она тянула Рощинина к двери…
– Не дашь рубля, – кричал, между тем, Корецкий, – так я дочь отниму… подавай мне назад Маньку, подавай!..
Никогда он ещё не был так буен в своём опьянении, как сегодня… Это было тем более страшно, что хмель охватил его как будто вдруг, сразу, потому что начал он разговор очень осторожно и тихо…
– Подавай Маньку! – во весь голос крикнул он, наконец, наступая на Рощинина.
Таких выходок, обещавших разрешиться насилием, Корецкий никогда ещё не позволял себе.
Рощинин, видя, в каком он состоянии, быстро увлёк Маничку назад в театр, захлопнул дверь и запер её на крючок.
Теперь они очутились кругом в осаде.
Оставаться на сцене им было неудобно из-за рассерженного антрепренёра, который, завидев их, снова стал бы приставать и браниться, чтоб сорвать хоть на ком-нибудь свою злобу за плохой сбор. Пришлось бы отвечать ему, а из этого могла выйти неприятная история.
Со стороны веранды угрожала пьяная компания. У задней двери буянил отец.
Оставался один выход – через зрительный зал, и Рощинин хотел воспользоваться им, чтобы уйти со сцены незаметно, но это не удалось ему…
Корецкий стал, что было мочи, барабанить в дверь кулаками и ногами и поднял такой шум, что даже трагик вздрогнул, изображая в это время последнюю картину, которая ещё шла на сцене…
Появился антрепренёр.
– Что тут за шум, кто тут шумит? – спрашивал он на ходу, кидаясь к двери.
Он отпер дверь. Корецкий вломился, но, увидев пред собою незнакомого человека, оторопел и остановился на пороге.
– Что тебе нужно? – задал на него окрик Антон Антонович.
Он умел обходиться с пьяными и сразу понял, что пред ним пьяный.
– Дочь! – проговорил Корецкий.
– Какую дочь?..
– Мою, вот эту, – показал Корецкий на стоявшую рядом с Рощининым Маничку.
Микулина в первый раз ещё играла в труппе Антона Антоновича, и тот не знал, что судьба наделила её таким отцом. Он поглядел на Маничку, а она закрыла лицо руками. Это было всё, что могла она сделать. Говорить она была не в силах.
– А в полицию желаешь? – вдруг резко произнёс Антон Антонович.
При слове «полиция» Корецкий вдруг дрогнул весь, съёжился, повернулся и бегом исчез в темноте сада.
Антрепренёр подошёл к Микулиной.
– Это ваш отец? – отрывисто проговорил он.
Маничка молчала.
– Я вас спрашиваю, отвечайте… – повторил антрепренёр.
Маничка опять не ответила.
– Вы языка лишились? – грубо спросил Антон Антонович и тронул её за плечо.
Козодавлев-Рощинин мягко отстранил его руку.
– Вы, прелестный гидальго, языком болтайте, сколько угодно, а рукам воли не давайте, – остановил он Антона Антоновича.
– Я в третий раз спрашиваю, это её отец? – проговорил вконец рассерженный антрепренёр.
– Ну, отец! – протянул Рощинин. – Что ж из этого?..
– А то, – сказал Антон Антонович, – что она может уходить теперь, куда угодно. Мне таких актрис не нужно. Требований моих она не исполняет, а приводить на сцену пьяного отца, который буянит тут… Она больше не служит у меня… Я ни отца её, ни её не велю больше пускать сюда…
– Соломон милостивый, судия праведный, – всплеснул руками Козодавлев-Рощинин, скорчив гримасу, – ведь у неё с вами контракт подписан…
– Я нарушаю контракт, – решительно возразил Антон Антонович.
– А на каком основании? – прищурился Козодавлев-Рощинин.
– На том основании, что поведение её безнравственно… Я не могу иметь дело с пьяницами…
Рощинин покачал головою и сказал:
– Джентльмен благородный, подумайте только, что вы говорите. Идти ужинать с пьяной компанией, по-вашему, не безнравственно и то, что негодяй-отец мучает ни в чём не повинную девушку – тоже не безнравственно?
– Да, впрочем, я вам не препятствую, судитесь, если хотите, – заявил антрепренёр.
Он не боялся суда, потому что знал, что, пока там будут разбирать дело, он успеет с труппой уехать в другой город, а потом ищи его по России…
– Я судиться не буду, – успокоил его Рощинин, – а если вы действительно отказываете ей, то и я уйду…
Антрепренёр махнул рукою.
– Скатертью дорога… Другого найду…
– Так и запишите так, розанчик сладкий!..
– Ну, а теперь уходите вон! – крикнул Антон Антонович.
– Уйдём, уйдём, – заключил Козодавлев-Рощинин и, взяв опять Микулину под руку, увёл её из театра через зрительный зал.
VIII
– Ты, Манюша, не тревожься! Всё это вздор и пустяки, – успокаивал Козодавлев-Рощинин свою воспитанницу, когда они вернулись домой, то есть в гостиницу, где занимали два номера рядом.
Номера были дешёвые, те, что предназначались для лакеев, приезжавших с важными господами, останавливающимися в больших комнатах с окнами на улицу.
– Как же пустяки? – тоскливо возражала Микулина, вытирая платком заплаканные глаза, – ведь нас выгнали, дядя Андрей…
Она уже несколько раз принималась плакать и делала усилия, чтобы удержаться.
– Ну, какое там выгнали! Это пустяки, – повторил Козодавлев-Рощинин.
– Да ведь он прямо сказал, что не велит меня пускать, а из-за меня и тебя прогнал, за что же ты-то терпишь?.. И как же мы теперь будем, ведь у нас денег нет…
– Нет, Манюша; это ты истинную правду сказала!..
– Так как же? Ведь надо уезжать в другой город?
– Никуда мы не уедем, а останемся служить по-прежнему здесь… И деньги будут… Завтра хороший сбор будет, ручаюсь за это, а тогда я возьму у антрепренёра…
– Да ведь он же сказал, что мы не служим… И из-за меня это!..
– Пустяки, милая, ему не обойтись без меня, да и завтрашний сбор от меня зависит. Увидишь – завтра же он за мною пришлёт. Я ему нарочно свой фортель не открывал. Без меня ничего не сделают, а сбор-то необходим. Антон-то этот самый Антонович знает, что публику приучить надо, чтоб она ходила в театр: заманить сначала, а потом уж и пойдёт… А сам он это сделать не умеет. Вот я и выручу…
– А выручишь? – спросила Микулина немного уже более спокойным голосом.
– Непременно выручу! – убедительно произнёс Козодавлев. – Вот увидишь. Ты не беспокойся; если тебя только эти пустяки тревожат, то служить мы будем по-прежнему – и ты, и я, – с голода не помрём с тобою…
– Именно только с голода не помрём! – протянула Маничка.
– И слава Богу! Чего ж тебе больше, Манюша? – вздохнул комик.
– Господи, чего! – возразила девушка. – Да спокойствия хочется. Я многого не хочу. Я не о богатстве, не о роскоши мечтаю, но ведь есть же счастливые люди, которые знают, что они будут сыты и завтра, и послезавтра… За что же мы-то мучаемся, чем мы хуже других, что мы сделали, что нам в жизни дано одно мученье?..
– Будет, будет, Манюша, перестань, не ропщи! Верь, что много людей на свете и больше нашего терпят…
– Но ведь от этого мне не легче. Пусть всем хорошо будет и нам вместе с ними!
– Не знаем мы, Манюша, что хорошо для нас, а что дурно, – утешал девушку Козодавлев-Рощинин. – Почти всегда мы думаем, что вот так было бы лучше, а на самом деле оно к худшему выходит. У меня так всю жизнь было, а я дольше тебя жил на свете, гораздо дольше. И спроси у любого, кто пожил, но сознательно пожил и наблюдал свою жизнь, он тебе скажет то же самое: никогда сам человек не знает, что ему нужно. Просишь у Бога, чтоб случилось то или то, настоятельно просишь, и, бывает, случается, но никогда в пользу не служит. Поэтому единственная просительная молитва и есть: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», а во всём остальном «да будет воля Твоя!»
Козодавлев-Рощинин говорил вполне искренне, а не только, чтоб утешить бедную девушку.
Правда, трудно было предположить, что этот человек, проведший весь свой век за кулисами, среди актёрской богемы, был в душе глубоко верующий и религиозный, но Микулина, знавшая всю его подноготную, постоянно бывшая с ним, давно имела возможность убедиться, что он и думал, и чувствовал именно так, как говорил.
– Ну, а когда и хлеба насущного нет? – спросила она.
Козодавлев-Рощинин покачал головою и с упрёком сказал:
– Грех тебе говорить, Манюша! Мы до сих пор, слава Богу, без хлеба не сидели. Правда, бывали случаи, что на одном только хлебе и сидели, но всё-таки он был у нас… Не гневи Бога…
– Знаешь, дядя Андрей, – раздумчиво произнесла девушка, – я так думаю, что Богу до нас, маленьких людей, нет дела, а просто сами мы должны выбиваться из сил, чтоб не умереть с голода, и сыты мы, пока здоровы, а там, если заболеем, не сможем работать, так и помрём. Ведь, в самом деле, времена чудес прошли; сколько ни молись о хлебе насущном, а если не заработаешь его или кто-нибудь другой не даст его тебе, так сам он не придёт… с неба не свалится…
– И с неба свалится, Манюша, если что нужно будет, – с твёрдостью проговорил Козодавлев-Рощинин, – и ты не смей думать, что Господь не видит нас или кого-нибудь и что Ему нет до малых людей дела! – продолжал он, и глаза его блеснули. – Нет, малые люди – Его дети, и если человек в горе думает, что Господь оставит его, ошибается он, потому что именно в часы горя-то Господь ближе всего. Он тут, Он возле, Он всё видит и знает. Он оставляет тех, которые в гордыне своей считают себя счастливыми, а на самом деле мучаются сами собою и не имеют выхода. Ты не знаешь, до каких чисто физических мучений и истязаний доходят разврат и излишество, но верь мне, что это так… Ты говоришь, времена чудес прошли; неправда, потому что всё чудесно вокруг нас в мире, как и прежде, и вместе с тем каждое чудо можно истолковать так, якобы всё это вполне естественно. Вот что в наше время, на наших глазах было. На Стеклянном заводе, в Петербурге, была икона Божией Матери всех скорбящих радости. Икона не была украшена драгоценною ризой. Местность, отдалённая от центра, где богатые живут. Молиться приходили у иконы бедняки и приносили свою лепту в кружку, бывшую у иконы… Вдруг ударила гроза в эту кружку, разбила её и одиннадцать копеечных монет ударились в икону и вкропились в неё, вкропились венцом вокруг изображения Богоматери, заметь, не коснулись лика, но словно украсили образ, как украшают ризу драгоценными камнями. Знать, благочестивы были эти копеечные приношения и стали они равноценны дорогим каменьям! Ты посмотри, какая поэзия в этом и какой глубокий смысл! Это красиво, велико, прекрасно и вместе с тем чудесно, а, в сущности, всё как будто совсем обыкновенно: ударила молния – вот и всё тут!.. Знал я тоже одну вдову с дочерью. Жила она при муже в достатке, он служил, получал много, но на частной службе. Умер он. Остались они без средств. Дальше – хуже… и дошли они до того, что есть им было нечего. Голодали они так, что завешивали окно, чтобы не видеть мяса, которое продавалось напротив, в мясной лавке… Словом, были они в таком положении, что ложись да помирай. И что же? Стала на колена дочь пред образком, висевшим высоко в углу, и начала молиться. Долго молилась, горячо, о хлебе насущном молилась… Встала она. Показался ей образок запылённым очень. Она его сняла, вытерла и хотела опять повесить; только глядит, – гвоздь, на котором висел образок, обмотан бумажкой, и бумажка тоже запылилась. Сняла она бумажку, а это – двадцать пять рублей… Вот и суди тут. Конечно, кто-нибудь из раньше живших в этой комнате хотел спрятать эти деньги и придумал им место на гвозде за образом, потом не взял, может быть, умер… Всё это очень просто, но для бедной вдовы с её дочерью эти деньги словно с неба упали…
– Ну, хорошо, – сказала Маничка, очень внимательно слушавшая рассказ Козодавлева-Рощинина, – пусть будет так, как ты говоришь, но за что же всё-таки страдала эта вдова, за что голодала она?
Комик не смутился этим вопросом и ответил:
– За что голодала она или почему, мы не знаем. Так, видно, надо было, но только опять-таки, кто присмотрелся к жизни, скажет тебе, что зря ничего не бывает, что каждый человек в старости, если оглянется на прожитое, увидит, что были и у него случаи, когда он мог сделаться счастливым, но не сумел этого… И истинная правда, что сам человек кузнец своего счастья…
Маничка сидела, задумавшись, и, комкая платок в руках, глядела, уставившись пред собою, мимо сидевшего пред нею Козодавлева.
Тот замолчал и она молчала.
– Ну вот, – заговорила она, наконец, – я добросовестно сейчас постаралась припомнить всю нашу, то есть мою жизнь… И, право, в ней не было такого случая, о котором говоришь ты… Нет просвета в прошлом и нет надежды в будущем…
– Почём ты знаешь, Маня, – живо перебил ей Рощинин, – что ожидает тебя в будущем? До сих пор ты знала, не спорю, в жизни одно только горе, и не спорю также, что была виновата в этом… Судьба, значит, в долгу пред тобою… Ну, что ж, она должна заплатить свой долг и, поверь мне, заплатит…
Маня улыбнулась, и эта улыбка вышла у неё безнадёжною.
– Нет, дядя Андрей, – тихо проговорила она, – мне нечего ждать в будущем; единственно, на что я могла рассчитывать, – на удачу на сцене, если б у меня был талант; а я сама вижу, нет у меня таланта… какая я актриса!..
На это Козодавлев-Рощинин не мог ничего ответить. Он не мог лгать. Актриса она была плохая, и сегодняшний вечер окончательно доказал это. Она выступила сегодня в ответственной роли Дездемоны и играла совсем бездарно. Против этого ничего нельзя было сказать.







