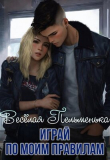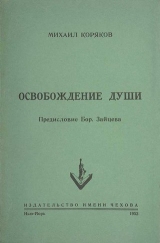
Текст книги "Освобождение души"
Автор книги: Михаил Коряков
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Шныркие, узко посаженные белые глазки его остановились на пожилом и тучном человеке в брезентовом дождевике и каракулевом картузе, стоявшем около машины.
– Вам, гражданин, до Уфы?
– Вы же знаете отлично, нет, не до Уфы. Еду в район Буя-Данилова. И продукты предназначаются не какой то там «крале», как вы изволили выразиться, а бригаде рабочих, отправленных от нашего треста на оборонительную стройку. Вот же, вот они, документы. Я уже показывал. И товарищ милиционер смотрел.
Над жестким воротником, брезентового дождевика торчали круглые оттопыренные уши, дергалась пухлая щека, меченая белым рубчиком давнего, жиром заплывшего шрама. Глаза косились на тарасовского сельского милиционера, который безучастно, с ухмылкой, посматривал, как грабили машину, остановленную на большой дороге.
– Документы! – ненавидящим белым взглядом посмотрел железнодорожник. – Видали мы твои документы! Ты сам их отпечатал. Тебе что… своя рука владыка! Директор треста! Печать-то до се у тебя в кармане?
Перекатились смешки, одобряющие возгласы. Дождевик устало махнул рукой и, шевеля толстыми губами, отошел в сторону, сел на обочину шоссе. Внимание толпы целиком сосредоточилось на богатыре-парне, который очищал платформу грузовика.
– Консервы! – весело, широко осклабился парень и потянул по платформе ящик, до верху насыпанный плоскими баночками. Машину нагружали второпях, кидали товар в навал, не упаковывали.
Несколько банок упало на асфальт. Поднялась свалка, крики. Бабам не терпелось разживиться. Но устроители заставы, мытищенские железнодорожники и рабочие подлипкинского артиллерийского завода, сгружали продукты, намереваясь делить их в организованном порядке.
– Хоть одной баночкой попользоваться! – смеялась бабенка, пряча под фартук консервную банку.
– Дележка начнется, нам ни фига не достанется. Деповские все заберут себе. Нам, бабы, надо свою заставу устанавливать. Поймали бы леща не хуже этого…
Юхнов, улыбавшийся всю дорогу, тут совсем развеселился. Мы стояли на травянистом холмике. Пилотка у Юхнова съехала на затылок, глянцем светился выпуклый лоб. Круглые медвежьи глазки маслянились, обтягивались веселыми лучистыми морщинками.
– Будет что-то в Москве сегодня! Мы в аккурат попали! – толкнул он меня под бок и зло-весело заговорил: – Остервился народ, Михалыч! Война эта кое-кому боком выйдет. Мы не сгорим, не думай… Народ, он и горит да не сгорает! А вот они сгорят! Понимаешь теперь, почему они по всем Женевам кричали: – Мы против войны! Мы за мир длительный и прочный! Чуяли, что в войне они не сумеют с народом справиться. Наутек пустились, с-с-сукины сыны!
Внезапно Юхнов предложил:
– Давай, Михалыч, заберем машину! Действуем…
Не дожидаясь согласия, он – крупный ростом, тяжелый на ходу – раздвинул тараторок-баб и врезался в массив толпы. Народ разглядывал его прожженную, испятнанную шинель, которая была неоспоримым доказательством, что он не наркоматский военный, а фронтовой. Военными наркоматчиками Москва кишела, их возненавидели заодно со всеми наркоматчиками. Как обрезанные, смолкли разговоры. В наступившей тишине Юхнов сказал:
– Мы приехали с фронта, из армии Рокоссовского. Из Москвы, с фабрики, мы должны везти противотанковые мины. Машину нам должны были дать вот здесь, в Болшеве, в инженерном училище. Но мы приехали, не нашли никого… пустые казармы. Машина нам необходима. Мы забираем эту.
Крики одобрения:
– Правильна-а!
– Пущай берет!
– А ну, посунься от машины… закрывай борта!
Юхнов хозяйски, с полным сознанием правоты дела, отворил дверцу кабинки.
Дождевик кинулся к нему:
– Товарищ, вы не имеете права. Продукты… ну, понимаю, толпа, стихия. При таком остром недостатке продовольствия возможны эксцессы. Однако, машина… она никак не относится к продовольствию. Машина трестовская, вот у шофера и путевка на нее.
Шофер, сидя на закрылке грузовика, курил огромную из газетной бумаги цыгарку. По его лихим улыбающимся глазам видно было, что сочувствует он толпе, а не хозяину.
– Не сепетите, гражданин, – холодно отрезал Юхнов. – Не хуже вашего понимаю, что машина трестовская. Да и продукты… тоже трестовские, разумеется. Вы примазались к трестовскому богатству, а теперь вас вежливо просят… отлепитесь!
Дождевик тряс студенистыми щеками:
– Это безобразие, товарищ! Кто примазался? К какому богатству? Вы думаете, что вы – военный, так вас помилуют за такие бесчинства? Когда то и я был военным… видите, на моем лице память от белой шашки… ордена имею…
– Начхать мне на твои ордена, вошь пузатая! – гаркнул Юхнов и подошел в упор к Дождевику. – Отъелся на народной шее, паразит проклятый! Придавить тебя, что-ли?..
Не вступись я, он хватанул бы директора кулаком-свинчаткой.
– Брось, Никола, – потянул я Юхнова, и он, увидев, что Детка с шофером заводят машину, отступился от Дождевика.
– Бывай здоров, товарищ орденоносец! – засмеялся в лицо ограбленному директору богатырь-парень, защелкивая борта теперь уже нашей машины.
Юхнов усаживался в кабинку, тяжело вминая пружины клеенчатого сидения. «В войне они не сумеют с народом справиться…» – крутолобый кержак вырывался на свободу. Ненависть Юхнова к приспешникам сталинского режима медвежьей силой вырывалась из нутра. Ненавидел он не головой, но всем телом, чревом, кишками. «Какая в нем твердость!» – подумал я, невольно любуясь решительностью повадки Юхнова. – «Добрячий командир из него на войне подучится… если только он воевать захочет».
Детка оказался заправским шофером. В училище он проходил нормальный курс, не ускоренный: курсантов обучали и управлению автомобилем. Прав он не имел, но в те дни их в Москве и не спрашивали. Машина и шоферские способности Детки нам крепко пригодились не только в памятный день 16-го октября, но и впоследствии на фронте.
Дождевик тяжело и хрипло вздохнул, когда мы все трое разместились в просторной кабине грузовика. Детка тронул рычаги. В серых – цвета усталой стали – глазах директора треста затеплилась простая и человеческая мольба:
– Товарищи, не оставаться же мне посреди дороги. Электричка не ходит. Доставьте хотя бы в Москву, до дому. Позвольте, я наверху в кузов сяду.
Не успел я ответить согласием, Юхнов хмыкнул:
– Нет, не позволим.
Детка тронул рычаги. К машине вдруг подбежала женщина. На руках у нее был сынишка лет трех-четырех в пушистой заячьей шапке. Девочка постарше, закутанная в белый полушалок, бежала и остановилась рядом с матерью.
– Товарищи бойцы! Не оставьте меня с детишками!..
Низенькая, но складная, веселая бабенка, не вынимая рук из-под фартука, где она прятала не одну банку консервов, нагнулась к испуганной бледной девочке:
– Светланка, ты тоже едешь? Папашка то где?
– Не знаю, – ответила девочка.
– Муж мой – писатель, – сказала женщина. – Поэт Борис Соснин. Может, слышали? Писательские семьи срочно эвакуируются в Татарию – в Чистополь, под Казань. Ночью мужа вызвали срочно в Москву. «Ну, если сегодня ехать, то я быстренько вернусь за вами…». А тут, видите – такое началось… Теперь звонит: – Бросай все, как есть, бери ребятишек, лови попутную машину и приезжай на Курский… Накидала я в чемодан, что под руки попало, побежала в поселковый совет – сказать, что уезжаем, чтобы за домом присматривали… мебель, все таки, какая ни на есть, остается, библиотека, В поселковом совете пусто. Кинулась в милицию – ни души! Все наши начальники ночью сбежали, один милиционер – вот этот, что здесь стоит – на всю Тарасовку остался. Двери настежь, шкафы открыты, бумаги на столах разбросаны. Все как с ума посходили сегодня!.. Не оставьте меня, товарищи! Подбросьте до Курского.
На тонкое красивое лицо жены поэта легла желтая с прозеленью усталость. Только крылатились, как у украинской дивчины, полудужья густых бровей.
– Это наши, тарасовские, – сказала бабенка, подходя к кабинке. – Хорошие люди, вся деревня подтвердит.
Богатырь-парень разостлал по кузову брезент, устроил сидение. Принял из рук женщины детишек и помог ей самой взобраться. Потом, спрыгнув на землю, кинул ей несколько банок консервов:
– На дорогу!
Дождевик – плачуще:
– А я то как-же? Позвоните, по крайней мере, в Москве, что я нахожусь в беспомощном состоянии. Пожалуйста, вот телефон. Буква «Д», Миусы. Номер…
– Позвоним, – сказал я.
– Прошу вас, – угодливо, через силу, улыбнулся Дождевик. – Я директор московского треста «Союзплодоовощь». Когда-нибудь, при случае, и я окажу вам услугу.
– Директор «Союзплодоовощи»? – Медные глазки Юхнова позолотели, замигали в них желтые искорки смеха.
– Ну да… конечно же… я – директор «Союзплодоовощи»! Вы обо мне слыхали! Вот видите… мы, вероятно, знакомы даже.
Надавленные каракулевым картузом, оттопыренные уши директора порозовели от радостного волнения. Нервной усмешкой сморщились губы Юхнова. Из глаз, иных, полезла мохнатая свирепость. В последнем – сдерживаемом – негодовании он прошипел шерстяным голосом:
– Слыхал… слыхал… проваливай отсюда!
Детка нажал на педаль. Пулеметно загрохотала тронувшаяся машина.
– Он тебе, что, знакомый? – спросил я.
– Жу-улик! – разразился Юхнов. – Директор «Союзплодоовощи»… кто из московских художников не слыхал о нем! Видал, шрамами гордится, орденами. А в душе за свою задницу дрожит… привык к насиженному месту! Ты думаешь, они… такие вот… когда революцию делали, о России заботились, о народе? Наплевать им на Россию, только бы до власти дорваться. Только бы володеть и княжить… Директор «Союзплодоовощи»! На нашем брате-художнике наживался! Понимаешь, в его подчинении, кроме всяческих овощных совхозов, консервных фабрик, так же зеленные лавки, фруктовые магазины… словом, все, что относится к плодоовощи. Лет пять назад объявили поход за культурную торговлю. Этот фрукт решил художественно оформить свои магазины. Нанял для начала одного художника, моего приятеля. Тот подсчитал, какая работа, сколько стоит, написал проект договора. На пять тысяч рублей. Директор прочитал и спрашивает: «А если семь поставить, не много будет?» Приятель смекнул: – Наше дело, отвечает, такое, что точной оценке не поддается. Комиссия будет принимать работу, согласится и на семь. Подписали на семь тысяч. Полторы – в карман директора. Приятель мой раздул кадило: в «Союзплодоовощи» магазинов много, работы хоть завались. Приятель ведет дело с этим мошенником, а работу дает нам. Прошло время, все магазины оформлены. Директор «Союзплодоовощи» вызывает приятеля: «Ты – художник, так придумай же еще что-нибудь в смысле оформления. У моей жены скоро день рождения, подарки, гости, большой расход… деньги нужны!» – Ка-акой жулик! Никуда он не в Буй-Данилов ехал – нагрузил машину да двинул в тыл, от войны подальше. А то ведь фронт… вот он, к Москве подходит!
Детка лихо вел машину по раскатанному глянцевитому асфальту. Задерганный мотор рычал. На шоссе – у Мытищ, у Северянина – кипели толпы. Как крысы с тонущего корабля, бежали из Москвы директора заводов, крупные советские чиновники, работники центрального аппарата, захватывая поезда и автомобили. Народ, не имеющий ни автомобилей, ни привилегий на проезд по железной дороге, перехватывал беглецов, избивал, устраивал им неожиданные остановки, станции «Березайка – вылезай-ка».
Промчавшись мимо сельскохозяйственной выставки и студенческого городка, наша машина выкатила на площадь Ржевского вокзала. Тут я невольно зажмурился: в глазах пестрило от плакатов. Бумажная метель кружила на Мещанской улице.
На перекрестках, в ожидании зеленого сигнала, мы с любопытством разглядывали плакаты. Бросалось в глаза, что почти все художники изощрялись на исторические темы. На одном плакате танкист, поднявшийся из башенного люка, смотрел вдаль, приставив козырьком ладонь, а за ним подымалась величавая тень древнерусского богатыря, который точно так же осматривал степные просторы. Другой художник изобразил скачущего красноармейца-кавалериста, на которого любовно смотрит старый донской казак. Третий нарисовал картинками эволюцию русского оружия: от оглобельки Васьки Буслаева до современного автомата. Под рисунками – стишки:
Били мы врага копьем,
Били мы врага ружьем,
И теперь стальным оружием
Бьем врага, где обнаружим.
Теперь, когда немцы подошли к стенам Москвы, эти стишки звучали, как тонкая и ядовитая насмешка.
– А-а! вот это хорошо! – показал Юхнов на большой и острый, выразительный плакат, на котором стояла, вскинув руку, простоволосая седая женщина; надпись:
«Родина-мать зовет!».
– Не глядя на подпись, узнаю: Ираклий Тоидзе, его работа. Помнишь, какие он дал иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре».
По тротуару, близ нашей машины, прошли двое молодых военных. На ходу они тоже разглядывали плакаты. Послышалось, как один усмехнулся:
– Не знаешь, не то она тебе мать, не то – мачеха!
И пошли дальше, смеясь…
Бенгальские огни, пускаемые пропагандой, не отогревали сердец, замороженных от рождения. Прошлое не приходило на помощь настоящему. Мосты между ними были взорваны, сожжены. Долгие десятилетия большевики подрывали русскую историю, основы народной жизни. Если считать от «Великого Октября», и то между 1917 и 1941 гг. стоял 24-летний молодой человек, давно достигший совершеннолетия. Это был Иванушка, не помнящий родства. Родина ему была не мать, не мачеха – пустое место. Машина пропаганды работала без остановки, выпуская плакаты, воззвания, листовки, лозунги, афиши, обращения, призывы. Бумажным мусором, как помойку, заваливали пустоту души.
Нам не составляло труда подвезти жену Соснина: от Первой Мещанской рукой подать до Курского вокзала.
Клубы пара вырывались из широко распахнутых дверей Курской станции метрополитена. В молочно-белом пару толпа пассажиров выкатывалась эскалаторами прямо на асфальт и растекалась по привокзальной площади. «Букашки» – трамваи и троллейбусы, ходившие под буквой «Б» по Садовому кольцу – подвозили к приземистому зеленому вокзалу беженцев. Широкие ступени вокзала были завалены чемоданами, плетеными корзинами, узлами. Женщины, старухи, дети сидели кучками вдоль деревянного забора, тянувшегося от вокзала к станции метро. На щелеватом похилившемся заборе, прикрывавшем железнодорожные службы, шуршали пестрые лоскуты бумаги с присохшим на них клейстером, – обрывки все тех же плакатов, афишек, «Окон ТАСС».
Шагая через чемоданы, обходя нагромождения домашней рухляди, отправился я с Людмилой Сосниной на поиски ее мужа. В этот день среди беженцев было много московских писателей, В купоросно-синем крылатом плаще сидела, распустив черные волосы, усталая от страстей и любовей, худенькая и слабенькая поэтесса; муж ее, композитор, недавно погиб на фронте. Пробежал с чемоданчиком толстый критик. На рукаве у него была красная повязка: «Начальник эшелона».
– Кирпотин! Кирпотин! – крикнула Соснина. Он не отозвался. Кинув мне на руки девочку – в придачу к чемодану – она бросилась вслед за ним внутрь вокзала.
В толпе, пенившейся шляпами, кепками, зимними мохнатыми ушанками, беретами, шляпками женщин, ныряла фуражка военного коменданта, пробиравшегося к выходу на перрон. На него наседала молодая женщина в меховой шубке, перехваченной красной повязкой по рукаву:
– Товарищ, я буду вынуждена жаловаться председателю Моссовета, Вы же знаете, имеются указания – детей отправлять в первую очередь.
Начальница детского эшелона хваталась за комендантскую шинель, будто опасаясь, что его оторвет, закрутит и поглотит кипень вокзальной толкучки. Между тем, с другого бока на него напирал Кирпотин, прижимавший крохотный чемоданчик к груди, как ребенка.
– Товарищ, вы получили записку от замнаркома? Писателей приказано погрузить немедленно! Или приказ замнаркома вам не приказ?
Упоминание «замнаркома» не подействовало на коменданта. Кирпотин переменил тон. Конфиденциально – так, как один плут поверяет другому – он проворковал с улыбкой:
– Товарищ, вы думаете, что я не знаю? Я все знаю… у вас с ночи был заготовлен состав для писателей. Куда он делся?
Кирпотин был мастер на всякие плутни. Когда то он заворачивал делами в РАПП'е (Российской ассоциации пролетарских писателей) в компании с Л. Авербахом, В. Киршоном, расстрелянными за «вредительство в области идеологии и культуры». Но, ловкий и скользкий, он вывернулся, стал заворачивать делами и в новом Союзе писателей. Когда-то он был главарем того направления в критике, которое ныне отвергалось, как вульгарно-материалистическое. Он быстро перестроился: написал книгу «Наследие Пушкина и коммунизм», заостренную против вульгарного материализма. На вокзале 16-го октября он пускал в ход все плутовские подходы и выверты. Но и это не действовало на коменданта. Выведенный из терпения, комендант побагровел, остановился и, точно раскалывая полено, махнул руками:
– Нет и нет! Ни паровозов, ни вагонов… жалуйтесь хоть самому наркому!
Станционный сторож открыл широкую дверь на перрон. В раствор было видно, как из правительственного салона, окна которого были затянуты кремовыми шторами, выходили известные всей Москве сановники – цекисты в зеленых шубах и с каракулевыми воротниками, дипломаты в голубых шинелях с широкими серебряными погонами.
– Вот видите… – пробормотал комендант и быстро пошел навстречу.
Кирпотин тоже нырнул на перрон и, пожимая руку одному из дипломатов, присоединился к шествию.
Под сводами большой многооконной залы ожидания вдруг воцарилась тишина. Из черной раззявленной глотки радио-рупора посыпались стеклянно-звонкие удары клавишей – позывные московского радиовещания. Начальными тактами песни «Широка страна моя родная» предварялись важные правительственные сообщения.
– Товарищ Пронин будут выступать, – сказал старик-станционный сторож. – Два раза уже объявляли. – Задрав бородку, он заглядывал в пасть высоко подвешенного громкоговорителя.
В рупоре механическим грамофонным голосом заговорило:
– …граждане, через четверть часа, в девять часов пятьдесят минут, перед микрофоном выступит председатель Московского совета товарищ Пронин.
Диктор смолк. Короткое мгновение держалась тишина. Люди стояли, подняв лица к высоким сводам, будто там шел по канату, балансировал над пропастью, бледный отчаявшийся циркач, и толпа чувствовала, что он вот-вот сорвется.
Тишина лопнула:
– Опять через четверть часа!
– Другой раз отлаживают… до кех же пор?
– Тебе-то што? Не до тебя он будет говорить, а до народу. Ты за мальченкой бы лучше смотрела. Обмочился, не видишь!
– А я-то не народ, что-ли? Старый ты чорт! Ты сам, поди, под себя мочишься, а тоже попе-ерся в икувацию!
– Вот выступит Пронин и скажет: – Товарищи, мы оставляем Москву… – Но знаешь, мне кажется есть большая правда… помнишь, у Максимилиана Волошина: «Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба».
– Интеллигентщина… Мистицизм… Э! Генька Фиш провожает свою черноглазую. Недурна она! Как ее… Таня Смолянская? И волосы – смоль! Э-э, как он пыжится рядом с ней… Фиш – афишируется!
– Нужда меня заставила, судобушка, экуироваться. Кабы не погнали, стал бы я по вокзалам хлюстаться? На своей печке подох бы, с места не тронулся. А пришли красные армейцы… всю деревню, хошь – не хошь, иди! Дошли до Москвы, сидим третью неделю. Харч, какой был, кончился, а без харчу – погибать!
– Так и так одна дорога! Слышишь, что говорят… сдают Москву.
Тут мы столкнулись с Сосниным. Кудрявый, взлохмаченный, он подбежал к жене, беспокойно расширяя круглые, воспаленные глаза под толстыми стеклами.
– Милочка, слышала… немцы в Можайске!
– Боря, вот ты… пропал и пропал, бросил одну с ребятишками, – потерянно заголосила Людмила. – Да… – спохватилась она. – Вы не знакомы?
Не будучи знаком лично, я давно любил Соснина, как поэта. В особенности, его поэму, в которой он воссоздал Москву времен царя Грозного, изобразил, точно маслом по холсту, фигуры народных зодчих – строителей собора Василия Блаженного.
– Господи, у меня сердце зашлось, – продолжала Людмила. – Вот объявили по радио – через двадцать минут выступит Пронин. Ну, как объявит – начинается бой в Москве? Москву ведь ни за что не пожалеют! Баррикады, Боренька, ты видел… баррикады на улицах строят! Тут всех нас перебьют, на вокзале-то… На вокзале всегда – главный бой! Уж сидели бы мы лучше в Тарасовке…
Соснин нагнулся к девочке, поправил полушалок, затянул концы потуже. И весело оскалился, тряхнул кудрями:
– Кирпотин смылся! Прибежал, ухватил жену и на перрон, к какому-то эшелону. Второпях, пока хватал вещи, выпустил из рук маленький чемоданчик… с драгоценностями. Поминай, как звали! Под ноги, туда-сюда, нет чемоданчика, смылили!
– Кто же теперь нашим начальником? При писательском эшелоне?
– А никто! У военного коменданта не протолкаться. Обещает после обеда дать вагоны. Только, я думаю, Милочка, ты права – не поедем! Давай, подымайся, пойдем искать попутную машину… да домой, в Тарасовку!
– Где вам теперь найти попутную машину! – сказал я. – Мы сегодня по случаю обзавелись грузовичком… объездим по своим делам, управимся и наш парнишка-шофер отомчит вас опять в Тарасовку. Пошли к нашей машине.
На вокзальной площади кучился народ. Все ждали, что сейчас скажет председатель Моссовета. Нетерпеливые кидали взгляды на башенные часы. Большие, заостренные, как мечи, стрелки подходили к десяти. В назначенную минуту в рупоре захрипело, забулькало. Из шума, треска выделился равнодушный голос диктора:
– Внимание, внимание.
Ветровым шелестом пронеслось:
– Пронин! Пронин!
Но то был не Пронин. Диктор объявил:
– Передаем постановление Московского совета о подготовке к отопительному сезону.
Растерянность отразилась на лицах слушателей. Вместо трижды объявленного и дважды отложенного выступления председателя Моссовета начали читать какое-то давнее постановление, наугад выхваченное из первой подвернувшейся под руку папки. Некоторое время народ слушал глухое монотонное чтение. В тяжелой тишине выметнулись злые крики:
– Ищи ветра в поле!
– Куда там! Его в Ташкенте искать надо.
– Ихнему брату самолеты готовые держат в Тушине.
– Вот те и правители… Бросили народ – делай, как знаешь.
– Народ, гражданка, свое знает… Вы не слыхали, что на заводах деется? Я только что с Изолита, от Преображенской заставы. Ого-го!
На заводах высоко взметнулись волны народного возмущения. Поутру 16-го октября по заводам было объявлено, чтобы рабочие шли получать заработную плату вперед за два месяца. Никто еще не знал, что немцы в Можайске, но по объявлению почувствовали: плохи дела с Москвой. Каждому стало понятно: правительство не уверено, что удержат столицу. В создавшейся обстановке нечего было и думать об организованной эвакуации населения. Между тем, потеря квалифицированных заводских кадров была недопустима. Двухмесячный аванс решено было выдать затем, чтобы рабочие не оставались в Москве, под немца, а, имея на руках хоть какие-то деньги, могли выбираться своими средствами, кто как может. В расчет принималось, конечно, и то, что такая мера подогреет симпатии рабочего люда к правительству: аванс бросали, как подкуп, взятку.
Когда рабочие пришли в конторы получать зарплату, они нашли там только плачущих машинисток, картотетчиц, делопроизводителей. Директора, бухгалтеры, кассиры бежали. В партийных и профсоюзных комитетах – никого: брошены столы, шкафы, бумаги. При каждом заводе имелся ОРС – отдел рабочего снабжения. Верхушка, захватывая грузовики, опустошала орсовские продовольственные склады. Автомашины катили по Ярославскому шоссе, шоссе Энтузиастов (бывшей Владимирке), пробирались слободскими уличками на восточные окраины города. На заставах, установленных рабочими, потрошили чемоданы, находили пачки денег, перевязанные шпагатами, в банковской упаковке. Повсюду происходили сцены, подобные той, какую мы видели на Ярославском шоссе, у Тарасовки.
Волнение перекинулось от заводов на всю столицу. В громадном и сложном аппарате обломились зубья ведущей шестерни: машина застопорила. На тротуарах было черно – шевелились люди. Погрузив Сосниных, мы тронулись от вокзала по Садовой. Неподалеку, в сереньком свете дня возвышались стеклянные стены наркоматских зданий – земледелия и путей сообщения. Наркоматы по утрам всасывали тьму-тьмущую служащих, теперь там не работали, лепились в окна, кишели в вестибюлях, выбегали на улицу. Наэлектризованная толпа жадно ловила слухи. Публику, однако, сдерживало то, что ждали Пронина: выступит и объяснит, в чем дело, чего ждать, к чему приготовиться. В эту минуту народу надо было в кого-то верить, кому-то довериться: верили в Пронина, голову столицы. Но оказалось, что Пронина тоже… ищи ветра в поле! Накопившийся заряд разрядился. Трахнула молния.
На Садовой, рядом с Курской станцией метрополитэна, тускло блестели витрины большого «Продмага». За стеклами громоздились деревянные раскрашенные муляжи колбас, окороков, горки пустых конфетных коробок. Внутри шла небойкая торговля мелкой рыбешкой – снетками, яичным порошком, который выдавали по карточкам на «мясные» талоны. Наискось пересекая широкую улицу, к магазину бежали четверо молодых парней. Меловые лица, горящие глаза… – так бегут в штыковую атаку. Не добегая до тротуара, один развернулся и надорванным голосом крикнул:
– Громи!
Булыжник полетел в витрину. Посыпалось стекло. Повалились окорока и колбасы. Красный деревянный шар, изображавший головку сыра, упал на тротуар и, игрушечный, покатился по асфальту. Толпа дрогнула, обожженная внезапной и злой решимостью.
– А-а-а!
Точно сговорившись, сотня людей – бледных, искривленных криком – ворвалась в магазин. Продавщицы побежали вдоль прилавков, стиснулись в узкой двери. Широкозадая директорша, сбрасывая на ходу белый халат, нырнула по черному ходу. В безрассудной слепой ненависти народ колотил зеркальные простенки, опрокидывал бочки с протухшими снетками, хлюпал по рассолу, растекавшемуся лужей по плиткам клетчатого пола.
– А-а-а-а-а-а-а!
– А-а-а-а-а-а-а!
Возрастающим снежным комом катился крик по широкой улице, огибавшей кольцом Москву. Волны, как в наводнение, подымались, пенились, разливались перекатами по городу. На Тверской, Мясницкой, Покровке, Маросейке… хряпали удары, взлетали булыжники, кирпичи. Вспыхивали пожары, несло клубы черного дыма.
Для Юхнова все это было точно праздник. Еще в Тарасовке он развеселился, как подвыпивший. Дурачился всю дорогу. Увидит на шоссе толпу, которая грабит машину, – высунется из кабинки, помашет пилоткой. В толпе заметит скучного ограбленного трестовика – приставит к носу расшеперенную пятерню и вывалит язык, подразнится. Обнимая меня, орал в ухо:
– Михалыч, сколько лет мы с тобой знакомы? Десять, если не больше? Не позабыл еще нашу олонецкую сторонку? Ты, чорт, сибиряк, пень таежный, а мне-то она родная. Э-эх…
…Расплескалось в изумрудном плаче
Озеро олонецкое Лаче…
– Ты, Михалыч, не думай, я тоже знаю из стишков. На эти олонецкие озера я, может, двести сажен холста исписал…
Детка хрустел педалями. Отвалившись к дверце и ворочая круглыми, как картечины, глазами, Юхнов хрипло голосил песню. Ветер рвал слова песни, крутил в душе Юхнова пьяную, радостную метелицу.
По асфальтовому шоссе перебегали люди. Кое-кто тащил выхваченные пригоршнями из бочки селедки, – рассол сочился меж пальцами. Один, более удачливый, шел с непокрытой головой и оттопыренными карманами: в карманах белелись пачки масла, торчала коробка какао, под мышкой – бутылка вина, а кепка нагружена до верху рисом. Обнажая в улыбке зубы, он ответил на вопрос Юхнова:
– Из Селекта!
Детка повернул от Садовой налево – к Сретенке. Магазин «Селект» все годы, даже при свободной торговле, когда карточки были отменены, оставался на положении закрытого распределителя. По соседству с Лубянкой (НКВД) и Кузнецким мостом (Наркоминделом), магазин обслуживал избранную публику – наркомвнудельцев, дипломатов, коминтерновцев, лауреатов сталинской премии. Теперь народу выпала удача познакомиться с кладовыми «Селекта».
По Лубянской площади третий день не ходили трамваи. Улицы перегораживались баррикадами. Бойцы нестроевого рабочего батальона кололи пешнями асфальт и в открывшиеся песчаные дыры врывали толстые бревна – сваи. Бревенчатые рамы закладывали туго набитыми песком кулями. Бойцы-строители были одеты пестро – в шинелях, бушлатах, деревенских домотканных армяках. На одном торчала несуразно высокая папаха из рыжей телячьей шкуры. Он показывал на темные фигурки, бежавшие от Охотного ряда на взгорье Лубянской площади:
– Ванька, казаки скачут! Видал?
В сыром воздухе мокро хлопнул выстрел. Плескались крики:
– Ы-ы-ы-ы! А-а-а-а!
Возле другой баррикады мужики стояли, сворачивали цыгарки и хохотали. Мальчишка в форме «ремесленника», обминая песок, топтался на желтом сыпучем навале и оделял бойцов табаком из продолговатой фунтовой пачки.
– Одну захватил, ей бо, одну! – божился он. – На Петровке в табачном… разбили подчистую. Там сигары были, этто да-а! Мне не досталось. Одна пачка! Кабы другую имел, отдал бы вам с полным удовольствием.
– Войско, говоришь, на Петровке? – спросил мужик.
– Истребительный батальон, – утвердительно кивнул мальчишка. – И, вытерев рукавом пухлые губы, вымазанные липкой патокой, добавил: – Я пошел, а то не позволяют в кучи собираться. Паникеров стреляют на месте.
Донесся цокот копыт, клокочущий конский гран, раскатистые и гневные окрики:
– Па-ачему толпа? Что здесь происходит?
Отряд автоматчиков. Наискось срезанные петлички показывали, что это бойцы особого – истребительного – батальона. Всадник в фуражке с голубым верхом и красным околышем, скакавший впереди, натянул поводья, приостановился. Привстав на стремена, из-за вскинутой конской морды, он посмотрел вниз по Кузнецкому мосту. Круто повернул и поскакал по Стретенке.
Нехорошее чувство подсказывало, что дикому и слепому разгулу, вызванному, конечно, внутренними причинами, предательством «руководящей» верхушки, помогают так же действовавшие в толпе немецкие агенты. На перекрестке, высунувшись из кабинки, я перекинулся словом с Сосниным – он стоял в кузове, темный лицом, со сдвинутыми бровями. Но после Лубянки, на Никольской улице, он вдруг захохотал и кулаками забарабанил по кабине. Крылатые брови Людмилы – потихоньку плакавшей – переломились и запрыгали от смеха. На балконе третьего этажа стояла полная растрепанная дама. У ее ног лежали ворохом книги, выметенные из комнаты. Она нагибалась, брала книгу и с силой раздирала. Клочки бумаги летели на прохожих, которые останавливались и, смеясь, задирали головы. Хлопали, падая, пустые переплеты. На красном коленкоре переплетов был оттиснут черным крутолобый, с остренькой бородкой, силуэт Ленина…
Детка правил машиной не очень уверенно, однако, отчаянно. Не сбавляя скорости на поворотах, он делал бешеные виражи. На одном углу мы насилу ускользнули от встречного грузовика, – Детка завернул руль до отказа. На другом перекрестке чуть не изувечили старуху, – Детка притормозил так, что покрышки завизжали на изрытвленном асфальте.