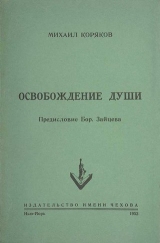
Текст книги "Освобождение души"
Автор книги: Михаил Коряков
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Вот холера, другой раз от этих… от заградительных мне попадает! – горестно махнул рукой боец и скинул марлю под ноги в канаву. – Первый… в июле, ишо на Смоленской дороге. Тогда не ранили, а страху натерпелся хуже вчерашнего. При нем было, при Рокоссовским…
– Видел его? Какой он? – крикнул Черный, сидя на корточках у костра.
– Высокий, представительный… Тогда он ишо полковником был. Как сейчас помню… Выбил нас немец из районного центра. Отошли километра три-четыре, тут линия заготовлена, окопов бабы понарыли. Все в порядке, пьяных нет – на заранее подготовленные позиции. Просидели ночь – что за чорт, тихо! В чем дело? Не видим немца – не идет. Тревожно стало, сосет внутре. Кто то как заорет: «Окружают, робяты!» Посмотрел я туды-сюды, мотоциклетчиков, танков не слышно, а народ, скажи, как ошалелый, выскакивает из окопов, бежит по полю. «Лешка, держись меня!» – кричит мне корешок, Колька Лукьянов, города Щекина, Тульской области. Побежали. Дивизия целиком снялась. Может, взапрямь окружали, может и шли стороной какие-нибудь там ихние драконы, только я ничего не видел. Драпает Колька, шинель на бегу раскрылатилась, мне за ним поспеть еле-еле. Хвать… передо мной морда конская, вся в пене. Наехал на меня, стоптал было, пеной измазал. Поднял я голову… развернулась по луговине кавалерия, встречь нашей пехоте-матушке. Лупят плетками, заворачивают назад в окопы. А в такой панике с народом разве совладать? Колька Лукьянов, ему кричат: «Стой, стой, не бегай»… кричи-не кричи, перепужался насмерть, бежит, запыхался. Нагнал его какой-то на коне, лицо окровянил, за малым глаз не высек. Я, правда, сразу остановился. Конь высокий, белоногий, а на коне… кавалерийские петлички синие, подковы золотые с саблями на перекрест, четыре шпалы… полковник. «Куды бежишь?» – кричит. – Отступают, говорю, из окружения отступают. – Ах, говорит, из окружения… да как хлестанет меня плеткой! Да в другой раз, да третий раз! И что ты скажешь, остановил дивизию! Недели две прошло: попалась мне фронтовая газета «Красноармейская правда», а там портрет: генерал-майор Рокоссовский. Он, он самый! По портрету признал. Он и лупил меня – вот лупил! Не поверишь, шинель под плеткой клочьями летела!
Про Рокоссовского в те дни говорили много. Бойцов на фронте поражало его молниеносное возвышение: в июле он был полковником, а в октябре генерал-лейтенантом, командующим крупнейшей на Западном фронте 16-й армии, теперь еще усиленной курсантскими частями. Мирные жители обожали его за то, что его войска находились на Волоколамском шоссе, самом опасном направлении. В 1937 году полковник Рокоссовский был арестован, просидел несколько лет в тюрьме без суда – без следствия. Выпустили из тюрьмы, когда уже началась война с немцами. Под Смоленском он сразу прославился. Конечно, знали, что где то в главной квартире Западного фронта сидит над оперативными картами Жуков, но фронтовым генералом, любимцем народа, многозначительным символом был Рокоссовский.
– Ты, выходит, спец по драпу? – засмеялся Черный, сгребая ложкой грязную пену в закипавшем котелке. – Вчера опять на заградительный нарвался?
– Ну да… Лейтенантишко ихний, дурак дураком, за мной погнался, да и трахнул сзади одиночным выстрелом из автомата. Кровь увидал на мне, должно, сам перепужался до смерти, отступился, А я… перевязался в санбате и дальше драпаю.
– Не уйдешь далеко, – сказал Борода. – Теперь, братец ты мой, новый приказ: не одним отрядам из пограничников, но и всем строевым частям нести заградительную службу. Каждый полк обязан выставлять дозоры, задерживать всех… шатающихся.
– Приказано: не стесняться, применять оружие полной мерой.
– Всех не удержут, хоть какую меру применяй, – возразил раненый.
– Народ разве удержут? – поддержал боец, сидевший рядом.
Он только что подошел к мосту и тоже присел перекусить: снял с плеча вместительную глубокую противогазную сумку, вытащил из нее кусок вареного мяса, несколько соленых огурцов, завернутых в газету. Вместе с ним шел старик, он разматывал на опорках веревки и раскладывал пятнистые портянки на траве. Было еще трое-четверо новых.
– Народ удержать нельзя, – повторил боец. – Он не сюда, так туда уйдет… на ту сторюну! Ныриков-то, их вона сколько развелось. Под волну ныряют!
– Под какую волну? – удивился Борода.
– Под такую. Меня тоже один подговаривал: давай, говорит, нырнем. Немец наступает, видишь, волнами. Не сегодня-завтра, говорит, закрутит нас на гребешках, ныряй со мною. Как наши будут отступать, уйти и спрятаться в подвале, в погребе. Волна прокатится, затишье – вот и вылезай тогда.
– Да ведь тогда там будут немцы! – воскликнул Борода.
– Што-што немцы! Нырики с этим не считаются. Может, завтра и тут вот будут немцы, а послезавтра и в самой Москве.
Жаркое дыхание войны плавило ледяную корку, которая сковывала подмороженную страну. Морозна была зима – тем сильнее, неудержимее с гор потоки. Талые воды несло во все стороны. Хмель неожиданной свободы пьянил людей: брели куда попало, говорили, что ни взбредет.
– Тут и думать нечего… займет Москву, Как дважды-два-четыре, – согласился раненый.
– Сила ево. Так и садит, так и садит. Пол-Расеи отдали, боле и стоять не за чем… одна Москва.
– На днях в нашей роте было, – сказал раненый. – Приходит батальонный комиссар, начинается политбеседа. Мы, объявляет, сегодня поговорим насчет славы… этого… русского штыка. Немец рукопашной, как огня, боится – не принимает, бежит. Отседова вывод – бить немца штыком. Бойцы после беседы, понятное дело, смеются: как я его ударю, если он меня с самолета бьет, не достану же я его штыком? Не-ет! Какие беседы ни проводи, а штыком технику не переборешь. Это уж ясно, как дважды-два-четыре.
– Постой-ка – проговорил старик и, ступая белыми сопревшими ногами по жесткой траве, подошел к раненому. – Дважды-два-четыре, это так, согласен. Только ответь мне, как жить таперича? Как она, твоя таблица умножения, показывает насчет дальнеющей жизни?
– А никак не показывает, – Посмотрел раненый на старика и улыбнулся простой ребяческой улыбкой. – Камень на шею да вон – под мост!
– Да ить мил человек! Ты под мост, я под мост… нас двое, а весь народ под мост не бросится.
– Остается одно… под немца!
– Дурак! – выплюнул старик и заговорил, хватаясь за клочковатую седую бороду и злобясь неизвестно на кого. – Дожили, мать ее так, до хорошей жизни… немцу готовы под ноги кинуться. Жить стало лучше, жить стало веселее – вот оно, веселися! Отцы наши и деды век свой Расею строили, а мы ее в двадцать пять лет просрали… Э-эх, серуны! Ты… рази ты понимаешь, что говоришь? Под немца! Да это хуже, сто раз хуже, чем под мост, вот в эту реку кинуться. Ить он придет… немец-то… тебя, как глухаря, придушит.
– А я уж был у него… у немца.
Все разом стихли, разговор обрезался.
На краю дороги сидел, опустив босые ноги в канаву, – здоровенный – грудастый, губастый – парень. Около него стояли ненадеванные, связанные шнурками, армейские ботинки с толстыми подошвами, лежал каравай хлеба. Парень отрывал кусок за куском и медленно жевал.
– Был, говорю, у него, – сказал парень набитым ртом. – Говорили, что он расстреливает… и вот ты, отец, говоришь, придушит… одна брехня! Он только пашпорт требует – это верно.
– Паспорт? Что за паспорт? – подамся в его сторону Борода.
Парень улыбнулся толстыми губами, занимавшими половину лица.
– Ну… пырку. Предъявите, говорит, естественный мужской документ, мы должны выяснить вашу нацию.
Раздался взрыв хохота.
– Вчерась… – ликуя, закричал Черный, – вчерась он листовки кидал: «Бей жида-политрука!»
– Ты что-же… предъявлял? – спросил Борода.
– Не-е… У меня физика такая… заместо пашпорта. Сразу видать, не из наших.
– Вышел-то от него как? Как перешел на эту сторону?
– А он не держит… Ежели пашпорт в порядке – иди, пожалуйста. Он всех пущает… Сегодня у нас что, вторник? Так я был у него в воскресенье вечером. Сидим этак вечером в избушке на краю деревни. Две пачки концентрату хозяйке дали, она нам кашу варит. На шестке под таганом щепа горит, а он вот и он… Подкатил к окошку на броневой машине, транспортере этом, и кричит: – Кто тут есть, выходи, покажи дорогу, как на Шаховское ехать. По-русски крикнул, да и с чистым выговором, ну, форму-то сразу видать, немецкая. Хозяйка перепугалась, кашу мешала, да-к затряслась и горшок опрокинула. Кореши мои к простенками прижались – думают, не заметит немец. А он, конешное дело, заметил и говорит: – А-а, говорит, тут солдаты русские, это, говорит, очень даже хорошо, они нас и выведут на Шаховскую дорогу. Делать нечего, выходим, сами не свои. В двух шагах от избы – баня, крапивой, лопухами заросла, тут, думаю, нам и лежать, в крапиве. Нет, приближается этак и сигаретки протягивает: – Курите? – говорит. – Угощайтесь!
– Сигаретки! – восхитился старик и злыми, остановившимися глазами посмотрел на парня.
– Взял я одну… не отравленная? – Бери, говорит, другую, чего сомневаешься. У нас этого добра много. – Ну, закурили. Спросили дорогу на Шаховское, поехали. – Иди, говорит, домой – война конченная. Иди и всем рассказывай – пусть не боятся немцев. Немцы зла не делают.
– Да он… шпие-ен! – схватился старик и кинулся к губатому парню с такой быстротой, что бороду раздуло ветром.
Вскочили сидевшие у костра.
– Вот тварь… – со злостью крикнул Борода и, подойдя к напуганному, опешившему парню, крепко сдавил ему плечо своей сухой, точно железной, клешнею. – Дай-ка я тебя пощупаю, кто ты такой есть?
– …Ляти-ит! – завизжал парень и упал брюхом в канаву.
По дороге бежали, наклоняясь вперед, прохожие бойцы, прыгали через канаву, падали куда попало. Из-за лохматых, разметанных ветром крыш деревни вылетели, и, стуча пулеметами, пронеслись вдоль реки два легких серебристо-белых «мессера». Когда очнулись, подняли головы, губатого парня след простыл.
– Давайте, братки, от моста сматываться подальше, – сказал Борода. – Сейчас бомбить прилетят.
Пыльную бородку задрав к небу, он осматривал холодные и яркие просторы сощуренными глазами. В небе, после того, как пролетели «мессершмиты», все быстро успокоилось. Над полянами несло ветром, в котором мешались запахи грибов, прелой листвы, речной сырости, разрытой на берегах Ламы глины. Отдаваясь воздушным потокам, плыл вверху коршун, падая и взвиваясь снова.
– Ты-б хоть щель себе вырыл, – покачал головой Борода, обращаясь ко мне и уходя. – Видишь, «мессеры» пролетели, разведчики. Окапывайся, если хочешь жить.
Короткий черенок лопатки, оглаженный моими руками за два месяца, проведенных в училище, легко и привычно лежал в руке. Отточенная кромка подрезала белые корешки трав, звякала о камешки. Дерн – на одну сторону, бруствером, а серый суглинок – на другую. Не прошло четверти часа, укрытие было готово. Стоя по грудь в прохладной и узкой щели, я посмотрел на синеву неба: она была девственно-недоступна.
– Ви-и-у-у-ви-и-иу-у… – послышалось прерывистое гудение самолетов.
Бомбардировщики летели цепочкой, чуть отклоняясь один от другого налево. Их было шесть. В хвосте, охраняя их, кружили, делали ножницы, менялись местами, две пары легких продолговатых истребителей.
– Пах… пах… пах… – застукотали зенитки, стоявшие у яропольского моста, на огородах, средь неубранной пожелтевшей капусты.
В небе повисли белые хлопчатые комочки дыма. Командир батареи наловчился предугадывать ход неприятельских самолетов. Белые облачка таяли, раздуваемые ветром, но вспыхивали другие… левее, еще левее. Вожак стаи накренился и, блеснув в луче солнца крылом, повернул налево. Он оказался в хвосте у последнего, замыкающего; из цепочки образовалось кольцо.
Кружащийся серебристый ожерелок висел высоко – снаряды не доставали. Но, переламывая линию полета, ведущий клюнул носом и круто, почти отвесно начал падать в разрывы, к мосту. Из-под брюха скользнула и резко сверкнула бомба. Лопнул, глухо прокатился по Ламе взрыв. Тугой столб воды вымахнул и обломился в вышине, рассыпался брызгами. Над мостом заискрилась цветистая радуга.
Сквозь грохот, треск ветер донес крики:
– А-а-ай! – А-в-а-а-ай!
Похоже, кричал наш лейтенант: «давай, давай», прогоняя через мост оторопевших обозников. Кони становились на дыбы, путались в постромках – обоз застрял. Между тем, кидался с высоты на переправу другой самолет, и опять бомба, упавшая мимо, в воду, окатила волной повозки и мокрых, кидающихся по сторонам лошадей.
У спуска на мост образовался затор. В скопище телег, пароконных и одноконных повозок с треском врезалась гаубичная батарея. Сзади подперли тяжелые пятитонные «зисы», на которых громоздились огромные корыта понтонов.
Немецкие самолеты шли общим кругом. Но каждый, пикируя, атаковал свою цель. Бомбы одних ложились по сторонам моста, другие взрывали огороды, глуша зенитную батарею, третьи… вот, распластав белые крылья, меченые черной свастикой и повязанные на концах коричневыми полосками, самолет устремился к обозам, орудиям, автоколоннам, сгрудившимся на крутом каменистом взвозе.
Из кабинки грузовика выскочил шофер и растопырил на закрылке треногу ручного пулемета. На телеге, стоявшей рядом, одним колесом в придорожной канаве, сидела молодая баба в мужицком полушубке. Не в небо, откуда грозила смерть, а почему-то на шофера смотрела она – неподвижная, отупелая. На лице ее, омытом бледностью, стояли беспамятные глаза.
Та-та-та-та-та-та-та-а! – сыпанул пулемет и тотчас-же за дорогой грузно ахнула бомба.
Кобыленка, запряженная в телегу, присела на задние ноги. В бабе вызрело что-то и лопнуло: как гроздья калины, загорелись скулы, карие позолоченные солнцем глаза ее перекатились по мосту, по всей осыпаемой комьями земли массе людей, коней, машин, выметнулись на пустое двухверстное поле, отделявшее яропольский мост от юркинского. Баба заметила, что от шоссе на поле поворачивают только что подошедшие пушки – большой состав. Она вскочила на телеге во весь рост и крутанула возжами.
– Но-о-о, ты-ы-ы!
Кобыла, откуда и сила взялась, вырвала телегу из канавы, понесла берегом, вдоль минной полосы, огороженной тычками.
Все хлынуло за бабой в поле – телеги, пушки. Ездовые щелкали кнутами, лошади рвали постромки. Хряпались, ломались дышла и оглобли. Зло взвизгивали кони, В сплошном стоне колес прорывались крики:
– То-ро-пи-сь!
– Эй ты, тяпай!
– Куды прешь!
– Доро-оги!
А баба стояла на телеге, крутила возжами, поглядывая то на катившуюся за ней лавину, то на старенький похилившийся мост. На ременных шлеях клубилась пена, но упаренная кобыленка, с виду похожая на беременную блоху, скакала из последних сил. Баба прогрохотала по мосту – я еле успел посторониться.
– У-ух, отчетливая бабенка! – послышался голос нашего лейтенанта.
Он был без фуражки, на белом лохматом конишке. Гимнастерка, мокрая до нитки, прилипала к широкой спине. Когда он слазил с коня, под гимнастеркой заиграли тугие, скрученные мускулы.
– Окатило меня там, – кивнул лейтенант в сторону Яропольца и провел обеими ладонями ото лба к затылку, приглаживая мокрые волосы. – Фуражку сорвало в воду, унесло. Да еще… Проскурякова ранило, – добавил он, кидаясь на мост, навстречу хлынувшему с того берега потоку; Проскуряков был командир отделения.
Немцы отбомбились и, разомкнув кольцо, приняли прежний порядок, пошли цепочкой. Бомбежка не причинила большого ущерба: две-три лошади, засеченных осколками, несколько раненых и одна искореженная зенитка, около которой погиб и ее расчет. Мост немцам разрушить не удалось, потому что бешеная пальба, поднятая зенитчиками, а так же из ручных пулеметов, винтовок, автоматов, не позволила самолетам снижаться. Истребители сопровождения, видя, что советских «чаек» в воздухе нет и отбомбившаяся шестерка спокойно, благополучно дойдет до своего аэродрома, решили призаняться штурмовкой юркинского моста. Тут зениток не было, и они могли снижаться сколько угодно. Правда, они не имели бомб, зато – нетронутый комплект снарядов и разрывных, зажигательных пуль.
Следом за бабой вкатились на мост двуколки, покрытые брезентовыми шатрами на два ската. Их было много, целый обоз. Лейтенант стоял в конце моста и пропускал их первыми, не давая другим повозкам встревать сбоку, затормаживать движение. На брезентах и на бортах двуколок краснели широкими полосами санитарные кресты. В повозках лежали тяжелораненые, в большинстве, не очнувшиеся от хлороформа после операции, произведенной в санбате на передовой позиции.
Куда, куда ломишься! – орал лейтенант на калмыковатого ездового-артиллериста, который, сидя верхом на круто-крупном коне, ударял его толстой витой плетью и направлял на мост, ломая быстрое и спорое течение обоза.
– Тихо! Тихо! – покрывая грохот колес, крикнул лейтенант, когда тронулось орудие. Шестерка грудастых лошадей тащила в двойной упряжке пушку. Лейтенант опасливо посмотрел, как под колесами прогинаются доски щелеватого, подопревшего настила.
«Подломится…», – подумал я и… подломилось. Одно колесо обрушилось в пролом. Заемные запотевшие лошади, роняя рхлопья пены, перебирали копытами, но не могли выдернуть колесо. Хриплая брань ездовых, лошадиный топот, властные команды лейтенанта… – все это захлестнуло дробным перестуком крупнокалиберных пулеметов и близким смертным свистом опускающихся на мост истребителей.
– В ямку… в ямку… – квохтал около меня боец, соскочивший с зарядного ящика.
Мы разом прыгнули, сгорбились голова к голове и, помирая от страха, прислушались, как, высверливая пропеллерами воздух, пронеслись над мостом «мессершмитты».
– Коряков, в закон-мать! – гроханул лейтенант.
Вскочив на ноги, я увидел его у орудия, огнисто-рыжего и залитого кровью. На мосту, исщепленном разрывными пулями, лежали, не подымая голов, ездовые. Щепка, отлетевшая от перил, ударила лейтенанта в лицо, окровянила.
– Почему не стреляешь по самолетам? – ляскнул он на меня зубами, – Тащи мне сюда ту жер…
Он показал было рукой на жердину, лежавшую на рогатке у потухшего костра, но не договорил и бросился от орудия. К мосту со стороны Яропольца подкатила открытая легковая машина, из которой выскочил рослый и широкий в плечах командир с тремя шпалами.
– Товарищ подполковник… – начал скороговоркой лейтенант.
– Докладывайте генералу.
Лейтенант крупным быстрым шагом подскочил к машине, в которой сидел боком, повернувшись к реке, худощавый генерал в шинели с красными кантиками и тремя серебряными звездочками в красных, угольниками, петличках. Вытянувшись в жилу, руки по швам, лейтенант отчеканил:
– Товарищ Командующий. На переправе находится: на большом мосту 54-й понтонный батальон, на малом мосту 640-й артполк. Неприятельскими самолетами выведено из строя зенитное орудие, имеются потери. Докладывает начальник переправы командир курсантской полуроты МВИУ лейтенант Заваруев.
Командующий поднес ладонь к козырьку фуражки. На узком худом лице его как то отдельно ото всего жили красивые, удлиненные в разрезе серые глаза.
– А почему без головного убора?
– Воздушной волной сорвало, товарищ Командующий.
– Ну вот, воздушной волной… От волны ложиться, падать, укрываться надо. Так вам и голову сорвет однажды.
– Вы-то, товарищ Командующий, я знаю, не падаете, – возразил лейтенант и посмотрел на генерала светлыми лихими глазами.
Командующий не слышал последних слов: он смотрел на холмистый восточный берег, вдоль которого тянулись проволочные заграждения, ежи и надолбы, окопы, замаскированные хворостом, охапками листвы.
– Да… да, можете быть свободны, – рассеянно ответил он на вопрос лейтенанта и, оставив машину, пошел на бугор.
Длинная кавалерийская шинель извивалась между ногами в широком ходу.
Подполковник Бурков, начальник инженерной службы армии, побежал тяжелой рысцой за генералом. Из двух «газиков», сопровождавших генеральскую машину, вылезли, разминая ноги, автоматчики охраны.
Тем временем мы, ухватившись всем народом за обгоревшую, но крепкую, просунутую в колеса жердину, втащили орудие. Нет-нет, я поглядывал на командующего армией. Вот он каков, Рокоссовский! Как дорого дал бы я, чтобы знать, что думал он, стоя на остром и сухом, точно старинный курган, холме. Видел ли он, как над Ламой, русской рекой, упоминающейся в древнейших летописях, кружил, как и тысячу лет назад, коршун, раскинув темные стальные полудужья крыльев? Видел ли, как корчилась в страшных конвульсиях Россия, косматая, огромная, раненая, раздираемая душевными муками? Высокий и прямой, Командующий ощупывал глазами местность, поводил рукой и показывал начинжу на увалы и перелески, на складки земли, более удобные для скрытого накапливания наступающих войск противника, нежели для нашей обороны. Позиция на Ламе была дурна, но это была последняя позиция… за ней стояла Москва!
Переправа шла своим ходом. Дело спорилось у лейтенанта: подгоняя одних, сдерживая других, он регулировал движение, давал старому мосту мерную и выносимую нагрузку. На закате солнца на мост въехал кавалерист на исхудавшем, полузагнанном коне. На груди у него болтался подвешенный ремнем за шею автомат, сбоку торчала кожаная сумка, набитая бумагами, – связной. Он торопился. Врезался в поток и, виляя между подводами, прижимаясь к перилам, начал пробираться на другой берег. Низенькая горбоносая лошадка оступилась в канаву. Хозяин дал ей шпоры в ребрастый бок и она, подминая тычки, выскочила на полосу заграждений.
– Мины! Мины! – шумнул я.
Всадник, верно, не расслышал, махнул плеткой. В сумасшедшем намете злая калмыцкая лошадь понесла по прибрежной поляне, где под пластами дерна пупырились противотанковые, страшной силы, мины. Несколько взмахов… все мы застыли в ужасе. Но только тогда, когда передние ноги коня коснулись чистого поля, задними ногами конь ударил в мину. Из земли сверкнуло пламя, оглушительный раздался взрыв, взметнуло клочья дерна и глыбы земли, потянуло острым запахом гари. Дым рассеялся… Кавалерист скакал уже далеко, то оглядываясь назад, то припадая к гриве.
Всадника этого лейтенант вспомнил вечером, когда мы шли с ним от моста в село. На фоне сумеречного неба виднелся белый силуэт старинного барского дома, принадлежавшего сто лет назад теще Пушкина. От Ламы пахло пресной сыростью. Лейтенант сильно втянул широкими ноздрями воздух и, на-ходу оборачиваясь ко мне, проговорил:
– И что ты думаешь, Коряков, он всю войну так и проскачет, этот сегодняшний. Подрываться будет, да не подорвется. Около смерти сто раз пройдет, а все жив останется…
Возле избы, покосившейся и вросшей одним боком до окошек в землю, расположилась на отдых маршевая рота в полном походном снаряжении, с мешками, котелками, лопатами. На шинели, разостланной по земле, лежал длинный зевластый пулемет. Бойцы облепили его со всех сторон, опираясь на спины друг друга. Приподнявшись на носки, мы с лейтенантом увидели в середине молодого красноармейца, который, сидя на корточках, смущенно улыбаясь, поворачивал пулемет так и этак, но не знал способа обращения.
– Получили пулеметик… собаке под хвост! – говорили бойцы.
– Вот и воюй так-то…
– Погоди, ребята, может, механик какой найдется, разберется, что к чему.
– На кой тебе механик, я сам лучше всякого механика в пулеметах понимаю. Максима, Льюиса, а Дегтярева, так с завязанными глазами разберу и соберу.
– А этот… и где они такой добыли, чорт их знает!
– Американский. Америка, сказывают, теперь нам оружью шлет.
– Вот ить какое блядство! Сколько лет тянули жилы… на оборону, на оборону! А пришло обороняться, Америке надо в пояс кланяться. Наша-то оружья где?
– Тю-ю, дурак! Ай, мало его на границах оставили? Вон у нас, коло Ржева, полон еродром самолетов достался немцу.
– Ты сам чорт непонятный, тебе про одно, а ты про другое. Я за винтовки спрашиваю, а не за самолеты.
Лейтенант толкнул меня локтем.
– А ведь это те, что мы в Волоколамске видели.
Действительно, мы эту роту уже видели позавчера в Волоколамске. Выехав из Болшева поздним вечером, мы приехали в древний деревянный городок за полночь. Шофер, изредка присвечивая фарами, повез нас темными переулками на окраину города, где помещался инженерный отдел штаба 16-й армии. Остановились у избы, возле которой спали, сидя на заваленке, привалившись спинами к бревенчатой стене, бойцы. Некоторые лежали на земле. Наш грузовик, подворачивая к избе, чуть не переехал передним колесом ноги, перекрученные обмотками. Перед фарами метнулась, взмахнула руками растерянная, испуганная фигура молодого красноармейца.
– Посередь улицы бы ложился, – заругался шофер. – Чтоб тебе во сне собаки яйца отъели… Винтовку, то не проспал, не утащили?
– Винтовку… Надо ее иметь, винтовку-то! – заговорил боец – Гонют на фронт, а винтовок не дали. Пока так идите, из армейских складов в Волоколамске получите. Вот и ждем-пождем…
Это и был паренек, который так кряхтел над пулеметом, что выпустил от усердия и прикусил зубами кончик языка.
– Ну-ка, пусти, товарищ, может я помогу беде, – тронул лейтенант рукою плотную, жаркую загородку.
Бойцы расступились. Лейтенант вступил в круг. Подошел Шурка Яковлев, тоже склонился над пулеметом.
– Не американский это пулемет, – объявил лейтенант. – По американски нас учили в Болшеве. Тут и буквы совсем другие.
– Филолог! – позвал меня Шурка. – Есть случай отличиться.
Пулемет оказался польский. На нем стоял герб «Жечи Посполитой». Повидимому, его захватили в Польше осенью 1939 года. Красная армия понесла такие потери оружием, что через четыре месяца войны на фронт стали посылать всякую заваль вроде этого польского пулемета. На производство винтовок переходили заводы, вырабатывавшие прежде кастрюли. Попадались новые, помеченные 1941 годом, винтовки с грубыми нешлифованными стволами, коряво, одним топором вырубленными ложами. Ходили слухи, что плохо выделанные винтовки разрывало при стрельбе; бойцы их бросали. Появился приказ Сталина: за потерю винтовки – расстрел; раненых в госпиталь без винтовок – не принимать. Бойцам, получившим тяжелые ранения и в беспамятстве потерявшим оружие, отказывали в перевязке, первой помощи. Бойцы ползли обратно на поле боя и гибли, истекая кровью, попадая в плен к наступавшему неприятелю.
– Ну его к лешему, – отступился лейтенант от пулемета. – В нем спецоружейник не разберется. Яковлев – отдыхать. Коряков – тоже. Корякова я еще вызову. Комиссар приедет, привезет капсюли – ваше отделение… я вам говорил – вы заступаете Проскурякова… вы обеспечите мосты зажигательными трубками. Понятно?
– Товарищ лейтенант, разрешите мне задержаться, с этим пулеметом покончить, – попросил Шурка.
– Брось, ничего у тебя не выйдет, – ответил лейтенант, говоривший курсантам «вы», когда дело касалось службы, и «ты» во всех остальных случаях.
– Выйдет! Заело меня… инженерная честь моя не позволяет бросить.
– Ну, если заело – оставайся, мне то что.
Жадно-любопытствующими глазами следили бойцы за шуркиными руками. Непонятные механизмы всегда «заедали» Шурку: у него выработалась привычка разгадывать их секреты. Трогая отдельные части пулемета, щелкая рычажками, он понимал их взаимную связь, взаимодействие. Наверное, он был хорошим инженером: погрузился в работу, не замечая ни шума на улице, ни жаркого сапа обступивших его бойцов, ни кислой удушающей вони их шинелей, ни того, что стало темно, опустились густые сумерки.
– Отодвинься, не засти, – сказал он молодому красноармейцу, и тут все увидели, как под умелыми руками пулемет стал распадаться на части. Шурка разгадал машину. Он снова собрал ее четкими уверенными движениями.
– Кто у вас тут голова? – поднялся Шурка. – Покажу, но чтобы с одного раза понял.
– Помкомвзвод, выходи.
Придвинулся сержант, который говорил, что умеет разбирать «Дегтярева» с завязанными глазами. Шурка показал ему устройство польского пулемета, объяснил взаимодействие частей. Помкомвзвод оказался понятливый.
– Научишь остальных, – кивнул ему Шурка.
– Вот спасибо тебе, товарищ, – сказал помкомвзвод. – А то командир роты пошел искать оружейную летучку, да где же ее найдешь в такой каше!
Поздним вечером я пошел к командиру полуроты. По всему горизонту подымались багровыми высокими заревами пожарища. Трассирующие пули – фиолетовые, зеленые, желтые – чертили косые линии на темном беззвездом небе. На цветастую вышивку накладывались искряные шнуры ракет. Полоса грохота и смерти с каждым часом приближалась к Яропольцу.
В избе у лейтенанта сидел комиссар Никонов. На попутных грузовиках он проделал сегодня конец из Яропольца в Москву и обратно. Несколько дней небритая голова его заросла серой щетиной. Опираясь руками о скамейку, он смотрел, морщиня лоб, как лейтенант открывал квадратные картонные коробочки. В коробочках, точно папиросы, лежали алюминиевые капсюли.
– Мензелинск? Где это такое? – спрашивал лейтенант.
– В Татарии. Километров восемьдесят от Казани.
– Далеко… пешком. Как они дойдут?
Открывая дверь, я уловил обрывок разговора. Пока лейтенант распаковывал еще какой-то ящик, привезенный из Болшева, я обратился к комиссару:
– Училище эвакуируют, товарищ старший политрук?
Комиссар поднял усталые глаза и нехотя ответил:
– Да, уезжают наши.
Не требовалось быть психологом, чтобы заметить растерянность комиссара. Давно-ли он вертел языком цитаты из Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина?
Цитаты были его капиталом, на них он строил свое благополучие. И оказалось… построил карточный домик! На фронте происходило такое, чего нельзя было объяснить цитатами.
– Получайте сотню капсюлей, – сказал лейтенант, протягивая мне коробку. – Большой и малый мосты, восемь мостиков на противотанковых рвах, электростанция в доме Павлика Морозова, – все это вы обеспечите мне к утру.
– Есть.
– Выполняйте. Что еще, чего вы стоите?
– Фонарик нужен электрический, товарищ лейтенант. Под мосты ночью лазить. И потом… обжимы.
Лейтенант накрутил на палец рыжий чуб и дернул:
– Обжимы! Фонарик – пустяк, мой возьмете. А обжимы? Товарищ старший политрук, как же так, что они вам их не дали?
– Не дали и все тут, что я с ними драться буду? – ответил комиссар угрюмо. – К полковнику Варваркину ходил, докладывал, ничего не добился. – Ну-у, говорит, не может быть, чтобы вы там, на фронте, не достали. Это нам в тылу теперь ничего не дадут. Все заявки на оборудование срезали, а сосунков еще пять тысяч дали – обучай на пальцах. Так и не дал.
– И вы тоже… подрывник! – посмотрел на меня лейтенант с укором. – Уезжали из училища, о чем думали? Такой пустяк, обжим, не могли в карман спрятать?
– Украсть из ротного имущества? – засмеялся я. – Их всего то на роту было выдано два обжима. Вы же знаете, что пришел начальник технического снабжения, велел сдать.
Техническое снабжение! – буркнул лейтенант. – Я с ним и сам, как собака, излаялся.








