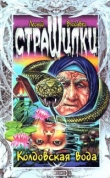Текст книги "Первозимок"
Автор книги: Михаил Касаткин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Притаился, до последней клеточки своего существа взбудораженный мыслью, что сейчас он увидит, у кого прячутся эти парни, кто их подкармливает...
Но по дороге, толкая перед собой двухколесную тележку, двигалась женщина.
Это обозлило его еще больше.
– Стой! – Он приблизился к женщине. – Куда идешь?!
– На хутор, Митрофан Степанович... Ай не узнал?
– Чего так поздно?
– Днем-то некогда, сам знаешь: в поле опять...
– А что тебе делать на хуторе?
– Да зернышко сменять, может, на маслице да молочко. Вроде уж и договорилась с одними. Каши молочной захотела Акимовна... Чай, помнишь, а? Она ить при смерти.
– Не велено! – отрезал сотский. – И помнить никого не хочу! – Он потянулся к мешочку в тележке.
Женщина инстинктивно толкнула таратайку вперед, сотский, ухватив за оглоблю, рванул ее назад, так что женщина от неожиданности чуть не упала. А он подхватил тугой, килограммов на шесть-семь мешочек, повернулся и зашагал своей прежней дорогой.
– Отдай! – завопила на всю улицу женщина и, догнав Митрошку, вцепилась обеими руками в свой мешочек. От злости и страха потерять последнее, чем она еще могла подкормить свою мать, рванула мешочек на себя и при этом нечаянно задела поясницу сотского.
Митрошка выпустил из рук мешочек с зерном, замахнулся, чтобы ударить женщину.
Фигуры трех парней появились за ее спиной, будто вырисовались из темноты.
– Не тронь, сволочь... – негромко процедил сквозь зубы один из них.
Сотский попятился, потом побежал, подпрыгивая на раненой ноге и чуть слышно подвывая от боли, в обход соседних домов, опять к старосте.
А женщина, подхватив одной рукой свое зерно, а другой – таратайку, заспешила в сторону хутора.
Утром староста отправился в район на доклад к своему начальству.
Наступали холода. На землю уже обильно выпадал по утрам иней. Полицай Ванька Шутоломный ходил по дворам с новым для села человеком с автоматом, который был, видно, прислан в подмогу полицаю, и собирал теплые вещи для немецкой армии.
– И без того в зиму надеть нечего! – стонали хозяйки. – Магазинов-то нет, не купишь. Зачем последнее отнимаете?!
– Дома можно и без теплых вещей, – издевательски склабился чужак. – А на фронте – нельзя! Печек там нет, одни окопы.
Ванька знай себе пихал в мешок подряд все, что попадалось на глаза, и только довольно хмыкал при этом.
– Да куда ж ты бабье-то берешь?! Нешто на фронте бабы воюют?!
– А это уж не твоего ума дело! – отвечал Ванька, выходя на улицу.
В двух избах он даже спиртное отыскал, берегли, видно, на самую крайнюю необходимость. Шутоломный умел искать.
Весь день они трудились вместе с напарником, что называется, от души. Только в одной избе задержались, чтобы перекусить тем, что нашли у хозяев, и распить самогону. Засиделись. Уже поздно вечером оказались в последней избе, где и взять-то было нечего. А повозка во дворе стояла основательно наполненной, и Ванька решил смилостивиться: велел хозяйке найти закуску и выпивку взамен несуществующих у нее теплых вещей и даже размечтался, обогретый спиртным: вот повысят его за этот удачный сбор в старосты (лучше даже какого-нибудь другого села, не своего), и жизнь начнется куда привольней. Чужими руками жар загребать намного спокойнее.
Из дому они вышли, придерживаясь за стены, постояли, осваиваясь с темнотой.
Вывели коня на улицу. Забрались в повозку и свесили ноги с задка.
Шутоломный всего разок шевельнул вожжой, чмокнул и больше даже не оглядывался – конь сам знал дорогу к дому. Но в упряжке, всегда медлительный, коняга вдруг резко прибавил ход, потом сразу круто свернул в переулок, как будто нечистая сила поволокла его за уздцы.
– Эй-эй! Дьявол тебя!.. – заорал Ванька, лихорадочно шаря на мешках с барахлом вожжи. – Стой, тебе говорят! Осатанел, никак?! Да где ж они...
А конь вдруг так же резко, как побежал недавно, остановился, и не успели два полицая сообразить что-нибудь, а уж тем более сколько-нибудь протрезветь, как налетевшие из темноты парни ловко стащили их с повозки на землю. Конь снова помчался, но не домой, а к лесу, винтовка и автомат оказались в чужих руках, и два удара прикладами по голове, хоть и через шапку, утихомирили полицаев...
Последнее, что при этом запомнилось Шутоломному: как он хлебнул воздуху, чтобы заорать, но в последний миг испугался, что прибегут на помощь не к нему, а к этим...
Очнулся Шутоломный обочь дороги возле какого-то плетня. Сколько прошло времени – понятия не имел. Но уже заметно светало, и он промерз до костей, так что его сразу же затрясло всего. Связанный, с трудом сел.
И только увидев перед собой сидящего так же, как он, и ожесточенно встряхивающего головой человека, вспомнил о напарнике, о том, что с ними произошло.
С грехом пополам, зацепив тряпкой за сук в плетне, освободился от сдавливающей рот повязки. Потом зубами развязал напарника.
Тот – уже гораздо быстрей – помог ему освободиться от веревок, попытался заговорить о случившемся.
Шутоломный зло остановил его:
– Погодь! Сдохнем так! Бежим до меня, опохмелимся малость... – И после паузы грязно выругался.
А дома испуганная жена полицая первым делом вручила ему записку, которую еще с вечера обнаружила под дверью.
«Если ты, немецкий холуй, вздумаешь мстить сельчанам, мы повесим тебя на той самой осине, где пороли, а потом пустили без штанов такую же, как ты, гадину-сотского. Теплые вещи, которые ты собрал, пригодятся для нашей Красной Армии, которая уже вовсю лупит твоих хозяев и не сегодня-завтра будет в нашем селе!»
Буквы были печатные.
Разбуженные староста и сотский на этот раз испугались по-настоящему.
– Надо звать немцев! – решил Ванька. – Пущай укорот дадут. Обнаглели. Почуяли, фронт попятился...
Но сотский неожиданно пробормотал:
– А ведь за утрату боевого оружия...
Ванька взъярился, глядя на старосту:
– Чего же ты сразу не заявил, когда они Митрошку выпороли?!
– А то! – Староста скребанул бороду. – Без ума, что ли?! – Он почти выкрикнул эти слова. И повторил их: – Без ума! Нам поручили здесь порядок блюсти! А я – к немцам: один дурак хромой лошадь прозевал, в лес потащился! Теперь сразу два дурака напились до зеленых чертей и вещи, что для армии, и автомат с ружьем, – как он назвал винтовку, – пропили! Защитите нас!.. От кого?.. Не знаем!.. И защитят. Нас же первых за горло!
Ванька и его напарник заметно сникли.
– Чего ж теперь?..
– Чего?! – Староста зло оглядел обоих. – Берите мою Ясну, запрягайте... Прям счас, не дожидаясь! И – по соседним селам! Мож, у кого в заначке есть: у кого автомат, у кого ружье... Валялись после боев-то штуковины эти. У Семки в Гнилушах, он нам родня с тобой,– кивнул на Ваньку, – должно быть... Заодно, мож, чуток вещичек подбросит, свои закутки дома потрясите, потом еще здесь опять пройдем, чтобы не с пустыми руками мне... Действовайте!
* * *
А записка не лгала... События развивались, почти как сообщалось в ней.
Через два-три дня до села стала доноситься канонада. И звуки ее день ото дня приближались.
Немцам стало некогда заботиться о местной администрации. Они спешно эвакуировали собственные грузы и думали уже только о себе. По всему фронту наступали наши.
Когда не только орудийные выстрелы, но и пулеметные очереди стали слышны в селе Долгом, однажды ночью, незадолго до рассвета, потому что самые темные часы были потрачены на бесшумную беготню со скарбом, от дома старосты отошел тяжело груженный тарантас и тихо, чтобы не потревожить спящих жителей, двинулся через все село на запад.
Впереди, на облучке, сидели, трясясь от страха и холода, две женщины: жена старосты и жена Шутоломного Ваньки. Сами они вместе с сотским, держа в руках оружие, двигались сзади тарантаса.
Уже начинал пробиваться рассвет, когда наконец пересекли околицу и облегченно вздохнули.
Но метрах в двадцати от колхозного амбара, который располагался чуть в стороне от села и в котором прежде хранили семенную пшеницу, неожиданно и стремительно, точно от ветра, шурхнули кусты по сторонам дороги, тарантас окружили десять-пятнадцать парней в нахлобученных до глаз картузах, кепках, и в то же мгновение, так что трое фашистских прихвостней не успели обернуться, им в спины уткнулись оружейные стволы.
Звонкий голос при этом скомандовал:
– Ру-ки!
Кто-то держал лошадь; голосили, спускаясь на землю, бабы, когда разоруженной тройке с поднятыми над головой руками было позволено оглянуться.
Теперь на них смотрели дула двух винтовок, двух автоматов и двустволки, принадлежащей когда-то сотскому Митрофану.
– Что, гады, драпать вздумали?.. От кого драпать, а?! – яростно спрашивал все тот же звонкий голос, что принадлежал пареньку с автоматом, в центре.
И староста вдруг на мгновение даже позабыл о страхе.
– Никак, Лицка Дементьева!..
– Она самая! Все мы здесь: и Танюшка, и Варя, и Соня Шуйские – все!
Теперь и старосте, и Ваньке Шутоломному, и сотскому Митрошке сделалось почему-то еще страшней.
Их баб уже повели куда-то прочь от тарантаса.
Староста метнул глазами с одного лица на другое, потом на черные стволы, что уткнулись в их спины.
– Отпустили бы вы нас, девчата... – Голос его сорвался. – Ну, обмишурились мы... Так если не мы – другие были бы, ведь люди мы подневольные... Особо плохого вам не делали... И все-таки односельчане...
– А ну, поворачивайтесь – и марш в амбар! – скомандовала Лида. – Сегодня придут наши – они разберутся, кто здесь односельчане!
Разведчица Мурка
Если бы кто-нибудь попробовал изучить, как в течение войны изо дня в день менялись понятия относительно каждого населенного пункта, речушки, высоты: передовая это, плацдарм, прифронтовая полоса или тыл, фронт, – наверняка запутался бы.
Скажем, этот молдавский городок, где сейчас расположился тыловой госпиталь, – это наше исконное местечко. И тот, кто приказал оборудовать здесь госпиталь, наверняка учел и благодатный климат, и обилие фруктов, и красоту зеленых молдавских гор, ласкающих глаз по всему видимому горизонту. Сейчас – и уже навсегда – здесь, по терминологии военного времени, наш глубокий тыл. Передовая – на территории Чехословакии, Польши, Германии...
Но был этот городок с двумя заводишками (винодельческим и консервным) в течение всей войны попеременно и прифронтовым, и точечкой в линии обороны, и глубоким вражеским тылом, и снова прифронтовым, и снова одним из пунктов передового фронта – когда наконец двинулись наши войска лавиной в контрнаступление – на запад...
В четвертой госпитальной палате, в углу – поближе к постели, на которой лежал раненный в бедро и голень, а потому пока неспособный к самостоятельному передвижению солдат, уже по традиции собрались перед сном, чтобы поболтать, не только раненые со всей четвертой палаты, но и гости из других.
Традиции или привычки – они рождаются быстро, как только складывается коллектив.
И некоторое время поболтали как раз об этом: как только не именовался в штабных документах этот городок или поселок, если проследить от самого начала войны: от 22 июня сорок первого...
Потом, и тоже, как это бывало традиционно, чем ближе к отбою, тем оживленнее и бестолковей разговор, принимающий характер быстро сменяющихся одно другим веселых воспоминаний из фронтовой жизни.
А в госпитале каждый первый и каждый второй, пятый и десятый – фронтовики...
Рассевшись вплотную на грядушках коек, на табуретах вокруг загипсованного, говорили, не перебивая друг друга, однако и не оставляя минуты для пауз. В таком темпе вроде бы за один вечер можно все и всем высказать самое интересное.
Рассказов из вечера в вечер не убавлялось и, если бы медперсонал не разгонял всех по койкам, по палатам, фронтовым воспоминаниям не было бы конца.
Чего только не случается на фронте! А потому истории выслушивались и принимались, как правило, на веру. Кроме заведомых анекдотов, конечно, которыми заполнялись неизбежные переходы от рассказа к рассказу, как писатели перемежают в своих книгах действие лирическими отступлениями.
Хотя, конечно, солдатские анекдоты бывали не всегда лирическими, зато их у каждого были неисчерпаемые запасы...
И эти «смехзарядки» перед сном действовали на раненых благотворнее успокаивающих микстур и таблеток.
Лишь один, лет двадцати пяти – двадцати шести, сержант с перебинтованной, на перевязи рукой отмалчивался из вечера в вечер. Но высказываться никто не принуждал. И это было его личным делом, коль скоро он предпочитал слушать.
Однако он просто ждал своего момента, как выяснилось на этот раз, потому что, улучив минуту, заговорил. И так как заговорил впервые – все честно замолчали, прислушались.
– Мне вы, может, и не поверите в один случай... Но он был – и я ему свидетель, – коротко, вместо предисловия, начал он. – Вы вот судачили о животных на войне... – Все к этому времени, признаться, позабыли, кто и в связи с чем говорил о животных, но смолчали, чтобы не перебивать сержанта. И он продолжал: – Без лошади на фронте – хоть и появились теперь в достатке тягачи, тракторы, танки – не обойтись... Собака на войне – в деле: это тоже само собой. Голуби – почтальоны, знаем. Все, наверное, в голубятниках до сорок первого были... А вот кошка-разведчица! Кто-нибудь такое слышал?
Все опять промолчали, старательно гася улыбки перед заведомой небылицей.
А сержант как ни в чем не бывало продолжал почти на полном серьезе:
– Заняли мы как-то еще в самом начале общего наступления одну деревню. Точнее, территорию или место, где была когда-то деревня. Трубы на косогоре торчат, кое-где фундаменты сохранились... Ветер пепел крутит, золу в сугробы сгребает – вот и все, что осталось от деревни...
Было это на юго-западном фронте. Косогор, как я уже сказал, у речки... И засели мы там в длительной обороне.
Стали мы деловито обстраиваться – по-фронтовому: землянки рыть, строить блиндажи...
А у нас в отделении самый молодой солдат был Сашка Лисогоров: несовершеннолетний, еще семнадцати тогда не исполнилось, можно сказать, сын полка. Родители погибли у парня, осиротел, ну, и прибился к нам: хочу, говорит, разведчиком быть. Известное дело: пацаны всегда метят уж если в пехоту, так в разведчики только – не иначе. А мы – отделение стрелкового взвода. Разъяснили ему. Однако уперся – все равно возьмите... А куда ему деваться было? Взяли.
Так вот, пока мы занимаемся общей работой, Сашка – мальчишки же народ шустрый, в любой ситуации успевают и тут, и там – выгадал момент и отыскал для нашего отделения уже готовое жилье!
Зовет нас.
Глядим: утепленный погреб с добротным дубовым накатом – не погреб, а дворец!
В свое время, видно, в нем хозяева сгоревшей избы ютились, потом перекочевали куда-то, когда от деревни уже ничего не осталось... Если выжили, конечно...
В этом погребе – лучше, чем в землянке, – и расположилось наше отделение.
С нами же, по причине комфорта, поселился и наш помкомвзвода старший сержант Сечкин.
Натаскали мы в погреб камыша, соломы, насобирали по пепелищам: где – обгоревшую дерюжку, где – мешковины, рогожи кусок, прикрыли ими солому, устроились, прямо-таки как в первоклассной гостинице, – всем на зависть. И ночь спали, наверное, поэтому еще как убитые...
Однако под утро я проснулся раньше всех – от какого-то звука.
Шебуршанье там или кашель, храп – это все привычно, этим нашего брата не разбудишь. А тут прислушался я и сам себе не поверил: «Мур-мур... Мур-мур...» Кошка!.. Откуда она взялась?! Открываю глаза. В первоклассном погребе нашем, за отсутствием окон, коптила сделанная из гильзы горелка.
И она – кошка то есть, а не горелка – примостилась на дерюжке между мной и Сашкой Лисогоровым. Свернулась так это, хвост, лапки поджала, мурлычет в собственное удовольствие да глаза щурит. Сама белая вся, а на спине – два черных пятнышка по бокам. Кисонька, да и только – каких детям на картинках рисуют.
Сашка вскинулся почти следом за мной и только глянул круглыми глазами – цап эту кошечку себе, уселся, начал улюлюкать:
«Муреночек! Ты-то как попала сюда?! – Поглаживает ее. – Мурка-Мурка, теперь и тебе, наверное, стало жить негде?.. Сгорел ведь хозяйский дом-то...»
Эта Мурка всех разбудила.
И Сечкин, помкомвзвода наш, как услышал последние Сашкины слова, тут же вмешался, подтвердил:
«Это ты верно – насчет дома!.. – А Сечкин был у нас самым грамотным, с десятилеткой, так что не верить ему нельзя было. Разъяснил: – Кошка отличается от других животных. Собака, например, к человеку привыкает – хоть на край света за ним: куда хозяин – туда она. А кошка привыкает к дому в сто раз больше, чем к хозяевам. Дом сгорел – и она, значит, в погреб! Тем более что тепло здесь почуяла...»
«А кошка гладкая, сытая!.. – заметил Сашка. – Чем же она питается без хозяев? Поди, уже больше месяца, как деревня выгорела и люди куда-то подевались...»
Этот вопрос всех заинтересовал. Но раньше ефрейтора Тольки Гамова никто высказаться не успел. Гамов у нас вообще терпеть не мог, чтобы первое слово да вдруг оказалось бы не за ним.
«А мыши на что?» – знающе отрубил Сашке. «Верно, – согласился помкомвзвода. – По осени мышей всегда много, а теперь они по подвалам небось шуруют...»
«А может, она мышей не ест, – возразил кто-то в пику Гамову. – Может, она только рыбой питается?» Но тот спорить не стал, быстро согласился: «Вполне возможно!.. И ничего удивительного. Я даже один случай знаю: кошка щук ловила и своих хозяев ухой подкармливала!»
«Чем ловила? – спрашивают его. – Удочкой ила подолом?»
«А это смотря какая щука и как удобней...» В общем, пошел у нас разговор в таком духе. Кто бывальщину гнет, кто небывальщину, как мы сейчас.
А кошка знай себе мурлычет на Сашкиных руках и аж поджимается вся, когда он гладит ее...
Но тут объявили уже общий подъем, завтрак, и начался очередной день войны.
Про кошку мы за день и не вспомнили. Только вечером хватились. Вернее, хватился первым, конечно, Сашка Лисогоров – только заскочил в подвал, только чиркнул спичкой, чтобы зажечь нашу боевую коптилку: «Где Мурка моя?..»
А у самого глаза вдруг жалобные – ну, совсем пацан, ребенок еще. А ведь пороху с нами понюхал уже немало.
Мы – туда, сюда: кошки нет.
Загоревал Сашка, даже скрыть не может – разволновался.
Ефрейтор Гамов, чтобы утешить, аж поклялся ему и крест на себя наложил – в доказательство, что видел ее в сумерках:
«Пошла позиции наши проверять!»
Но Сашка теперь все же наверняка плохо спал бы ночью – от такой утраты... И мне, как легли, спать не давал, допытывался, чем не угодили мы ей? В погребе тепло и не очень сыро. Накурено, правда, хоть топор вешай. Но ведь люди-то терпят, дышат... А она что закапризничала? Война ведь...
Наверное, где-то уж к рассвету близко только и надумал Сашка смежить свои глаза, когда я уже раз в четвертый или пятый засыпать начал.
Но в этот четвертый или пятый раз уснуть мне не удалось, потому как слышу опять не то что-то:
«Мяу...» – И будто коготками по лестнице поскребывает.
Схватились мы оба, глядим в творило, а оттуда на нас два зеленых огонька зыркают.
Мяучит кошка, а прыгнуть в наше стратегическое или тактическое задымление боится.
Сашка ближе к творилу, и та ему скок на плечо.
От радости вояка наш забыл про всех – давай смеяться и улюлюкать снова.
Я прицыкнул:
«Спать ребятам не даешь! Самый что ни на есть сон – под утро!»
Но все уже опять, как по команде, проснулись, и никто, кроме меня, на Сашку не цыкнул: все-таки необычность у нас – кошка на передовой!
То далеко, то близко резкие, до звона в перепонках, взрывы мин, автоматное стрекотанье, хлопки зенитных разрывов под облаками – все это уже обычно. А кошка – событие.
Сашка, довольный, будто его пряником угостили, поглаживает ее по спинке, за ушами почесывает, вдруг:
«Стойте!.. – и сам затих: пальцами вокруг ее шеи перебирает. – Что это у нее?.. Клещ, что ли, впился? – у нас спрашивает. И сам же отвечает: – Нет! Здесь что-то подвязано. Нитка и вроде шарик... Или палочка...» Сразу Сечкин вмешался – командир все-таки: «А ну, давай сюда!.. – Осмотрел. – Так и есть: нитка... Штуковина какая-то...»
Тут он осторожно перервал нитку, и на ладони его сверкнул махонький бронзовый пистончик.
«Братцы! – обрадовался Гамов. – Это ж Сашкина Мурка губы красит! Значит, на свидание бегала!.. Давайте гнать ее отсюда!»
Кто-то возразил, что губной помады в таких маленьких пистончиках не бывает.
Но Гамова поддержал его друг, Алим Хардиев, – заявил, что собственными глазами видел, как она, Мурка то есть, через нейтральную полосу втихаря сиганула. Опять начали острить – кто во что горазд. Одному Сашке эти насмешки не по душе, прикрыл свою Мурку полой шинели. А Сечкин скомандовал:
«Ти-хо! И прекратить хахоньки. Дело-то, может, серьезное... Посмотрим сначала, что тут у нее вместо помады запихано...»
Достал он иголку, поковырял ею в пистончике и вытащил из него малюсенькую, свернутую в трубочку бумаженцию.
Смех сам собой прекратился. Ребята затихли в ожидании: похоже, что Мурка не для форсу этот пистончик на шее таскала...
Сечкин развернул бумажку и, уткнувшись глазами, сначала молча, медленно разобрал, что там написано, а потом уж зачитал вслух:
«Товарищи красноармейцы! Мы здесь, под немцами. Если вам что-нибудь надо узнать – сообщите. Мы все вам напишем на бумажке и опять пришлем с Муркой...»
Тут мы невольно все переглянулись: выходит, Сашка наш не ошибся, когда Муркой ее назвал, только увидев...
А Сечкин продолжал:
«Мы знаем, что она живет с вами в погребе, ночует там. А днем она прибегает к нам сюда. Если найдете у нее это письмо – ответьте».
И – никакой подписи. Нам сказать нечего.
Помкомвзвода почесал в затылке, ему отмалчиваться нельзя, ему надо принимать решение.
«М-да... – протянул. – Кто же это писал? Буковки мелкие, но почерк вроде бы детский... И если так – попадут ребята в неприятности...»
«А может, это ловушка для нас, товарищ старший сержант? – на этот раз уже серьезно высказал свое предположение ефрейтор Гамов, хотя серьезно он говорил очень редко. – Вдруг провокация какая-нибудь?»
Но его же лучший друг Алим Хардиев и одернул его:
«Какая тут может быть ловушка для нас? Немцы преотлично знают, что деревня занята нами. Собственными глазами видели – когда драпали отсюда. Не знают они только то, сколько нас и как расположены подразделения... Так мы ж об этом ничего писать не будем! Наше дело – пораспрашивать, что и где у немца... Обманут? Не велика беда – кому положено, проверят. А вот тех, кто нам написал и свою записку с Муркой отправил, могут прихватить, если это наши ребята. Тогда пиши – хана им...»
Это вернуло Гамову его всегдашнюю безалаберность.
«Как это прихватят?! Как прихватят?.. Мурка у нас не такая дура! Сашок, чего ты спрятал ее? А ну, покажи! – И когда Сашка приоткрыл борт шинели, Гамов заключил: – Она ж специально себе шерсть подкрасила, беленькой стала! Как в маскхалате теперь!»
Опять посыпались шуточки-прибауточки со всех сторон, опять галдеж у нас.
Один помкомвзвода молчал. Шутки – шутками, советы – советами, а решение принимать ему и отвечать потом за это решение – тоже.
Что опасную «игру» в почту затеяли мальчишки – ни у кого не вызывало сомнения. И Сечкин решил:
«Пацанов надо предупредить, чтоб были поосторожнее, а обо всей этой истории доложить в штаб полка». И тут же поручил Сашке сочинить записку, сказав: «Ты еще не состарился вместе с нами – тебя они лучше поймут...» И когда записка была готова, сам тут же отправился в штаб.
Во второй половине дня нам пришлось потесниться в своем «люксе» – выделили место для лейтенанта из разведотдела.
Лейтенант, как ветеринар, детально ощупал кошку и приказал Сашке:
«К тебе она привязалась – будешь теперь отвечать за нее. Береги пуще глаза!»
Что Сашка просиял в душе – для этого слов не надо.
Мурка сделалась у нас главной фигурой в погребе – чуть не главнее лейтенанта.
И покормили мы ее по-генеральски: лучшим, что нашлось у нас в сидорах.
А когда мы ушли опять вгрызаться в землю, ворошить ее, то есть совершенствовать линию обороны, Сашка остался в погребе караулить Мурку, ждать выхода ее «на задание»...
Но тем же самым – уже к ночи – занялись и мы все: ей давно бы пора уйти «с важным поручением», а она спокойненько подремывает на дерюжке, мурлычет в собственное удовольствие да глаза по привычке щурит...
Только во время ужина, когда мясным супом запахло в погребе, оживилась опять.
«Ясно, – решили, – Мурка – с какой стороны ни подойди – солдат: в дело надо отправляться, подкрепившись как следует...»
И точно – поужинав, она подошла к творилу, задрала голову вверх, потом оглянулась, мяукнула раз, другой, словно попрощалась с нами, вскарабкалась по лестнице – и наружу.
«Ни пуха ни пера, киса!» – крикнул ей вдогонку Гамов.
«К черту!» – сердито отозвался за нее Сашка. А сам волнуется, будто лучшего друга проводил на боевое задание.
При свете коптилки, которая с точки зрения своего названия, то есть относительно копоти, оправдывала себя на все сто, а насчет света – не очень, мы стали укладываться спать.
Только лейтенант, развернув на коленях планшет, продолжал сидеть. Глянул на часы и что-то записал в блокнотике. Наверное, засек время отбытия нашего «разведчика» на вражескую территорию.
Ну, понятное дело, и Сашка тоже не собирался укладываться спать. Однако вскоре наш погреб на какие-то минуты все же затих, а потом, как и положено, стал наполняться вольготным солдатским храпом.
Но вскоре лейтенант, видимо, встрепенулся и, можно сказать, приглушенно вскрикнул от неожиданности.
Храп оборвался, все зашевелились и повысовывали головы из-под шинелей.
Лейтенант неподвижно глядел на спускающуюся в погреб кошку.
Не издав ни звука, только глянув на нас, вроде бы: «Здрасьте, я ваша тетя...» – Мурка присела за творилом, старательно очистила зубами коготки, потом облизала свои лапки, перелезла через мои ноги и мирно улеглась на дерюжке, рядом с ошарашенным, даже тоскливо до слез глядевшим на нее Сашкой.
Но не один он, а все мы были не только озадачены, а просто возмущены ее поведением. Это походило на предательство.
Ведь не прошло и получаса, как она отправилась «в разведку»... За это время ей не удалось бы даже нейтралку перебежать, а не то что дважды обернуться туда-обратно, да еще наведаться в ту деревню, откуда принесла она первую записку, и всполошила стольких людей... Ведь и в штабе сейчас наверняка тоже возлагали хоть мало-мальские, а все надежды на этого небывалого лазутчика...
«Может, ее кто встретил по пути: снабдил нужными сведениями и отправил назад?..» – неуверенно предположил ефрейтор Гамов, глядя, как и другие, на бессовестно отдыхающую Мурку.
«Не городи чепухи! – разозлился помкомвзвода. – Кто это будет сидеть и ждать ее на нейтральной полосе?.. – Потом рассудительно добавил: – Это не собака, которой можно приказать: Гуляй! Ко мне! Сидеть!.. Кошки не признают команд...»
Лейтенант осмотрел пистончик. Но там, как и следовало ожидать, была только Сашкина записка. Вложив ее на место, разведчик оставил кошку в покое.
А Сашка Лисогоров, уверенный в необыкновенных способностях Мурки, переживал теперь, что в этих ее способностях разуверятся другие. Вскочил со своей нехитрой постели и, кутаясь в шинель, подбежал к творилу. Полез наверх.
Высунувшись из погреба, так что стали видны лишь одни его ноги, радостно объявил:
«Дождь!.. – И поправился: – Мокрый снег! Хлопьями...»
«Все ясно! – удовлетворенно заключил лейтенант, судя по всему, тоже обрадованный этим. – Погода для Мурки нелетная. И она с утра чувствовала ее... Ложитесь все спать!»
...Однако и на следующий день кошка в разведку не пошла: весь день провела в погребе и заночевала тут...
Вечерком только выбралась опять минут на пятнадцать – двадцать, прогулялась вокруг да около – и на боковую.
То же самое повторилось и на третий день, хотя погода была спокойная, бесснежная и безветренная...
Все стали ломать головы, пытаясь разобраться, в чем загвоздка. И опять мелькнуло у многих на этот раз уже недоброе подозрение: ее шутка ли все это?.. Какой-нибудь охламон решил нас разыграть так по-идиотски... Но где?! На передовой... Это уже не глупо, а подло – так шутить...
До истины докопался, не высказывая до поры до времени никаких предположений, но все это время лихорадочно думая, Сашка Лисогоров.
«Товарищ старший сержант! Вы сказали: кошка привыкает не к человеку, а к дому... Но ведь к еде она тоже привыкает! К блюдцу своему... К еде даже мухи липнут! А она – гладкая... Говорили – на мышей охотится. А мы здесь ни одной мышки не видели! Может, повымерзали все или, когда деревня сгорела, вместе с людьми ушли... Может, ночевать она, правильно, сюда ходила, а чтобы поесть – туда, где ее хозяева бывшие, пацаны!»
Гамов не удержался, почти перебил его восторженным шепотом:
«Са-ша!.. Ты гений... Про тебя соловьи поют...»
Сечкин погрозил ему кулаком, но объявил с не меньшим восторгом:
«Ты будешь генералом, Саша! А нас всех мало пороли в детстве! Конечно, она бегала туда пожрать! А чем там кормили ее пацаны, когда сами наверняка голодные?..
Откуда жратва у них?.. Дура она, чтобы теперь жизнью рисковать из-за корки хлеба? Ведь мы ее здесь чем только не потчуем: и мясо, и консервы, и рыба, и колбаса, и суп...»
Лейтенант, не дожидаясь, когда он закончит, встал и, пристукивая себя планшеткой по ноге, объявил:
«Завтра тому, кто даст ей хоть кусочек, оторву голову! – И приказал Сашке: – Следить!»
«А если она уйдет к тем, кто кормит, и не вернется?» – предположил Алим.
«А мы ее тогда, как перебежчика, – в распыл», – коротко рассудил Гамов.
А лейтенант заверил:
«Не перебежит. Все правильно! Здесь ее привычное жилище. Даже если она вовсе будет голодать – так скоро от своего прежнего жилья не отвыкнет».
Мы, не забывая о своих непосредственных обязанностях в блиндажах, траншеях, при каждом удобном случае забегали посмотреть: как проходит наш эксперимент...
А лейтенант и Сашка вовсе не покидали погреба.
Почти до обеда кошка вела себя, можно сказать, дисциплинированно: ни Сашке, ни лейтенанту особо не докучала.
Ближе к обеду начала беспокоиться, нервничать, даже злиться вроде за что-то на своих шефов...
А в обед прямо-таки невоспитанной сделалась: мяукать начала, лезть под ноги каждому, а потом, решив, что ее не понимают, стала впрыгивать на колени и норовила при этом сунуть свою мордочку прямо в котелок с борщом...
Было, понятно, жалко ее. Но лейтенант и Сашка бдительно следили за всеми, переводя взгляд с одного на другого – в каком направлении двигалась Мурка, хотя больше всех, наверное, Сашка и переживал за нее.
Но ни он сам и никто другой не посмели нарушить вызванный самой что ни на есть боевой обстановкой приказ лейтенанта...
После обеда кошка некоторое время еще сновала по погребу, канюча у Сашки то ли «Мя-а...», то ли «Да-ай...». А потом все-таки ушла. Голод, как говорят, не тетка...