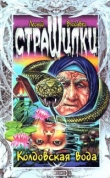Текст книги "Горюч-камень (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Михаил Глазков
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Часть третья

Глава первая
ИСЦЕЛЁННОЕ ПОЛЕ
Фронт откатился от Казачьего более чем на сотню верст, угрожающе погромыхивая по утрам. С наступлением тепла поля быстро подсыхали. Яркое солнце парило. Чубарская бригада готовилась выезжать в поле.
Бригадирка Лукерья Стребкова, осунувшаяся не столько от недоедания, сколько от мучительных дум о посевной – кому и на чем пахать землю? – ходила пасмурная, как тень, от двора к двору: подсчитывала, сколько наберется в бригаде пахарей и тягла. «У Домнухи Гороховой сохранилась коровенка, у Лобынцевых да у Багровых… Свою еще впрягу, вот уже четыре – по две на плужок. С семенами, сказали, райцентр поможет. Будем пахать. Целы ли только плужки?..» – размышляла Лукерья, шагая по стежке к кузнице, чернеющей на выгоне обгоревшими стропилами.
Подойдя к кузнице, она, к своему удивлению, увидела деда Веденея. Тот немецкой штыковой лопатой выколупывал из слежавшейся кучи навоза борону. Треух сбился на бок, на морщинистых впалых щеках дрожали капли пота. Увлеченный работой, он не заметил подошедшую бригадирку. От ее здоровканья вздрогнул, с трудом распрямил спину.
– Здравствуй, Луша! – отозвался. – Ишь как подкралась, я и не услышал. Э-хе-хе! Стар стал… Инвентарь, стало быть, добываю, днями понадобится. Как ты думаешь? А?
– Сам-то как мыслишь?
– Тут и спрашивать нечего – весна свое стребует. Лишь бы немец обратно не попер.
– Не должен. А пахать будем на коровах. Надо бы, дедуня, посмотреть, целы ли плужки.
– Целы, Луша, целы, я уж глядел. На коровах, говоришь? – и дед Веденей, хитро сощурив глаза, загадочно заулыбался: – Кто на коровах, а кто и на лошади…
– Что ты плетешь! Где у нас лошади?
– А вот и не плету. У меня, Лушенька-душенька, в закуте стоит во какой меренина! Не веришь? Приходи – посмотришь.
И, видя, что бригадирка не верит его словам, рассказал:
– Когда наши-то палить начали, немцы, стало быть, все из хаты повыбегали в лозник – оборону держать. А я, не будь дурак, взял амбарный замок и запер закуту: там их битюг стоял. Постреляли они из лозника, видят, дурны шутки, надо давать лататы. Вспомнили, видать, про битюга и – к закуте. А дверь-то на таком вот замчище. Они автоматом сгоряча по замку, да куда там – такой и ломом не одолеть, слабы в коленках. Наши, стало быть, по огороду бегут, вот-вот за штаны хватят, – немцы и удрали. А трофей мне остался – добрая лошадь, гладкая…
Лукерья от души расхохоталась. Потом обняла деда Веденея и расцеловала его не просохшее от пота лицо:
– Ну и молодец же ты, дедунюшка! Тебе прямо медаль за это надо.
– Ты скажешь, Луша! Медали мне не надобно, а с кормом след бы пособить. Он, битюг-то, стало быть, такой съестной оказался: пуда два клевера за один присест, окаянный, смолачивает. Меня, того гляди, сожрет. А сена на гумне с гулькин нос осталось – все немчура, пралич ее расшиби, разволокла.
– Ладно, придумаем что-нибудь, – отсмеявшись пообещала бригадирка.
Раньше всех поспела земля за Косым верхом. Туда-то Лукерья Стребкова и послала колхозниц – готовить клин под ячмень.
Отправились на четырех коровах: Ульяна Лобынцева с Федосьей Багровой да Настенка Богданова с Домнухой Гороховой. Настенке, не имеющей коровы, бригадирка дала свою.
Коровы, с великим трудом впряженные в плужки, не слушались, рвались из постромок, норовисто били копытами по деревянным валькам. Плужки поминутно заносило в сторону, лемеха выскакивали из борозд. Женщины то сердито прикрикивали на животных, то принимались ласково уговаривать их, гладить ладонями по костлявым потным бокам.
– Ну, Буренушка, ну иди-иди, милая! Еще немного и отдохнешь. Ох, господи, опять в постромках запуталась! Мученье одно, а не пахота! Глаза б не глядели на такую работу… Ну, пошли, пошли, милые!..
За плужками тянулись неровные, рваные борозды; вспаханный клин, хоть и медленно, расширялся. Солнце припекало, в поднебесье безмятежно распевали жаворонки.
К полудню коровенки вконец вышли из повиновения. Ульянина легла в борозду и, уронив лобастую голову на сырые комья земли, по-человечески скорбно глядела перед собой большими, мутными от слез глазами, запаленно дышала. Ребра так и ходили на ее впалых боках.
Ульяна в сердцах зашвырнула лозиновый прут, подбежала к корове, опустилась на колени и, взяв в руки ее рогатую голову, заплакала навзрыд:
– Да за что ж на вас-то, бедных, такой крест непосильный! Ну, прости меня, Зоренька, прости – сейчас распрягу! Чтоб тебе, фашист проклятый, после смерти не было места в земле!..
Подошла Федосья, тронула Ульянино плечо:
– Ну ладно, будет тебе травить душу. Не время раскисать. Вставай, распряжем и дадим отдохнуть малость.
С непривычки это они. Пообвыкнут, втянутся – куда деваться…
Женщины стали поспешно снимать с коров упряжь. В это время с другого конца загона донеслись тревожные крики: что-то случилось у Настенки с Домнухой.
Ульяна и Федосья бросили распряженных коров и побежали туда.
То, что они увидели шагах в пяти от свежей борозды, заставило невольно вздрогнуть: из-за серых кустов полыни зловеще выглядывал хвост неразорвавшейся бомбы.
– Иду себе, корову за повод волоку, гляжу, торчит что-то за полыном, – сбивчиво поясняла взволнованная Домнуха. – Я– туда, а там вон какое страшилище! Еще бы немного и…
– Бог миловал, – перебила Настенка. – А пахать дальше нельзя. Поедем, бабы, домой, скажем про бомбу Лукерье.
…Бригадирку нашли в хате деда Веденея, пособляла ему ладить пахотную сбрую для трофейного битюга. Его решили выводить завтра, на другое, Засвинское, поле – там тоже земля на подходе.
– Вы что, как бешеные? – неласково встретила Лукерья влетевших в хату женщин. – Почему так рано кончили?
– Моли бога, что не поздно, – обиженная такой встречей, сердито ответила Ульяна. – Там бомба. Во какая!
– Где?
– Где, где! За Косым, на поле, вот где! Прогляди Домка и – поминай как звали…
Лукерья удивленно и озадаченно переглянулась с посерьезневшим дедом Веденеем.
– Чья бомба-то, немецкая?
– А черт ее знает, чья она. Резнет, так не разберешься, чья.
– Ну, хорошо, бабоньки, идите отдыхайте. Будем думать, что делать с этим нежданным гостинцем.
И бригадирка, огорченная тем, что так некстати прервались с трудом начатые полевые работы, вышла вместе с колхозницами из веденеевой хаты…
Всю ночь напролет не спал дед Веденей: все обмозговывал, как быть с треклятой бомбой. По сути и думать то было нечего: как услыхал о ней, так сразу и решил, что это не бабьего, а его, мужичьего, ума забота. Ведь он – единственный мужик в бригаде, ему и освобождать поле от этой чужеземной пакости.
Дед Веденей ясно осознал всю меру смертельной опасности предстоящего дела, но он окончательно укрепился в мысли действовать немедля и с рассветом решительно принялся за подготовку.
Стараясь не разбудить бабку Секлетею, он споро оделся и, не скрипнув избяной дверью, вышел во двор. В амбарушке отыскал пеньковую веревку, прихватил моток провода – по-хозяйски отмотал когда-то у постояльцев-немцев от телефонной катушки. Взял лопату и пошел к закуте, где стоял, шумно дыша, битюг. Надеть на него хомут с постромками и вывести на гумно, было минутным делом.
У крыльца дед Веденей вдруг вспомнил что-то и, привязав лошадь к баляснику, поспешил в хату. Прокрался на цыпочках к святому углу, снял с гвоздика образок с ликом Николая Чудотворца и, сунув его за пазуху, направился к двери.
Но тут подняла голову спавшая на печке бабка Секлетея:
– Ты куда это, Ведеш, ни свет ни заря?
– Да вот… надо тут, съездить кое-куда… Ты спи, спи! Я скоро вернусь…
– А зачем это тебе понадобилась иконка?
– Иконка?.. Да-да, конечно, иконка… Я ведь с ней, стало быть, всю империалистическую прошел. Просто так… Ну ты ж и глазастая!..
– Хватит тень на плетень наводить! Куда собрался такую рань?
Пришлось все рассказать…
– Ну ты гляди там, Ведеша, близко к ней, заразе, не подходи, – слезши с печки и зачем-то поправляя у него ворот фуфайки, напутствовала бабка.
– Скажешь тоже! Зачем же мне близко! Конечно, не подойду. Ложись, ложись, не волнуйся, – дед Веденей неумело коснулся заскорузлой ладонью ее простоволосой головы, двинулся к выходу.
У дверей остановился:
– Ты тут Григорею-то, если что, ничего на фронт не отписывай. Не волнуй его, пущай воюет спокойно – у него там дела посурьезней…
– Да ты что, Ведеш, аль чуешь что?
– Это я так, про всякий случай. Ложись, говорю, еще рано.
И шагнул через порог.
На улице не было ни души, и дед Веденей, втайне радуясь этому, прибавил шаг, понукая спокойно переваливающуюся лошадь. Из калитки Федосьиного двора выглянул заспанный Венька!
– Ты куда, деда?
– А что тебе? В лес я, за жердями, – нехотя солгал тот. – Ты-то чего ни свет ни заря?
– Корову под закопом попасти до работы. Возьми меня с собой!
Дед сперва подумал, что, может быть, и впрямь взять парня, глядишь, что-нибудь и пособит. Но тут же погасил эту мысль: случись что, я-то хоть старый, свое отжил, а мальцу еще жить да жить. Нет, незачем рисковать!
– Иди, Веня, паси корову, недосуг мне с тобой.
И пошел дальше, ведя в поводу медлительного битюга.
До Косого верха дошел, когда солнце выкатилось из-за горизонта и озарило всю округу веселым розовым светом. Вешнее поле ожило, заиграло разными цветами.
Дед Веденей огляделся кругом. Сколько раз за свою долгую жизнь приезжал он сюда – еще мальчишкой с отцом, а позже сам – пахать, скородить, сеять, а потом косить хлеб и свозить его в снопах на ток! Можно ли представить себя без этого поля? Невозможно, как нельзя допустить мысль, что оно могло быть порабощенным. Вон как искорежили, изранили землю оккупанты! Снарядные воронки, словно оспины, обезобразили ее. Изувеченное поле! Изувеченное, но не покоренное, живое, ставшее после стольких, вместе перенесенных испытаний еще более родным. Он, человек, должен залечить раны кормилицы-земли. Кто же, как не он, хозяин, это сделает!
…Бомбу дед Веденей отыскал сразу: прошел по кромке вспаханного клина и без труда обнаружил ее торчащий из земли хвост.
Он стреножил обрывком немецкого провода битюга и без опаски пустил пастись, знал: никуда не уйдет этот пентюх.
Лопатой стал откапывать корпус бомбы, стараясь быть как можно осторожнее, почти не прикасаясь к коварному металлу. Бомба оказалась большой, и было непонятно, почему она не взорвалась. «Наверное, в мочажину угодила, вот и не сработала», – решил дед Веденей, не больно-то разбирающийся в тонкостях чуждого ему дела. Главное, побыстрей, до приезда баб, откопать ее, сатану, и оттащить в провал, пусть там лежит себе до поры до времени.
Провал – глубоченная карстовая ямина, куда в половодье с гудом стекает вода с полей. Говаривали, что, если спуститься в этот каменный колодец и пойти по подземелью, то можно выйти к самому Ворголу, у Горюч-камня. Дед Веденей помнит, как он мальчишкой с ребятами хотел было спуститься в провал. Обвязали его веревкой и начали спускать, до половины уж добрался, но тут из темноты как шарахнутся жуткие летучие мыши, и он благим матом заорал, чтобы тащили наверх…
Дед Веденей уморился от быстрой, торопливой работы, снял фуфайку. И только тут подумал, что копает без отдыха, должно быть, больше часа. Но и работа, стало быть, подошла к концу: бомбу, по его прикидке, уже можно было с помощью лошади вытянуть из земли. Он несколько раз обмотал веревкой корпус под стабилизатором и крепко-накрепко завязал ее. Затем растреножил так никуда и не ушедшего битюга и подвел к бомбе. Сноровисто связал постромки с концами веревки, взял лошадь под уздцы и легонько потянул за собой:
– Ну, давай, милок, давай, выручай! Видишь, твой германец напакостил… Но-но!..
Дед Веденей почмокивал, понукал битюга, и тот, натужившись, подался вперед. Постромки натянулись. «Не лопнули бы!» – забеспокоился он. Но упряжь выдержала. А бомба, качнувшись в своем ложе, с хлюпом легла на бок. «Во, какой боров!»
Дед Веденей ласково потрепал рукой по шее сильную лошадь и снова потянул за уздечку. Битюг без труда поволок бомбу по влажной, скользкой земле, оставляя глубокий глянцевый след.
Вот наконец и провал, поросший по краям кустарником. Края его круто обрывались, и деду Веденею стоило больших усилий подъехать к яме как можно ближе и чтобы лошадь не оступилась. Он отвязал веревку от постромков, затем и от бомбы, свернул ее по обыкновению кольцами и положил на сухую муравьиную кочку, заметив при этом, как деловито снуют по ней коричневые мураши – вечные труженики!
Битюга отогнал подальше от ямы, даже не стреноживая. Потом достал кисет и, свернув цигарку, закурил. Никогда вроде бы еще не был так сладок дым от самосада. Он отдыхал, преисполненный удовлетворением от только что оконченной работы. Осталась самая малость: спихнуть, проклятую, в провал и дело с концом.
Рука невольно потянулась за пазуху и благодарно погладила теплый образок.
Докурив цигарку, дед Веденей поплевал на ладони и взялся за бомбу. До обрыва было полметра и требовалось напрячь силы, чтобы столкнуть такую махину. Хорошо еще, что земля здесь с покатом – все будет легче.
Ухватившись одной рукой за куст терновника, он другой уперся в корпус бомбы, поднатужился, и та подалась вперед. А ну еще разок!
Вдруг подмытый дождями земляной козырек от тяжести обвалился, и бомба скользнула вниз. Неожиданно потерявшая опору рука вмиг ощутила пугающую пустоту. Дед Веденей, не успев ничего сообразить, чуть было не рухнул вслед за бомбой, но удержал терновый куст. Тут земля вздрогнула, колыхнулась под ним, и его швырнуло мощной волной воздуха на непаханное поле…
Взрыв докатился до Казачьего, всполошил село.
…Хоронили деда Веденея всей бригадой. Стоял солнечный день. В чистом бездонном небе пели жаворонки. А по большаку женщины несли на полотенцах гроб. На крутом берегу Воргола, где сразу же за Горюч-камнем широко распахнулся внизу луг, на котором покойный в мирное время пас лошадей в ночном, женщины бережно подняли гроб над головами, и он поплыл в голубом мареве. Дед Веденей навсегда прощался с родным Казачьим.
Глава вторая
ТАЙНА ЛЕСНОЙ ЗЕМЛЯНКИ
На Коновалихином огороде вечером солдатам расквартированной в селе части показывали кино. Белое полотно натянули на лозинки, на верхушках которых тревожно и надоедливо гомонили вспугнутые с гнезд грачи.
Поросший пыреем огород круто сбегал к речке, так что зрители – бойцы, женщины и ребятишки – сидели на возвышении, как в заправдашном кинотеатре. Даже лучше: свежий ветерок от Гаточки подувает, над головой в сумеречном небе помигивают звезды, а за спиной уютно и умиротворенно стрекочет аппарат.
Кино было очень интересное: про гражданскую войну и легендарного Пархоменко да про атамана Махно. Длинноволосый скидух-атаман надрывно пел тягучую песню:
Как первая пуля
Срезала меня,
А вторая пуля
Ранила коня…
Потом поднялась стрельба, и со вздрогнувших лозинок с суматошным карканьем взлетели грачи, сея от испуга на головы зрителей белые капли. У, чтоб вам было пусто!
Венька со своей сестренкой Варькой, Мишка, Семка, Витек Дышка да Сашок Гуля сидели кучкой, то и дело толкая друг дружку локтями и показывая на полотно:
– Гляди, гляди – догоняет беляка!
– Шешаш ка-ак шеканет шаблей! Вот так тебе, шобака!
– А Махно-то на Гитлера похож, такой же припадочный!
– Точно, усы приделать, ну прямо окапанный Гитлерюка!..
– Да тише вы, анчихрята! Нигде от них спасу нет, поглядеть не дадут! – сердито ворчали и цыкали на разошедшихся в воинственном пылу ребятишек бабы. Да куда там! Приумолкнут те на минутку и опять за свое.
Кино подошло к концу, аппарат умолк, погасло полотно, и люди нехотя стали расходиться. Довольные грачи слетались к деревьям, спеша угнездиться на ночь в своих воздушных жилищах.
Ребята уходить домой не торопились, хоть матери и пристрожили, чтоб не задерживались после кино. Они встали в кружок и продолжали живо обсуждать картину.
– Знаете что, – прервал вдруг всех Мишка. – Завтра мама посылает меня в лес за хворостом, что если заодно сходить за грачиными яйцами? Такой яишни нажарим!
– Вот здорово! Пойдем! – не раздумывая поддержал Венька, мгновенно успев нарисовать в своем воображении вкусную еду.
– Можно и мне с вами, Вень? – попросилась Варька.
– Если мама отпустит, почему ж нельзя.
А Мишка вдруг почувствовал робкое теребление рубахи: теребил Семка.
– Ты чего, Сема?
– А меня с собой в лес возьмете?
– Во, чудик! – хмыкнул Сашок Гуля. – Да что мы там с тобой, слепым, будем делать!
Семкины незрячие глаза от обиды вмиг наполнились жгучими слезами. Он выпустил из кулачка Мишкину рубаху и пошел по пырею во тьму.
– Куда ты, Сема? Упадешь! – кинулась вслед Варька и взяла его за руку. – Ну пойдем, пойдем домой! Я отведу.
Мишка, не ожидавший такой подлости от Сашка, вначале опешил: что? что он сказал? Ах ты, гадство!.. Он ухватил Гулю за грудки и с размаху залепил ему кулаком в лицо. Тот упал и, размазывая под носом кровь, завыл:
– Ладно, ладно! Погоди, братка с войны придет, он тебе отомстит! Он тебе не так сопатку расквасит!..
Утром Венька растолкал сладко спавшую сестренку:
– Вставай, Варька, одевайся, скоро выходим.
Накануне, перед сном, Варька выпросилась у матери в лес.
Быстро собравшись и перекусив лепешками из прелой картошки – питались только ими да еще крапивными щами, забеленными молоком, больше ничего не было– ребята, не забыв прихватить спички и сковородку, вышли на улицу. Дышка уже сам шел навстречу, подпоясанный веревкой – тоже дрова не лишние.
– Зайдем за Мишкой и за Семкой, – сказал Венька.
– Зайдем.
Мишка уже собрался, а Семка лежал на печи, хоть и не спал.
– А ты чего не собираешься?
– Куда?
– Как куда, в лес. Забыл что ль?
Семка молча сполз с печки и принялся шарить руками под лавкой.
– Ты чего хоть ищешь? – спросил Мишка.
– Веревку.
– Да вон она лежит, на конике.
Солнце уже высоко поднялось в небе, здорово припекало, когда ребята вышли из села. Они сняли рубахи и завязали их на животе – так загорят быстрее. Только Варька шла в ситчиковом платьишке, стесняясь что ли снять при мальчишках, хотя ей тоже очень хотелось загореть.
– А мы сковородку взяли, – приподняв мешочек и постучав по нему пальцем, сказала она Мишке и Семке с Дышкой. – И спички.
– А соли?
– Соль нет, не брали…
– Ну нишего, беж шоли шлопаем, – заключил Витек.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить,
– запел от избытка чувств Мишка песню из вчерашнего кинофильма.
…Лес встретил их звонкой птичьей разноголосицей. Березки, с проклюнувшимися первыми листочками, стояли, как именинницы, в легких косынках. Зазеленели черемуховые заросли по лощинам. И только дубы, казалось, не замечали весны – громадные, с какой-то величавой независимостью, высились они над мелколесьем, без единой зеленинки, с морщинистой кожей на мосластых стволах и сучьях. Вершины их были в несколько этажей усеяны грачиными гнездами.
– Ну, братцы, и яичница будет! – в восторге воскликнул Мишка и тут же приказал Варьке:
– Ты с Семкой собирай хворост для костра. А мы с Витькой полезем.
Потом, спохватившись, передумал:
– Нет, сидите-ка лучше тут, а то еще заблудитесь.
– Хорошо, – ответила согласная на все Варька, счастливая, что ее взяли в лес.
Мишка, Венька и Витек натянули на себя рубашонки, чтоб не ободрать пузо, и покарабкались на ближайший дуб. Мишка был посноровистей, и первым добрался до гнезда. Грачи, почуяв недоброе, снялись с дерева и черной тучей, с гамом, нависли над головой.
Как первая пуля
Срезала меня.
А вторая пуля
Ранила коня…
Мишка дотянулся рукой до гнезда и пошарил:
– Есть!
Стал складывать яйца в картуз, взяв его в зубы. Опустошив гнездо, полез выше. Дорвался до яиц и Витек Дышка:
– Ой, школько их тут. Объедимши!..
Картузы были наполнены мигом. Дышка пожадничал и стал было класть яйца в карманы штанов, но вскоре бросил это занятие: яйца раздавились и потекли по ногам. Витек с досады хрипло завыл – говорить мешал зажатый в зубах картуз – и резво полез вниз.
– Во школько! – похвастался он, спрыгнув на землю и показывая содержимое картуза Варьке, а Семке дал пощупать руками.
– Да-а!..
Решили пока больше не лазать – сначала поесть те, что набрали, там видно будет. Все равно на сковородку много не войдет.
Насобирать хвороста было нетрудным делом. И вот уже затрещал костерок, весело заплясало пламя, вкусно запахло дымом, предвещающим хорошее угощение.
Маленькие, сероватые яички были разбиты над раскаленной сковородкой в мгновение ока – три пары расторопных рук споро управились с этим приятным делом. И – вот она, долгожданная яишня, с дразнящим парком и соблазнительной желтой корочкой. То-то попируем! Эх, еще бы хлебушка сюда настоящего, ржаного, каким, бывало, дед Веденей в колхозной кладовой оделял перед выездом в поле! Ну да, на худой конец, можно и без хлеба. Ребята, обжигаясь, брали руками и смачно уплетали куски разрезанной ножичком яичницы. Опорожнили сковороду в два счета. И про кричащих в верху обиженных грачей на время забыли. Но когда поели, невольно подумали о них.
– Оно, правда, немного жалко грачей-то! – сказал Мишка.
А Варька сразу погрустнела: да, нехорошо они все-таки сделали из тех яичек граченятки могли получиться, а они их полопали…
– Нишего, они еще нанешут! – попробовал успокоить Витек проснувшуюся совесть и тут же сам подлил масла в огонь – Мы ш вами навроде энтих фашиштов – пришли и жабрали не швое…
– Я сейчас тебе такого фашиста приварю, сам себя в зеркале не узнаешь! – вспылил непонятно с чего Венька. – Развякался тут!
– Я шего… я нишего, – испуганно забормотал Дышка.
И хотя никто досыта не наелся, больше ни словечком не заикнулись о яичнице. Пошли собирать дрова.
Глубоко от опушки не забирались: сухого хвороста и здесь было навалом, каждый за десять минут собрал по полвязанки, еще по столько же и можно домой.
На пути попадались притрушенные прелой листвой окопы, с тусклыми гильзами на брустверах, видели две-три землянки. Правда, заходить в них не рискнули: мало ли что, а вдруг в какой-нибудь волки зимовали и сейчас там сидят.
Вот и собраны вязанки, осталось лишь увязать покрепче веревками и – в путь. Тем более, что от Афанасьева надвигалась темнющая туча.
– А ведь мы, братцы, не успеем до дома дойти – скоро дождь пойдет, – поглядев на грозную тучу, определил Мишка, – Давайте лучше в землянке пересидим.
– А не штрашно в жемлянку-то лежть? – забеспокоился Дышка.
– Так и сделаем, – словно не слыша Витька, заключил Мишка… – А дождь кончится и пойдем.
Взвалив на спины вязанки, ребята пошли в ту сторону, где только что видели землянки. Нашли их скоро: безлиственный лес далеко и легко просматривался. Сбросив хворост недалеко от входа в землянку, Венька с Мишкой понимающе переглянулись между собой, словно спрашивая: ну, кто из нас двоих войдет первым? Не Семку же и не Варьку посылать! Мишка прочел в глазах друга не только вопрос, но и просьбу пожалеть его – что поделаешь, если коленки начали предательски дрожать при одной только мысли о пугающей темноте пустой землянки! И Мишка понял его, пожалел:
– Стойте здесь все, я сначала один загляну.
И нарочито твердой походкой двинулся к почерневшей от сырости дощатой двери, больше похожей на подвальный лаз. Дверь неприятно заскрипела, и Мишка ступил в темноту. Оставшиеся снаружи затаили дыхание…
Вдруг из землянки донесся приглушенный крик:
– А-а-а!..
Дверь со стуком распахнулась, и пулей вылетел испуганный Мишка. Цепко ухватив за руку Варьку, он увлек ее за собой, истошно крича:
– Тикайте! Тикайте!.. Там кто-то есть!..
Семка тоже бросился бежать, но тут же больно ударился головой о дерево и упал. Венька подхватил его под мышки, поднял и потащил за руку вслед за убегающими ребятами. За спиной раздалось:
– Стойте! Постреляю!..
Прогремел выстрел.
Беглецы припустили еще шибче. В эту минуту в лесу потемнело и хлынул проливной дождь. Полыхнула молния, гуданул, раскатываясь по лесу, гром.
Ребята без оглядки бежали к опушке, натыкаясь на пни, падая и снова поднимаясь. Позади и над ними сверкало, громыхало и бухало. И было трудно понять: то ли это гром, то ли продолжает, стреляя, гнаться за ними по пятам ужасный жилец заброшенной землянки…
Вот наконец и спасительная опушка! Быстрее из лесу, на голое поле! Пусть дождь хлещет, как из ведра, и негде укрыться, зато здесь нет таинственного лесного незнакомца.
Выскочили на раскисший от дождя большак – мокрые, грязные, в разорванной одежде, со ссадинами на лицах и без вязанок – в страхе бросили их у землянки. Оглянулись на черный лес, мельком оглядели друг друга и, дрожа неизвестно от чего больше – от холода или от страха, – приударили к видневшемуся за сеткой дождя селу…
Первая встретила их на улице Коновалиха. Завидев грязных и оборванных ребятишек, она быстро закрестилась, как при наваждении: «Свят! Свят! Свят!» – и засеменила в хату.
Мишка первый подбежал к ближайшему блиндажу и загромыхал кулаком. На пороге вырос высокий сержант:
– Что тебе, хлопец?
– Товарищ сержант! В Хомутовском лесу враг прячется! В землянке! Прямо недалеко от опушки, у большака…
– Враг, говоришь? А кто тебе сказал?
– Сами видели! – выдохнул подбежавший Венька. – Он стрелял в нас, да не попал. Мы только что оттуда.
– Хорошо! Молодцы, что сказали! А теперь идите домой, да живо, матери, небось, ждут, волнуются. Ишь как разукрасились!
…Бойцы в тот же час прочесали опушку леса, обшарили все землянки, но так никого и не обнаружили.
Глава третья
ВЕНЬКА ПАШЕТ НА КОРОВАХ
Варька слегла. Всю ночь металась на постели, временами то шепча, то выкрикивая обрывочные слова:
– Черный, черный… Веня… тикайте… вязанку…
Мать, ни на минуту не сомкнувшая глаз, не отходила от девочки: прикладывала к ее горячему лбу холодную мокрую тряпку, поправляла одеяло.
К утру Варька притихла. Свернувшись комочком, уснула, тяжко и часто дыша.
Едва лишь взошло солнце, Федосья разбудила тоже неспокойно спавшего ночью Веньку:
– Вставай, сынок! Вставай, дитятко, поедешь за меня в поле… Да поднимайся же, вечером пораньше ляжешь, доспишь.
Венька ожесточенно протер кулаками неразлипающиеся глаза, сидя потянулся напоследок и спрыгнул с печки.
– Уснула?
– Только что.
У Веньки у самого с вечера кружилась голова – простыл, видно, от проливного дождя. Но что поделаешь, это Варьке вон можно болеть – она маленькая…
Нехотя позавтракав холодными лепешками с молоком, он вышел в сенцы. Подобрал с пола сбрую, отправился в закуту выводить корову. Та на скрип двери повернула голову, уставилась на Веньку умными глазами.
– Ну что глядишь, пойдем! Плужок тебя ждет. Ты теперь у нас и за кормилицу и за трактор…
На улице за Венькой увязалась соседская собака с потешной кличкой – Цурюк. Прилипло к ней это иноземное слово, когда еще в селе были оккупанты. А дело происходило так. Немцы не очень-то церемонились с населением: цапали, где что попадется и что могло мало-мальски сгодиться. Вот и в дом соседки как-то ввалились двое, позыркали глазищами по хате и один из них, заприметивший сохнувший после стирки пуховый платок, потянул его с веревки. Тут-то и метнулся из чулана настороженно и зло следивший за чужаками хозяйский пес. Второй гитлеровец только и успел крикнуть: «Цурюк!», а уже тот в мгновение ока располосовал первому брючину и добрался до ляжки. Завопив благим матом, немец рванул из хаты, волоча за собой разъяренную собаку. И лишь на крыльце каким-то образом сумел избавиться от нее, суматошно сорвав с шеи автомат и хряснув им четвероногого врага. Тот завизжал от боли и скрылся за амбаром, что и уберегло его от пули. Гитлеровцы-таки вернулись в хату, избили хозяйку и, кроме пухового платка, забрали еще валенки из печурки и банку соленых грибов с окошка.
А собаку с той поры так и стали звать – Цурюк да Цурюк. Та поначалу дыбила шерсть и рычала при звуке этого ненавистного слова, потом понемногу свыклась с позорной кличкой…
Отломив половину лепешки и дав псу, Венька потянул за повод корову – деревянный валек на постромках загрохотал по дороге.
В поле уже были женщины-пахари и с ними – Лукерья Стребкова.
– Вот вам и еще один пахарь, – встретила с улыбкой Веньку бригадирка. – А говорят, у нас мужиков нету!.. Или что случилось с матерью?
– Да нет, Варька заболела. Всю ночь металась – жар у нее.
– Чего же ты молчишь! – вспылила Лукерья. – Надо в город, за доктором съездить.
И ходко пошла в сторону села.
Венька с помощью напарницы – тетки Ульяны впряг коров в плужок и взялся за рукоятки. За лемехом потянулась свежая борозда. Нивесть откуда налетели черные, как чернозем, грачи и сноровисто заработали длинными носами.
Венька шел за плужком и думал невеселую думу. Вот и немца из Казачьего прогнали, а все трудно, и не скоро, наверно, полегчает. Может, когда картошка вырастет да хлеб поспеет? Но ведь их еще сажать, сеять надо!.. Когда-то они вырастут! А интересно, бывает ли, что похоронки ошибаются? Может, и к ним ошибочная пришла? И отец жив? Как это так: он был и уже никогда больше не вернется? Эх, хорошо бы ошиблась!..
Венька очень любил отца. Как сейчас помнит последний сенокос с ним в Хомутовском лесу. Понабирали тогда с собой всякой всячины – и ветчины, и пшена, и картошки– на весь месяц ведь уезжали. Постой, где же это они тогда косили? В Климакином логу? Нет. В Правороти? Да на Острове, за кордоном, вот где. Помнится, он, Остров-то, еще не был засажен сосняком – просторище, а кругом орешнику полно, по осени мешками носили орехи – и выщелкнутые и в гранях.
Прежде всего сделали с отцом шалаш для сна. У двух молоденьких березок макушки пригнули, связали, а сверху наклали жердей с наклоном, а на них – травы. Ох и жилище получилось! Днем жарища, от солнца не знаешь, куда деться, а в шалаше, как в погребе, – холодок. Завалишься на мягкое, духовитое сенцо, ну, чем тебе не барин! Правда, валяться особо-то не приходилось: косить вставали до солнца и махали косами до тех пор, пока роса на траве не высыхала. На ладонях – мозоли, все суставы болят, ноги – стопудовые. Но зато идешь к шалашу такой гордый, что будто ты нивесть какое диво сотворил: вон сколько травы навалял! «Ну, а теперь будем кулеш варить», – говорил отец. Он доставал ножик, точил его о монтачку и сам принимался чистить картошку, а его посылал хворост собирать и костер разводить. А кулеш получался! Одно объеденье! Ешь, ешь и все не наешься, только пузо пальцем щупаешь – не лопнуло бы, как барабан! «Еще, Веня, сальца съешь», – подсовывал отец смачные ломтики окорока. А тебе уж и не до сала, ни до чего, поскорей бы в шалаш нырнуть да на сено завалиться…
– Венька! Да ты куда глядишь, ослеп что ль! Плугом по траве елозишь! – раздался громкий голос Ульяны. – То-то, я чую, легко пошли! Задремал, что ль?
– Да не-е, – смущенно отозвался Венька и оглянулся: вместо борозды за ним тянулся тонкий, еле срезанный поверху, пластик земли. Ну и работничек!