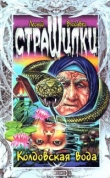Текст книги "Горюч-камень (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Михаил Глазков
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Отец страдальчески моргал слезящимися глазами, силился подняться, но единственная нога не слушалась.
– Сынок! Повинись, может, простят!
Петька, прижавшись, как затравленный волчонок, к простенку, молчал. Он судорожно искал выхода из создавшегося положения и не находил. Врать, что не брал пистолет, бесполезно – как видно, его ждали у дома и видели, как он прятал оружие. О спасенных же военнопленных, которые очень интересовали немцев, пусть хоть режут его на куски, он ни за что не скажет.
– Партизанен! Партизанен! – истерично выкрикивая, унтер-офицер принялся ногами избивать мальчика.
– Пан солдат! Не бей ты его! Погоди! Он все вам скажет! – взмолился отец.
Немец угомонился. Петька, скорчившись, по-прежнему затравленно молчал. Живот болел от ударов сапога, Петька от подступившей обиды и боли чуть было не заплакал. Но тут же сдержался – чтобы эти звери слезы увидели! Ни за что! На кулачках тоже бывало больно – терпел же.
Немцы о чем-то поколготали у стола. Потом один из них подошел к Петьке и ловко связал ему ремнем руки– решив, видимо, до утра подождать с допросом.
Отец всю ночь ворочался на соломе, всхлипывал, сокрушался. В полночь тихонько позвал:
– Петя! Подползи ближе, я развяжу. Беги, ради бога!
– Никуда я не побегу, – решительно отверг тот. – Чтобы тебя насмерть забили?
…Утром, когда немцы встали и оделись, Петька вдруг обратился к ним:
– Пан солдат! Я знаю, где партизаны! Я, я знаю партизанен!
– О, о! Гут-гут, мальшик! Партизанен? Гут!
Петьке крепче связали руки, двое повели его в штаб, что был на соседней улице, в бывшем здании кружевной артели. Над селом разыгрывалась метель.
За столом, куда ввели Петьку, сидел тощий немец в очках, но по погонам видно было, что он большой начальник. Немцы, приведшие мальчика, сухо щелкнули каблуками, вскинули руки: «Хайль Гитлер!»
Оставив Петьку у двери, они прошли к столу и стоя долго докладывали по-своему. Потом немцы вывели Петьку в коридор, под охрану часового, а сами удалились куда-то.
Горько было на душе у Петьки, но голова стала ясной, мысль работала четко и от этого словно прибавилось сил. Да, выхода нет. Да, он не мог убежать из хаты ночью, не подводить же еще раз отца под удар. Но он может, он должен еще сказать последнее слово, чтобы ни Начинкин, ни друзья, ни тетя Луша не думали бы о нем плохо, не заклеймили бы его позорнейшим словом– трус. Нет, он еще не сбит на колени!..
Вернулись те два немца, развязали Петьке руки и приказали идти за ними. На дороге стояла, потрескивая моторами, большая колонна мотоциклов – в колясках сидели вооруженные немцы. Все ясно!
Петьку усадили в пустую коляску переднего мотоцикла. Сидевший позади водителя немец в каске тяжело опустил ладонь на Петькино плечо:
– Мальшик, ехать партизанен!
Петька рукой показал, пусть-де едут вперед. Мотоцикл взревел и рванулся с места, за ним – вся колонна. Ладно, он им покажет «партизанен!»
Колонна мотоциклов, по знаку Петьки, проследовала через площадь, повернула в проулок и устремилась к окраине села. Сквозь снежную круговерть смутно проглянула излучина Воргола, просторный белый луг, где не так давно Петька с друзьями и дедом Веденеем пас в ночном лошадей. А там вон где-то и Горюч-камень, с полевой дороги совершенно не видный. Гордый, неприступный и никакими врагами не поверженный. Туда-то и ведет Петька фашистов, что искорежили родное село, избили его, обидели отца. Он хорошо продумал все ночью, времени для этого было много. Он ясно представлял, что ему делать. На ум пришла песня:
Пусть их тысячи там,
Нас одиннадцать здесь, —
Не сдадим мы врагам
Нашу землю и честь…
Мотоциклы вырвались на полевую дорогу, прибавили скорость. Недалеко теперь и Горюч-камень с отвесно обрывающейся кручей.
На открытом месте сдуло весь снег и рыжие метелки ковыль-травы то пригибались, то выпрямлялись под порывистым ветром. Снег больно хлестал в лицо. Петька резко указал рукой по направлению к Горюч-камню. Мотоциклы свернули и, взревев, двинулись по бездорожью.
Петька весь напрягся, сжался в комок – ну, давай скорее! Ну!
Вдруг передний мотоцикл, споткнувшись, завалился набок. Петька вылетел из коляски, водителя придавило мотоциклом.
– Хальт! Хальт! – истошно заорали сзади.
Колонна остановилась.
Мотоцикл наехал на засыпанную снегом промоину, когда до берегового обрыва было рукой подать.
Петька попытался встать, но не смог – колено прострелила такая боль, что на лбу выступила испарина. В голове забилась мысль: все пропало!
Фашисты, ругаясь, сгрудились у лежащего мотоцикла, высвободили из-под него водителя. Двое зачем-то побежали вперед. Вскоре вернулись и начали что-то громко говорить остальным. Все разом поворотились к лежащему мальчику…
Петька стоял на краю обрыва, спиной к ледяному простору, лицом – к разъяренным врагам. Что думал он в предсмертную минуту? Какие картины проносились перед его взором? Может, видел он лесной кордон, друзей своих и партизан? Может, думал с горечью, что не дождался он того часа, когда село станет снова свободным?
Фашисты вскинули автоматы…
Внизу под Горюч-камнем гневно кипел на незамерзающей от родников быстрине Воргол.
Глава десятая
ИСПЫТАНИЕ
Казачье ахнуло, пораженное подвигом Петьки Рябцева.
Не успели улечься толки об этом событии, как другая новость потрясла село: ночью, облив керосином пол и стены, заперев ставни и закрутив изнутри дверь проволокой, Захар подпалил хату. Сгорели немцы, все четверо, что схватили Петьку. Погиб в огне и сам Захар.
Немцы озверели. Они факелами подожгли несколько соседних хат и из автоматов постреляли их жителей. Ледяной ужас сковал село.
…Мишка исхудал, осунулся от недоедания и постоянных тревог. Картошка подошла к концу, правда было ее еще немного спрятано в деревянном сундуке, но бабушка повесила на него замок – избави бог трогать, на семена только и хватит.
Варили кормовую свеклу и ели с испеченными из отрубей лепешками. Но кончились и отруби, и Мишка с тоской думал, что до весны еще не скоро и чем они будут кормиться – неизвестно.
– Вот скоро, голубок, поля оттают – картошку гнилую будем собирать, лепешки печь – не погибнем, бог даст! – утешала его бабушка. А сама по утрам насилу поднималась с постели. Согбенная, усохшая вся, она удивляла Мишку крепостью духа. Она и в него вселяла силы и терпение.
– Ты бы полежала, бабушка! Я сам сварю, – говорил Мишка, отбирая из ее дрожащих рук чугунок с намытой свеклой.
– Ничего, голубок, ничего. Доживем до весны, поля оттают…
Она забывчиво повторяла то, о чем говорила минуту назад. И у Мишки больно сжалось сердце от жалости к ней.
– Баушк! А что если мне сходить в Афанасьево и обменять мамино пальто на картошку? А то и мои ботинки…
– Куда ты пойдешь! Немцы по дороге отберут, – слабым голосом возражала бабушка. У нее уже не было сил добавлять привычное слово – анчихристы.
И Мишка замолкал, он мысленно соглашался с ней– и впрямь немцы отнимут вещи. Ведь уволокли же они из хаты ватное косиковое одеяло и плетеную постилку. Приходится теперь с бабушкой укрываться стареньким чекменем да фуфайкой. Как-то прибегал Семка – и у них фашисты пограбили, даже подшитыми валенками не погнушались…
Однажды в полдень, когда скупое зимнее солнце светило в чуланное окно, бабушка, уже несколько дней не встававшая с постели, как-то неестественно тихо позвала Мишку. Тот подошел с встревоженным взглядом.
– Плохо мне, Миша… Видно, черед мой пришел… сходи сейчас к Фекле…
Помолчала, перевела трудное дыхание.
– Если что случится, к ним перебирайся… Голубок ты мой!
Страдальческие глаза ее повлажнели, и Мишка ладонью провел по ним, отер слезы. Не в силах был ничего сказать.
– А картошку на семена береги… Не век тут немым быть… к весне, бог даст, прогонят… Огород посадишь.
Мишка не выдержал, заплакал. Выбежал, боясь разреветься, на улицу. Постоял за углом, трясясь от рыдания. Мороз прохватил холодом, и он немного успокоился, пошел по переулку.
Тетка Фекла, Семкина мать, была дома, крутила ручную мельницу с Семкой. Всполошилась, увидев заплаканного Мишку.
– Аль что случилось?
– Бабушка умирает…
И Мишка, уткнувшись в теплый фартук тетки Феклы, заплакал навзрыд.
Когда они втроем пришли в Мишкину хату, бабушка уже была недвижная, лежала, словно сморенная сном. Сморщенное личико ее выражало успокоенность и неведомую доселе Мишке отчужденность.
Тетка Фекла молча перекрестилась и накрыла бабушку простыней.
– Упокой, господи, душу рабы твоей Парасковьи.
Мишка остро почувствовал свое одиночество, даже все в хате показалось ему каким-то чужим и стылым.
– Сема, идите с Мишаткой к нам, я скоро приду, – сказала тетка Фекла. – Да не плачь, ей хорошо – отмучилась, бедная, больше не увидит этих проклятых извергов… Ступайте, ступайте, сыночки мои!
…И началась у Мишки новая жизнь, в чужом доме, сирота не сирота – приемыш. И все же не один – в семье, хоть и в соседской. Сначала никак не мог привыкнуть, проснется утром, глазами – луп-луп! – где это он: свет в окнах такой же, а все кругом не так. И матица над головой не в таких трещинах, и трубка не на месте. Потом уж проморгается, оглядится – вспомнит, что не в своей он хате, а в Семкиной. Да вот он и Семка рядышком, под полушубком ежится – к утру кирпичи на печке остывают и становится зябко.
И еще плохо – голоднее стало. Бабушка всегда находила что-нибудь сварить. Хоть раз в день, но находила. А здесь и картошка раньше, чем у них, кончилась, питались жидким киселем из овсяной отмашки, да выменивала тетка Фекла кое у кого мороженую – блюдами– барду, по лепешке на каждого в день давала.
Однажды Мишка пошел в свой дом, нового дружка проведать – там теперь жила семья эвакуированных из Залегощи. Был в той семье Мишкин ровесник – Витек Дышка. Так его прозвали за то, что лепешки из барды называл по-своему – дышками. Прилипло это прозвище к нему, как репей к телку.
Немцы, когда заболела Мишкина бабушка, в дом не заглядывали, боялись тифа. И сейчас его стороной обходили на радость эвакуированным. Но сразу же за домом в переулке ставили грузовые машины.
Пока бежал Мишка, портки, из плащ-палатки сшитые, встали колом, коленки замерзли, и Мишке не терпелось скорее вскочить в хату. Как вдруг замечает: стоит в переулке грузовик и из-под брезента виднеются буханки. Гора хлеба! Настоящего хлеба, которого не ел, кажется, вечность!
Мишка позабыл и про холод, и про зябнущие коленки. Воровато оглядевшись по сторонам, он подбежал к машине и зашарил глазами: на что бы встать – не дотянуться до буханок. Нашел. Встав на выдавшуюся из-под борта скобу, Мишка подтянулся и, жадно ухватив пятерней буханку, спрыгнул. И тут же весь похолодел от неожиданности и страха.
Позади него стоял немец в черном комбинезоне. Стоял и, как определил Мишка, недобро улыбался.
Первым желанием было броситься в сторону, в обход немца. Но тут же Мишка сообразил, что от такого долговязого не уйти. Тогда он, сам не понимая, как додумался до этого, протянул ему хлеб:
– Нате вот – упал из машины…
И тут немец, как и Мишка с минуту назад, озирнулся по сторонам, подошел к кузову, достал буханку и поспешно сунул ее Мишке под фуфайку:
– Форт, форт, кнабе! Бистро, мальшик! – и подтолкнул в спину.
Две буханки, чудом раздобытые Мишкой, тетка Фекла растянула на неделю – отрезала по тоненькому ломтику только ребятам, сама же сметала со стола просыпанные крошки и благоговейно клала в рот, как невиданное лакомство.
Забытый вкус хлеба бередил Мишкину память, вызывал из недавнего прошлого дорогие сердцу картины. Бот дед Веденей выносит из амбара и подает ему и друзьям перед выездом в поле по большой краюхе духовитого ржаного хлеба, с прилипшими с исподу капустными листьями. Хлеб словно дышит в руке – мягкий, с тоненькой румяной корочкой, как тут удержишься, чтобы не откусить.
Хлеб начал сниться Мишке. Приснилось ему раз, что возвратилась с окопов мать и вывалила из мешка на стол целый ворох ковриг.
– Мам, а почему на нижней корке нет капустных листьев? – притворяясь, что не очень голоден, интересуется Мишка и, не ожидая ответа, отламывает от ковриги кусок, жадно подносит ко рту. Но, странное дело, откусить ему ни разу не удавалось – всякий раз он просыпался то ли от Семкиного ерзанья под полушубком, то ли от лающего окрика немецкого патруля за окном…
…Скорей бы приходила весна. Обычно ей радовались– наступала пора перехода от долгого зимнего сидения и затишья к деятельному движению. Все сущее в селе тянулось на простор, к солнцу, в поле и на пастбища. Но нынешняя весна вряд ли принесет радость – село наводнено врагами, ими забиты все хаты и подворья, огороды и околицы. Смерть и разорение сеяли они вокруг.
Морозы сменила оттепель. Оттаяли в поле пригорки, на бывших картофляниках появились черные проталины. И люди, с кошелками в руках, брели туда за мороженой картошкой – последней надеждой на спасение. Голод притупил осторожность. Поговаривали, что где-то за селом немцы наставили мин на случай отступления, но люди шли, не задумываясь, что под снегом таится опасность: там, на оттаявших буграх, их ждала пища.
– Миш, пойдем в поле, – предложил Семка, увидев, как по улице Коновалиха пронесла кошелку с прелой картошкой.
– Ладно. Только я сбегаю за Дышкой – он тоже пойдет, – быстро согласился Мишка.
И вот они втроем, с ведрами, а Семка еще и с санками– мать навязала – идут по прогону на дальнее поле, к самому Хомутовскому лесу. Семка с Мишкой хорошо помнят, где осенью была картошка. Там наверняка еще никто не был, и они обязательно принесут по ведру.
У обочины снег набух водой и потемнел, вверху светит и греет спины солнышко, на душе у ребят весело. Принялись дурачиться, на ходу сталкивать друг дружку с дороги. Витек Дышка оступился, сунулся по колено, зачерпнул снегу в кирзовый сапог. Ойкнул, сел, принялся вытряхивать из голенища.
– Ну я шешаш вам жадам! – сидя, погрозил он кулаком. – Дай только шапог взждеть!
Мишка с Семкой пришпорили по дороге, за ними– рассерженный Витек.
Незаметно так дошли до картофельного поля.
Семка, волоча салазки, свернул с дороги первый: черная проплешина неудержимо влекла к себе, сулила удачу. Оставив салазки снегу, Семка начал споро ковырять землю палкой.
– Есть! – крикнул он через минуту. – Во какие крупные!
И показал три прелые картофелины.
Стали попадаться клубни и Мишке. Витек не догадался захватить с собой палку и разрывал землю руками. Холодная и липкая, она быстро студила ладони, и Витек часто дул на них. Картошки он собрал меньше всех. И Мишка, набрав за час почти полное ведро черных сверху и кипенно-белых внутри клубней, отдал палку другу.
– Ребя! – сказал вдруг Семка. – Постойте, я добегу вон до той проталины! Глядишь, наберем еще по ведру.
– Брось ты! Ну куда мы их будем класть? – воспротивился было Мишка.
Но Семку поддержал Дышка:
– Давай, Шема, беги. Шложим у дороги и еще раж придем иж дому.
Семка прихватил салазки и побежал по снегу. Ребята продолжали собирать клубни.
Вдруг воздух потряс недальний взрыв. Мишка с Витьком повалились на землю. В недоумении подняли головы– самолеты? Но небо было чистое. И тогда в их сознании вспыхнула страшная догадка…
Семка лежал на грязном снегу, не добежав несколько метров до талой земли. Под ним расплывалась кровь. Салазок рядом не было – отлетели, видно, ими он зацепил противопехотную мину. Мишка с Витьком бросились к другу. Опустившись на колени, повернули его лицом к солнцу. Семка застонал. Жив!
Бросив в поле ведра с картошкой, ребята мигом соорудили из палок и двух фуфаек подобие носилок, положили на них Семку и, сгибаясь от тяжести, медленно пошли в село со своей горестной ношей.
Глава одиннадцатая
ЗАСАДА В ХОМУТОВСКОМ ЛЕСУ
Дождавшись темноты, Мишка вышел из дома и прокрался задворками на околицу. Выломал в плетне последнего огорода палку, вышел на большак и заспешил к Хомутовскому лесу. Там была единственная надежда на Семкино спасение. Он шел на кордон, к Евстигнею Савушкину. Уж он-то что-нибудь придумает.
Поля были окутаны мраком, во время оттепели ночи всегда становятся темными, хоть глаз коли. Но Мишка хорошо знал дорогу, да ее и запоминать-то нечего – в любое время года наезженная, она пролегла прямо и немного наизволок. Кромешная темень ничуть не пугала, Мишка знал, что волков нет, война повыгоняла их отсюда, а немцы боятся и полей, и лесов, и их он тоже не должен встретить.
Временами нащупывая палкой дорогу, чтобы не оступиться в снег и не начерпать в сапоги талой воды, Мишка шел и вспоминал последнюю предвоенную весну. Широко тогда разлился Воргол, подпирая напористыми водами и Хомутец, и в обычное время метровой ширины Гаточку. И обе речки тоже вышли из берегов, затопили прибрежные сады и огороды, скрыли под водой деревянный, без перил, мосток. И он, Мишка, с отцом весь день ездит через этот мосток – людей с берега на берег перевозит. Вода лошади по брюхо, а на телеге сухо и солома укромно подстелена. Подковы приглушенно постукивают под водой по камням шоссе. Запнется лошадка о вымытый водой из земли булыжник, и сидящие на телеге женщины так и охнут в испуге. «Ничего, ничего, девки! Держитесь за землю – не упадете!» – смеется отец и легонько стегнет по мокрому от брызг крупу лошади.
А ближе к вечеру, когда возить уже становится некого, отец поворачивает к дому и говорит: «Ну, сынок, а теперь пора и рыбки половить!» Сеть, растянутая на лозиновом полукружье, с утра стоит, прислоненная шестом к погребу, просыхает на вешнем солнышке от амбарной плесени. «Бери ведерко!» – командует отец, а сам взваливает шест сети на плечо, и они вдвоем идут к лодке. Потом отец гребет веслами, а Мишка, погромыхивая о ребра лодки жестяной кружкой, вычерпывает воду. Все ему по нраву, даже эта, отвлекающая от вечереющего разлужья, работа.
Отец знает, где ловить рыбу, он правит на залитый полою водой Тарасов луг и, передав Мишке весла, с озорным кряхтеньем заводит сеть. Мишка наверняка знает, что сейчас в ней затрепыхается плотва, а то и щучка попадется. Так и есть – в переплетении прошлогодней травы и лозиновых прутьев посверкивают чистенькие серебряные плотвицы. Рыба полна вешней пробудившейся энергии и ее трудно ухватить. Ведро с каждым заводом сети полнится уловом. «Ну, хватит», – устало выдыхает отец, кидает мокрую сеть на дно лодки и берет весла.
…Мишка вздохнул и прибавил шаг. На горизонте взошла луна, когда он подходил к лесу. Голые темные деревья, словно настороженные, стояли неподвижной стеной, расступившись перед дорогой.
Хомутовский лес. Он, как и люди, сполна познал войну. Вдоль и поперек искромсанный шрамами от колес, поредел под безжалостной секирой врага: немцы без разбора валили деревья, гатили мочажинные места, втаптывали их танковыми гусеницами в землю. Подлесок тоже весь изрезан окопами и траншеями.
Давно ли Хомутовский лес был другим – веселым, полным звонкого ауканья и краткого кукованья! Мишка любил с друзьями ходить сюда поздней весной за баранчиками– на полянах были целые россыпи этого вкусного растения с желтым венчиком и на сочной ножке. Кончатся баранчики – земляника на просеках высыпет– собирай – не ленись, объедайся пахучими ягодами. А там грибы пойдут – толстенькие боровички, изящные лисички-сестрички да с липкой пленочкой дружные маслята, вкусные-превкусные, когда их на сковородке мама изжарит.
Мысль о маме Мишка оборвал на самом начале – не время размягчаться, надо скорей дойти до Евстигнея, и тот что-нибудь придумает, чтобы спасти Семку. Страдальческое С ем кино лицо с самодельной – из меркалетовой занавески – повязкой на глазах, наложенной теткой Феклой, вытеснило из головы все воспоминания, словно подхлестнуло Мишку. Он уже не шел, почти бежал теперь по лесной неширокой дороге.
Кордон встретил неожиданным молчанием, ни лая Динки, ни воркованья голубей. Только подойдя ближе Мишка увидел то, от чего весь содрогнулся: на месте бревенчатого дома лесника стоял зияющий провалом остов печи и обугленная труба. Холодом и жутью дохнуло на него в этом нежилом теперь месте…
«Что же делать? Куда идти? Неужели так и возвращаться домой, где тетка Фекла, зареванная и пришибленная бедой, ждет от него ниточку к спасению сына? А где эта ниточка, куда должна повести?»
Мысли затолклись в сумятице, завспыхивали и тут же погасли, не получив ответа. Мишка был в отчаянии. Такого исхода он не предвидел. С трудом оторвал непослушные ноги от земли, двинулся к пожарищу. По не сдутой ветром сырой золе было видно – дом сожгли недавно. Кто? Немцы, кто ж еще, как не они! А жив ли Евстигней? Успел ли увести Начинкина и других беглецов? И где, если они живы, искать их?
Мишка поднял с земли уцелевшее от пожара, с одного конца обгоревшее перильце от крылечка, сам не зная зачем, стал отрешенно ковырять золу. Невольно подумал, что так вот терпко пахло горелыми кирпичами, когда отец перекладывал дома печь. Палка наткнулась на что-то жестяное – под золой глухо звякнуло. Это оказался знакомый Мишке медный корец, из которого он с друзьями столько раз едал душистый мед, поднесенный дядей Евстигнеем в милую пору медосбора. Корец от огня стал мягким, местами прогнулся, деревянной ручки не было – сгорела. И этот маленький безгласный предмет, сказавший о всей огромности случившейся беды, о невозвратности былого, вызвал в душе такую волну невыносимой горечи и тоски, что Мишка бессильно опустился коленями на золу.
Сколько он оставался в такой безысходности, Мишка не мог сказать. Отерев лицо рукавом фуфайки, он поднялся с пепелища и обошел кругом останки дома. Уже совсем рассвело. Розовый отсвет холодной зари ложился на черные подтеки на обгоревшей трубе и остове печи, и от этого казалось, что огонь еще не дотлел и готов вспыхнуть с новой силой.
«Зимник! – вдруг возникло в Мишкином сознании. – Петька говорил же о каком-то зимнике для пчел!
Где он, этот зимник?» Тело напряглось при вспыхнувшей надежде, глаза обрели зоркость, а мысли – ясность. «Если зимники нужны, чтобы сохранить пчел от холодов, то их и строят в теплом месте. Не на поляне же, где ветер гуляет. Скорее всего, в овраге. А ближний овраг отсюда – Климакин лог. Ну-ка туда!»
Мишку словно мчали крылья, будто не было ни страшных переживаний, ни многочасовой ходьбы по неспорой вешней дороге. Он должен найти Евстигнея! Он обязан спасти друга!..
Начинкин с двумя бежавшими из плена бойцами – Гнатом Байдебурой, великаньего роста украинцем, и пожилым немногословным Иваном Семенихиным, возвращался с диверсионной операции на свою лесную базу. Не имея взрывчатки, они под покровом ночи взломали рельсы на ведущей в Орел железнодорожной ветке и пустили под откос вражеский состав. Ушли благополучно: немцы постреляли вокруг из автоматов, а в лес сунуться побоялись.
Отряд Косорукого – Евстигней Савушкин сам взял себе такую кличку, бывшую когда-то для него обидной– насчитывал до пяти десятков партизан. Костяк его составили бежавшие из церкви военнопленные. Действовали пока как удастся, не дерзая на крупные операции. Мечтали, что когда-нибудь обзаведутся рацией и тогда развернутся шире.
– Трошки вчиныли им переполоху, – нарушил молчание Байдебура, шагающий позади с немецким автоматом в руке. – Краше було б толом, да де его взяты. А шо, коли на Казачье нагрянуть? Там толу позычили б тай нимцев пощекотали? Шо вы на то скажете?
– Силы у нас не те, Гнат, – отозвался Начинкин. – Взводом на полк не пойдешь.
– Ладно шо взвод, а шороху б нагналы. Так, Иван, чи ни?
– А! – неопределенно отмахнулся Семенихин и продолжал шагать молча.
Партизаны подходили к Климакиному логу. Уже был виден глубокий овраг, где рядом с зимником под хвойным пологом дремучих елей отряд Косорукого отрыл две землянки.
Вдруг Байдебура тронул плечо командира группы:
– Стойте! Бачьте сюды!
И он показал пальцем на противоположный склон оврага. Там, отводя руками голые сучья орешника, шел к логу мальчик. Снег со склона сдуло ветром, и тому ничто не мешало идти быстро.
– Мальчишка вроде! – пристально вглядываясь в орешник, удивился Начинкин.
– А бачьте ось там!
Начинкин пригнул еловую ветку, посмотрел левее, вверх по склону, и присел от неожиданности: обходя мальчика по кромке оврага, быстро поодиночке двигались серо-зеленые фигуры. На груди – автоматы. Вон в просвете между дубами мелькнула собака. Немцы!
– Байдебура! Семенихин! Идите в обход, отсекайте их от мальчика. А я вон там, лощиной, зайду во фланг.
Через несколько минут дружно с двух сторон ударили партизанские автоматы. Фашисты не ожидали встречного огня, и, рассыпавшись по склону оврага, залегли. Пули зацвинькали над головой Начинкина, ссекая дубовые сучья. Весь огонь немцы сосредоточили на нем – по редкой стрельбе они поняли, где слабое место…
Мишка, как только услышал выстрелы, неосознанно, в мгновенно охватившем его испуге кувыркнулся в можжевеловую заросль. Отдышавшись, он понял, что попал в трудный переплет, не зная только, по оплошке ли вляпался в засаду, или очутился в самом пекле неожиданно разгоревшегося помимо него боя.
Однако тут же сообразил: значит, неподалеку партизаны, и он не напрасно шел сюда, к Климакиному логу. А если здесь партизаны – Семка будет спасен.
– Форвертс! Форвертс! – загорланили где-то рядом немцы. Мишка догадался – пошли в атаку. Огонь усилился, казалось, автоматные очереди распарывают воздух прямо над ухом. Мишка выполз из можжевельника и покатился по крутому склону на дно оврага, подальше от грохота, от пуль…
Стрельба откатывалась в глубь леса, автоматные очереди становились все реже и реже и наконец совсем смолкли. Кто кого? – сверлила голову мысль. Но выкарабкаться из оврага не решался. И тут на фоне дубов и неба Мишка увидел фигуры людей. Вгляделся – не немцы. А рядом собака – не Динка ли?
– Эй, малец, жив ли ты там? – окликнул один, и Мишке голос показался знакомым.
– Жив! – отозвался Мишка.
Собака первой скатилась по склону и радостно завертелась у Мишкиных ног. Динка! Незнакомые люди сбежали в овраг, и тут Мишке захотелось даже глаза протереть: перед ним был… дядя Леня Начинкин.
– Дядя Леня! Я так и знал, что вас найду, дядь Лень!
Динка радостно терлась о Мишкины кирзовые сапоги, вызывая еще большее волнение.
Глава двенадцатая
СПАСЕНИЕ
Партизанская землянка, куда пришел Мишка со своими спасителями, была так искусно укрыта, что ее трудно обнаружить и в двух шагах. Разлапистые хмурые ели плотно заслонили вход со стороны глубокого оврага, с тыла же простиралась непроходимая чащоба – ели вперемежку с березами. Партизаны, возбужденные недавним боем, подходили к землянке, громко переговариваясь.
Начинкин отворил заиндевевшую снаружи дверь, пропустил Мишку вперед. Глазам предстало просторное помещение с бревенчатым, внакат, потолком. С одной стороны – дощатые нары с набросанными на них фуфайками, с другой – стол и длинная скамья, врытая прямо в земляной пол. На столе горел фонарь, стояли котелки.
– Ну, проходи, проходи, парень! – услышал Мишка и увидел вышедшего вдруг откуда-то из боковушки лесника Евстигнея Савушкина.
– Здравствуйте, дядя Сигней!
– Здоров, здоров, герой! Что же это ты один по лесу шляешься? Врагов за собой водишь!
– Дядя Сигней, я к вам по делу, по очень важному делу! Семка – помните его? – при смерти лежит. Собирал в поле картошку и на мину наткнулся, Он умрет, если не поможете, дядя Сигней!
Савушкин сел, продолжая смотреть на мальчика.
– Да-а, – неопределенно сказал он, видимо, обдумывая услышанное.
– Разрешите, товарищ командир, я с Поливановым схожу в Казачье? – обратился Начинкин.
– С Поливановым… в Казачье, – опять каким-то отсутствующим голосом проговорил Савушкин.
– Да, с доктором Поливановым, – повторил Начинкин. – Не то умрет парнишка.
Савушкин поднялся со скамьи.
– Хорошо. Поливанов пойдет в село, поможет мальчику. Ты, Миша, проводишь его. А тебе, – он обратился к Начинкину, – будет другое задание.
– Есть проводить в село! – обрадовался Мишка.
– А сейчас до вечера отдыхать. Покормите мальца и пусть на нарах поспит. Начинкин и Поливанов, пройдите ко мне!
…Темный пасмурный вечер черным пологом опустился на лес и на поля, придавил их гнетущим мраком. Мишка и Поливанов подходили к Казачьему. У Поливанова– за спиной вещмешок с медикаментами. У Мишки – в руках палка, чтобы сподручнее идти. Шагали молча. У Поливанова было тревожно на душе – шел в незнакомое село. Он был не из местных, пристал к партизанскому отряду при выходе из окружения. У Мишки чувство двоилось: ему было и страшно – вдруг нарвутся на засаду или на случайный патруль, и радостно – теперь-то уж Семка наверняка будет спасен. В последнее время, как пожили в одной хате, Семка стал для него словно брат родной, делились и мечтами и тревогами.
От села доносилось урчанье моторов, по Домовинской дороге, шаря в черном мраке светом фар, двигалась в сторону фронта колонна танков. «Подкрепление, – решил Мишка и тут же подумал об отце. – Трудно ему там, вон какая силища прет и прет».
Недалеко от околицы свернули с большака, пошли полем. Мишка и во тьме хорошо ориентировался.
– Сейчас будут плетни, держите за мной, – шепнул он.
Вскоре и в самом деле наткнулись на плетень, перелезли через него, набрав за голенища мокрого снегу – ладно, дома вытряхнем! Держались середины огородов, близко к дворам не подходили – подальше от беды.
В одном месте, перелезая через плетень, Поливанов обломил трухлявый кол – треск в ночной тишине раздался особенно громко. Залаяла чья-то собака. С проулка щелкнул сухой выстрел и в небо взмыла зеленая ракета. Это немецкий патруль отозвался на внезапный собачий лай – просто на всякий случай. Поливанов и Мишка свалились в снег, притаились. Другой ракеты не последовало да и лай смолк.
Пошли дальше, осторожнее перелезая через плетни, Вот и огород тетки Феклы. Мишка узнал его по двум стоявшим за амбарами грушам-тонковеткам, с дощатыми скворечниками и дуплянками – Семкина работа.
Мишка повернул к двору, Поливанов за ним. Собаки у Семки не было, и опасность быть обнаруженными не грозила.
Мальчик подкрался к чуланному окошку, осторожно стукнул раз-другой, подождал немного. Еще постучал. В хате вспыхнул огонек – зажгли коптилку. Мишка увидел тетку Феклу, идущую в чулан с коптилкой в руке.
– Тетка Фекла! Это я, Мишка! Отвори.
– Господи! – скорее догадался по ее шепчущим губам, чем услышал, Мишка и ощупью пошел к дворной двери. Вскоре она открылась и впустила ночных пришельцев…
Попросив тетку Феклу занавесить чем-нибудь окна и вывернув до отказа фитиль коптилки, Поливанов надел халат и принялся за операцию. Время от времени он покачивал головой и что-то неслышно бормотал. Тетка Фекла не мешала ему, уставившись горестным взглядом на сына. Она часто переводила его на Поливанова, мысленно вопрошая: ну как, будет жить? Но тот словно не замечал страдальческого взгляда, брал из рюкзака то пинцет, то вату. Будучи опытным врачом, он сразу же определил степень ранения мальчика: да, жить он будет, раны на теле неопасные, осколки можно удалить, но глаза… Не видеть больше мальчишке света. От этого у Поливанова больно сжималось сердце – много ему пришлось повидать раненых, но то были взрослые.