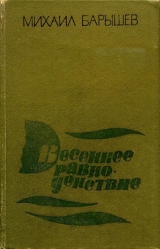
Текст книги "Весеннее равноденствие"
Автор книги: Михаил Барышев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
Глава 5. Союз коня и всадника
Не просто было найти четкую формулу, определяющую отношения партнеров по сотрудничеству в сложной конструкторской работе ОКБ и станкостроительного завода, на котором конструкторские идеи должны обретать осязаемое выражение в виде опытных и экспериментальных узлов будущей станочной линии, проходить проверку в эксплуатации и доводку для окончательного совершенствования конструкции перед выдачей рабочих чертежей.
Чаще других в таких случаях вспоминают изречение насчет союза коня и всадника. Но при подробном рассмотрении оно требует внесения существенных корректив. Союз, конечно, имеется бесспорный: общее дело, общие цели, нерасторжимые связи, определенные обычно приказом министерства, устанавливающим для сторон узы столь же прочные, как брак по католическому обряду. ОКБ сочинял за кульманами разные технические новинки, а станкозавод должен воплощать эти новинки в металл. При первом взгляде в таком союзе всадником вроде бы выступало ОКБ, усевшееся на спину завода и управляющее в такой паре внедрением в практику станкостроения технических новшеств и понукавшего производственников к скорейшему усвоению передовых идей.
Однако конь в данном союзе был обычно настроен критически. По его твердому убеждению, понукания конструкторов были ненужными и бестолковыми, занимали пустяковыми делами дефицитные производственные мощности, вынуждали расходовать ценные материалы ради придумок, которые, случалось, оказывались элементарным пшиком. То, что конструкторам складно рисовалось на ватманах, воплотившись в металл, вдруг начинало скрежетать, завывать, крошить зубья шестерен, свертывать валы по причине ошибочно рассчитанных динамических нагрузок и неудачных сочленений.
Директор станкозавода Максим Максимович Агапов считал, что экспериментальный участок, который его обязали организовать по приказу вышестоящих инстанций в механическом цехе, нужен был славному коллективу станкостроителей так, как раку гоночный велосипед. Что приказ в данном случае пришил к добротному и ладно скроенному станкостроительному пиджаку третий рукав, хозяину не нужный, мешающий при каждом движении и портивший гармонию. Агапов горел тайным желанием отмахнуть к чертям собачьим этот рукав, мешавший главному делу. Завод добрых четыре десятка лет выпускал токарные станки. Начинал с простеньких отечественных дипов, гордое название которых «Догнать и перегнать» теперь уже никто и не расшифровывает, а сейчас выпускал их современные модификации и в том видел свое основное назначение. Выпуском станков завод отчитывался о выполнении и перевыполнении плана, получал премии, возможность образовывать заводские фонды, строить и совершенствовать заводскую базу отдыха и выдавать передовикам производства и другим заслуженным членам коллектива путевки со скидкой и единовременную помощь.
От экспериментальных и опытных работ станкостроители получали пользы столько же, сколько шерсти от крокодила. Более того, из-за склочной натуры ОКБ и их систематических кляуз на технических и производственных совещаниях в адрес Агапова то и дело записывались в протоколы оскорбительные формулировки вроде: «…отметить отставание», «…обратить внимание на задержку», «…предупредить о необходимости скорейшего завершения…».
Максим Максимович обижался на такие записи, искренне расстраивался по поводу нескончаемых конструкторских жалоб, но считал, что до инфаркта или гипертонической болезни эти подковырки не доведут. Указующим протокольным бумагам он тоже не придавал особого значения, понимая, что спрос с него будет за станки, а не за экспериментальные работы. Если он на космическом уровне выполнит все капризы конструкторов, воплотит в металл не только их настоящие идеи, но и будущие, а производственную программу завалит, никто не оценит благородного устремления активно помочь внедрению новейших достижений в области автоматизированных станочных линий. Будет здесь уже не протокольная запись, а приказ с самым натуральным выговором за срыв плана, а любимый коллектив станкостроителей оставят без премии и отчислений в заводские фонды. Это, в свою очередь, вызовет здоровую критику снизу, от которой Агапову тоже придется не сладко.
Если же он выполнит план по станкам и сорвет задание по экспериментальным и опытным работам, прибавится всего лишь бумага с записью о необходимости обратить внимание директора завода на отставание работ и так далее. Бумаг таких у него накопилось столько, что, случись дефицит в обойной промышленности, ими запросто можно оклеить кабинет.
Всякий раз, оказываясь в механическом цехе, Максим Максимович с душевной болью глядел на участок экспериментальных и опытных работ, отхвативший от здорового производственного каравая увесистую горбушку. Механический задыхался от немыслимой тесноты, а тут гуляло под несто́ящим делом несколько сотен квадратных метров.
Как и многим заводам, имеющим солидный возрастной стаж, станкостроительному была мала одежка, скроенная в давние годы. Заводские ноги теперь вылезали из спроектированных в тридцатые годы штанов, узкоплечий производственный пиджак жал и трещал по всем швам. Последнее время Агапов бился смертным боем, чтобы увеличить производственные мощности, построить два, а еще бы лучше пять новых цеховых корпусов, оборудовать их на самом современном уровне, перейти на выпуск станков новейшей конструкции и еще выше поднять славу станкостроителей и собственный авторитет. Перестать ходить в министерских «середнячках», а перейти в руководители такого ранга, которые со спокойной душой обходят главковскую и прочую мелюзгу и решают вопросы при личных встречах с заместителем министра, а то и напрямую с министром.
Настойчивость и энергия Агапова наконец-то сдвинули с места тяжеленный камень строительства. В самой ближней перспективе станкостроители должны получить соответствующие ассигнования, лимиты по труду, материальные ресурсы и все остальное, что нужно для капитальных вложений.
Но прежде всего требовалось решить вопрос об отводе необходимого земельного участка. Дело это было непростое. Во-первых, потому, что строительство промышленных объектов в городской черте запрещалось, во-вторых, потому, что развивающееся жилищное строительство окружило бывший когда-то на окраине станкостроительный завод многоэтажными громадинами, помогающими решать проблему обеспечения каждой семьи отдельной благоустроенной квартирой.
Однако Агапов верил в успех задуманного. Участок был нужен не для нового строительства, а для расширения существующих производственных мощностей, что далеко неоднозначно и, строго говоря, не подпадало под существующий запрет нового строительства. И земельный участок он просит отвести не для собственной дачи или индивидуального гаража, а для увеличения выпуска станков, в которых нуждается народное хозяйство и которые год назад на специализированной выставке получили диплом второй степени.
Несмотря на критическое отношение к поползновениям неуемных конструкторских деятелей, Максима Максимовича нельзя было упрекнуть в пренебрежительном отношении к современным достижениям науки и техники. На станкозаводе внедрялись и механизация трудоемких работ, и резцы с твердосплавами, и шлифовка с повышенными точностями. Техническая библиотека насчитывала почти десять тысяч названий, функционировало научно-техническое общество, и сам Агапов, несмотря на то, что ему уже перевалило за шестьдесят, регулярно просматривал журналы по станкостроению.
Вместе с тем директор завода был убежденным сторонником рационального разделения общественного труда. Дело завода было производить станки, а задача ОКБ – конструировать станочные линии, выдавать рабочие чертежи без ляпов и огрехов, преподносить собственные идеи в таком виде, чтобы можно было работать с листа, с ватмана или кальки, а не сочинять подозрительные творения и не тащить их для проверки в экспериментальном и опытном порядке. Надо же беречь человеческий труд. Если делать так, как хотят конструкторы, то портной до пошивки настоящего костюма должен сначала сварганить тебе опытный, и ты ему за тот костюм должен отсчитать денежки из своего кармана, а потом еще за окончательный вариант выложить.
Агапов полагал, что каждый на своем месте так должен выполнять свою работу, чтобы она получалась с первого раза. Если ты так работать не способен, то уступи, как вежливо говорится, место другому. Потому придумки конструкторов насчет изготовления экспериментальных и опытных образцов он считал ненужными и поощрять такие прихоти не собирался.
Максим Максимович совершал ежедневный утренний обход производства. Обход этот был традиционным. Хоть и мечтал Агапов вывести завод в число станкостроительных гигантов, пока его легко можно было окинуть директорским глазом – полдесятка цехов да столько же подсобных подразделений.
Но сложностей и неувязок здесь тоже хватало. Сегодня в механическом при обработке станины вдруг вылезла внутренняя литейная раковина. Когда директор добрался до цеха, там уже табунилась возле фрезерного станка встревоженная группа людей, в которой издали выделялся долговязой и нескладной фигурой старший мастер Готовцев.
– Что у вас туг? В брак запахали?
– Литейная раковина, Максим Максимович, – сердито ответил Готовцев, ткнув пальцем в округлую чугунную оспину, глубоко уходящую в металл. – Не заваришь ведь такую бандуру… Собственную литейку надо заводить, а мы кота в мешке всякий раз покупаем, а потом вот маемся с такими подарочками… Сколько было говорено о литье… На языке уже мозоль набилась.
Готовцев говорил сердито и не в лад словам размахивал длинными руками с крупными мослатыми ладонями.
– Заготовка же для двести восемнадцатого заказа, Максим Максимович. Полетел теперь заказик, и план по цеху тоже полетел из-за распроклятой раковины. Последняя неделя идет, а тут выскочил прыщ на заднем месте.
– Поставьте другую заготовку.
– Нет другой, Максим Максимович. Все, что были, уже давно пошли в работу, а новую партию отгрузят литейщики только в следующем месяце. Вы же знаете, что этих деятелей не прошибешь. У них, видите ли, строгая ритмичность производства, и они ее никак не могут нарушать. Мы разве не желаем работать ритмично? Рады бы, да вон у нас какие ухабины выскакивают на дороге. Не по нашей же вине… Не дадут новую заготовку.
– Не дадут, – согласился Агапов.
Природа не наградила Максима Максимовича высоким ростом, но справедливо отмерила ему объем, полагающийся нормальному человеку. Недостаток роста у директора компенсировался за счет толщины. Внешне Максим Максимович чем-то смахивал на банковский сейф, к которому прилепили округлую, выбритую до синевы лысину головы, поставили на короткие подпорки, а дверцу сделали такой выпуклой, что каждый, обозревая Максима Максимовича, невольно опасался за целостность пуговиц на своем пиджаке.
– Ничего ведь теперь не поправишь… Полетит план по цеху.
В словах старшего мастера сквозили огорчение, просьба о помощи и бесхитростная вера в могущество руководителя, который на две, а может, и на три головы выше рядового старшего мастера, у которого есть власть, опыт решения и не таких вопросов, как литейная раковина, выскочившая на заготовке.
Агапов оправдал надежды подчиненного. Зоркие, все примечающие директорские глаза скользнули окрест и увидели выход. Рядом, на экспериментальном участке, в штабеле заготовок, с завидным терпением ожидающих очереди на механическую обработку, они высмотрели точь-в-точь такую же по конфигурации заготовку, на какой вскрылась злополучная раковина.
Заложив руки за спину и энергично наклонив голову, что сразу Агапова сделало похожим на бодливого быка, директор прошел на экспериментальный участок, спросил мастера.
– Эту хреновину ты для чего бережешь, Васильев?
– Опытный узел по горизонтальной сверловке… Восьмой месяц дожидается, Максим Максимович… Дайте команду механическому. Срамота ведь…
– Дам команду, Васильев. Немедленно дам… Цех надо выручить, коллектив. Литейный брак выскочил в механическом, и все у них полетело. Знаешь, какое сегодня число?.. Возьмут они у тебя эту заготовку. Ну, скажем, временно возьмут. Вроде как взаймы. А через пару недель обратно ее в твой штабелек положат и никаких делов.
– Права не имеем, Максим Максимович. Заготовки ведь не наши. ОКБ за них деньги платило, и у нас они на ответственном хранении… Я за них расписывался. А вдруг придут из ОКБ и углядят, что не хватает? Вы же мне сами тогда опять выговор вкатаете.
– Вкатаю, Васильев, – печально согласился Агапов. – Если из ОКБ увидят, нельзя мне будет тебя без выговора оставлять. Придется тебе влепить за халатное отношение к обязанностям.
– Вот работка досталась… Не хуже иных вкалываешь а что получается? Других за всякое геройство на доску Почета, а Васильеву – выговор.
– Разве в твоем выговоре дело? Сорвем план по механическому, сколько людей без премии оставим? Ты об этом подумай… Сам ведь ты тоже премию потеряешь. Вот и прикинь, что тебе больше подходит: выговор или премия за месяц?
Мастер Васильев поскреб щеку согнутым пальцем, произвел счет в уме, скоренько вычислил нужный результат и махнул рукой:
– Забирайте… Только выговор, Максим Максимович, дайте простой, в случае чего. Последний раз закатили строгача и знаете, как было неловко перед народом. И в курилке поддразнивали, и на собраниях вспоминали… Разве я виноват, что мне такая работа досталась? Сколько прошусь, чтобы перевели…
Директору Агапову не впервой было выслушивать жалостливые сетования мастера Васильева. Он заверил, что на сей раз выговор будет простой, и в возмещение морального ущерба безвинно страдающий мастер экспериментального участка Васильев может написать заявление о выдаче единовременной помощи.
Мастер повеселел и махнул крановщице:
– Двигай сюда, Борискина!
Едва Агапов возвратился после утреннего обхода в кабинет, как раздался телефонный звонок Веретенникова, старого и доброго друга. Вместе пришли они по комсомольской путевке семнадцатилетними пареньками на станкостроительный завод. Вместе начали приобщаться к станкам, к токарному мастерству, к заводской жизни. В горький военный год вместе отправились по повестке военкомата на скороспелые военные курсы, получили по сиротской звездочке младших лейтенантов и пошли воевать в один саперный батальон. Посчастливилось им уцелеть и возвратиться на родной завод. С той поры станки стали главным делом в жизни друзей, хотя и пути их несколько разошлись. Веретенников оказался чертежником во вновь образованном конструкторском бюро станкостроения, а Агапов стал мастером в механическом цехе. Затем оба они «вытянули» вечерний станкостроительный институт и по мудрому правилу, что старый друг лучше новых двух, бережно сохраняли дружбу, хотя их производственные интересы последние годы становились все более различными. Агапов тянул заводскую лямку, жесткую и неудобную, как сухая сыромять, которая чуть не до крови растирает кожу, а Веретенников занимался трудом интеллигентным, работой, которую, по мнению Максима Максимовича, можно было делать в белых перчатках и семь потов над ней не проливать.
Последние годы Агапов и Веретенников встречались друг с другом реже. То ли сказывался возраст, делающий людей консервативными и не очень подвижными, то ли была причиной чертоломная занятость Максима Максимовича на работе. Пропадая на заводе с раннего утра и до позднего вечера, Агапов имел столько встреч и разговоров, получал, как модно сейчас говорить, такой поток информации и сам выдавал столь же солидную порцию, что в редкие свободные часы ему и с домашними не хотелось разговаривать.
Внуки у Максима Максимовича уже в школу ходили, а он из-за своей немыслимой работы еще и собственных детей не мог рассмотреть как следует.
Расспрашивая Павла Станиславовича о жизни и обмениваясь с ним мыслями насчет погоды, при изменении которой у старых друзей, случалось, теперь начинали ныть натруженные суставы, Агапов придумывал, как ему выкручиваться, если Веретенников спросит насчет состояния работы по опытному узлу вертикальной сверловки, который станкостроители еще месяц назад должны были изготовить, но выполнить собственное обещание не имели возможности.
– Как наш узелок поживает, Максим? – намеренно равнодушным голосом спросил Веретенников, стараясь изобразить дело так, что спрашивает походя, к случаю, раз уж пришлось разговаривать со старым другом, что главное в их разговоре – это естественное беспокойство о взаимном здоровье и нормальный обмен информацией о событиях текущей жизни.
– Ты чего молчишь, Максимка?.. Алё! Куда ты пропал?
– Здесь я, здесь, – успокоил Агапов друга и сказал, что узелок поживает отлично, что над ним вовсю работают и в самом скором времени конструкторы смогут увидеть его в натуре.
– Ну, спасибо, – с явным удовлетворением в голосе откликнулась телефонная трубка. – Андрей Алексеевич хотел к тебе нагрянуть, а я его отговорил. Сказал, что позвоню по старой дружбе и выясню все как есть. Если, говорю, там затор, мне директор не откажет в помощи. Не хватит, говорю, у него нахальства для такого дела. Значит, в работе наш узелок?
– Я когда-нибудь тебе врал?
Максим Максимович, в самом деле, не терпел вранья и по возможности старался говорить правду. Однако многоликая директорская служба вынуждала порой лукавить и самых убежденных правдолюбов, утешительно убеждая их, что на свете есть и благородная, так сказать, форма лжи – во спасение, гуманный смысл которой определен заботой о ближних, чтобы не случилось с ними от худой новости нервного стресса.
Сейчас Максим Максимович тоже не врал старому другу, хотя час назад по его личному указанию позаимствовали у конструкторов заготовку из тех, которые ОКБ припасло для изготовления именно этого узла. Агапов говорил Павлу Станиславовичу сущую правду, потому что телефонные собеседники не удосужились уточнить, о каком узелке они говорят. Павел Станиславович, воспитанный на благородных принципах бессмертного творения о славном бароне, не догадался конкретизировать свой вопрос, а Максим Максимович, замороченный заводской текучкой, по собственной инициативе тоже не уточнил предмета разговора. Эта крохотная неувязка позволяла Агапову легко и правдиво отвечать на вопросы друга.
– Заскочил бы как-нибудь вечерком, Паша. Посидели бы, поговорили. Чайку бы хлобыстнули… Надя про тебя уже спрашивала. Чего, говорит, Павлуша, у нас не появляется…
– Ты же раньше десяти с завода не возвращаешься, а я теперь в одиннадцать спать заваливаюсь… Укатали сивку крутые горки… Ладно, Максим, зайду. Непременно зайду. Наденьке от меня поклон… А за узелок особое тебе спасибо. Бывай!
Веретенников поторопился прервать разговор. Поговори они еще минут десять, может возникла бы у них ясность, о чем спрашивает один и о чем отвечает ему второй.
Обмануть честнейшего до скрупулезности старого друга было все равно что обмануть малого ребенка, обмануть собственного пятилетнего внука Леньку Агапова, смотревшего на деда такими обожающими глазами, какими первые христиане смотрели на своих наставников, приобщавших к учению о святой троице.
«Особое спасибо»… Как колючка, воткнутая в чувствительное место, и Максим Максимович сокрушенно подумал, что эта колючка теперь будет надоедливо зудеть. Жил бы Максим Максимович в иной социальной формации, он отыскал бы подходящее изображение с нимбом вокруг головы, бухнулся бы веред ним на колени и искренне попросил прощения за лукавство перед другом. Получил бы, как положено, в обмен на истраченную свечку отпущение невольного греха и обрел спокойствие. А теперь – куда пойдешь и кому такое расскажешь? Послушают и тебе же добавят – вместо отпущения грехов. И правильно добавят.
У барона Мюнхгаузена утки вот так проглатывали одна за другой кусок сала на веревочке и все в конце концов на ней и оказались. Может Агапов на склоне лет тоже обратиться к мудрому литературному творению, как это сделал лет двадцать назад его друг Паша Веретенников?
Столикая, как языческий идол, работа приучила Агапова к рационализации руководящего труда. Без этого он уже давно пустил бы пузыри, запутался в текучке и наворотил кучу глупостей в ценных указаниях. У Максима Максимовича была разработана система, основанная на принципах противопожарной охраны. Папки, лежащие на его столе, были сплошь красного колера, но его густота менялась от важности находящихся бумаг. Начиная от багряного, тревожного, до более спокойного, розового. Багряную папку Максим Максимович открывал каждый день, потому что в ней находились горящие дела. Прочие панки он просматривал через день, раз в неделю, а розовую открывал раз в десять дней.
Сейчас руки Агапова потянулись к багряной папке и извлекли оттуда ходатайство об отводе земельного участка для строительства новых производственных корпусов.
Пальцы набрали знакомое сочетание цифр на телефонном диске, и в трубке не спеша откликнулся голос начальника сектора организации, занимавшегося отводом под застройку дефицитных городских земель.
– Да, ходатайство заместителя министра нами получено, Максим Максимович, – сухо и с достоинством ответил начальник сектора Цыплаков, считавший себя, без сомнения, на голову выше рядового директора завода. – Постараемся вынести на следующее заседание… До этого, естественно, вопрос пройдет депутатскую комиссию… Не вижу оснований для беспокойства… Всего доброго.
Агапов облегченно вздохнул. Кажется, хоть здесь все удачно складывается. Ох и отгрохает он теперь производственные корпуса, выдаст по самым последним достижениям отечественного и мирового зодчества! Чистоту наведет, поставит цветы, всех работающих оденет в халаты.
Если бы Агапов о своих мечтаниях рассказал другу, наверняка бы вспомнил Веретенников любимого барона, отыскавшего в неведомом море сырный остров с молочными реками. Семь молочных рек и две с натуральным пивом. Одна с жигулевским, а вторая с бархатным – выбирай по вкусу, пей – не хочу.








