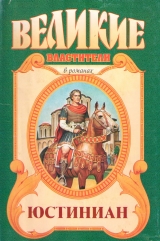
Текст книги "Топот бронзового коня"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Что ты хочешь, Мина? – произнёс мандатор.
– Я желаю защиты его величества.
– Что с тобой стряслось?
– Убивают наших. Только что убили торговца дровами в Зевгеме. А до этого – сына Эпагата, ты знаешь. Мы пошли к спафарию Калоподию за защитой, а меня он прогнал, не выслушав до конца. Если нет правосудия в этой стране, мы начнём вершить его сами.
У чиновника в глазах появилась злость. Он ответил Мине:
– Прекрати возводить напраслину на спафария.
– Я не возвожу, правду говорю, августейший. За последние десять дней – двадцать шесть убийств в нашем Зевгеме!
– Кто же убивает, по-твоему? – удивился мандатор.
– Ясно кто – венеты. Ты их прикрываешь, и они бесчинствуют.
– Замолчи, несчастный! – оборвал его представитель Юстиниана. – Или прикажу тебя обезглавить. Здесь народ собрался наблюдать за бегами. Попереживать за своих возничих. Вместо этого вы устраиваете скандалы, драки и резню, а потом сами жалуетесь, будто вас притесняют. Где же логика?
– Убивают нас не в драке на ипподроме, а исподтишка, тайно, подло. И никто не хочет отвечать за содеянное. Если власть не наводит в стране порядок, мы её заменим.
– Ты договоришься сейчас!
– Мне уже терять нечего. Есть предел терпению. Мы молчали, сколько могли. А теперь намерены высказать тебе всё!
– Я в последний раз говорю: замолчи немедленно. Ты вообще не имеешь права раскрывать рот, ибо не крещён.
От подобного заявления Мину передёрнуло:
– Кто, по-твоему, не крещён? Я, по-твоему, не крещён? Я крещён с рождения, я с рождения православный!
– Ты не православный, а манихей. Манихеи – хуже иудеев.
Тот позеленел, сделавшись лицом одного цвета со своим облачением:
– Пресвятая Богородица! Ты назвал меня манихеем, хуже иудея? Ты поплатишься за эти слова, как Иуда!
У мандатора сжались кулаки:
– Я велю сейчас тебя заковать, а к утру повесить!
– Не имеешь права. Ибо только Бог распоряжается нашей жизнью. Ты не Бог, трижды августейший, хоть и представляешься Богом. Ты всего лишь сын иллирийского крестьянина Савватия, про которого я могу сказать лишь одно: зря он появился на свет и родил Петра – попустителя убийц!
Это было неслыханной дерзостью. Оскорблять императора прямо в его присутствии! И за меньшие провинности многие бедняги отправлялись на виселицу, ведь не зря весь Константинополь кишел доносчиками, а судебные власти зачастую не утруждали себя долгим разбирательством, поиском свидетелей, веря обвинениям, даже анонимным. Ну, а тут – в открытую, на глазах у всего народа!
Впрочем, не успел мандатор повелеть арестовать Мину, как вперёд вырвались венеты («синие»), и глава их, Флор, заорал на главу «зелёных», потрясая руками:
– Жалкий манихей и самаритянин! Сам убийца, сам! Сами убиваете, а сваливаете на нас!
Мина не взглянул на него, продолжая общаться только с василевсом при посредничестве чиновника:
– Слышишь, августейший? Существует ли предел человеческой низости? Двадцать шесть убитых прасинов. Двадцать шесть! И ни одного венета. Кто ж тогда убийца? Неужели мы сами?
– Сами, сами! – завизжал Флор.
– Сами, – подтвердил представитель самодержца. – Вы на всё способны. Нет вам извинений.
У «зелёного» задрожали губы:
– Лишнее тому доказательство: в этой стране, с этим автократором не добьёшься правды. Всё подкуплено, всё на стороне халкидонцев. Халкидонцев, не знающих Бога.
Тут от ярости зашёлся мандатор:
– Халкидонцы не знают Бога? Ты в своём уме?!
– Он убийца, убийца! – крикнул Флор.
Мина тем не менее продолжал:
– Халкидонцы не знают Бога, ибо покрывают убийц. Лучше быть иудеем, чем халкидонцем. Лучше почитать Зевса и Аполлона! На венетах креста нет!
– Ах ты, негодяй! – предводитель «синих» бросился на «зелёного» и ударил кулаком по лицу.
Началась потасовка, общая свалка возле кафисмы, и гвардейцы с трудом растащили дерущихся. Пятеро прасинов, пятеро венетов были арестованы и препровождены в тюрьму к Евдемону (эпарху-градоначальнику). В знак протеста все монофиситы покинули ипподром, и, хотя праздник продолжался, настроение у публики оказалось здорово испорченным, там и сям возникали драки, а Юстиниан, не дождавшись окончательного заезда, тоже ушёл из цирка.
Проходя по двору Халки, он увидел Евдемона и велел ему подойти. Тот, по этикету, рухнул императору в ноги и поцеловал ему туфли. Василевс велел:
– Будь построже с этими. Выяви убийц. Мнимых или подлинных – всё равно. Человек семь, не больше. Четверым вели отсечь голову, трёх повесь. В том числе Мину и второго… этого… как его?
– Флора, ваше величество, – подсказал эпарх.
– Да, его. Но вначале приговорённым отруби пальцы и води по городу для всеобщего устрашения. Надо подавить беспорядки. Власть должна уметь себя защищать, и чем жёстче, тем лучше. Нам ещё предстоит столько богоугодных дел! И нельзя допустить, чтобы разное отребье отвлекало от них державу. Мы работаем на благо народа.
– Слушаюсь, августейший. Сделаю по-вашему, – и опять поцеловал ему туфли.
Да, допросы велись с пристрастием. Евдемон лично присутствовал на пытках – арестованным плющили пальцы молотком на наковальне, вздёргивали на дыбу, ставили на раскалённые угли, заставляли есть кал, жгли интимные места раскалённым железом. После процедур, замордованные, истерзанные, все они сознались во всех преступлениях: убивали, грабили, растлевали – девочек, мальчиков, овец, поклонялись неправильным богам и сквернили храмы. Приговор преступникам вынес лично Трибониан, и бедняг с отрезанными пальцами сразу же повели на казнь. Шли по Месе, и народ по обеим сторонам улицы волновался, шумел, многие кричали – дескать, поделом, хватит безобразий; кто-то наоборот – призывал освободить напрасно приговорённых. Люди сбивались в группки, возникали споры, вспыхивали драки. Слышались отдельные реплики:
– Автократор во всём виновен!
– Нет, не автократор, а консул Трибониан. Беззаконник первый.
– Да при чём тут Трибониан! Иоанна Каппадокийца надо палкой гнать! Всех замучил поборами!
– Феодору долой, Феодору – манихейку на троне!
– Господи, помоги Романии!
Осуждённых вывели за пределы Константинополя, а за ними следовала толпа, всё ещё продолжая скандировать: «Отпустите Мину! Отпустите Флора! Вы не смеете убивать их!» Но гвардейцы, возглавляемые самим Евдемоном, двигались уверенно и не обращали внимания на бунтующих. Перешли по мосту залив и приблизились к монастырю Святого Конона, где стоял помост для публичных экзекуций. А палач в черных одеяниях, с маской на лице, мрачно наблюдал, как выводят смертников, в синяках и ссадинах, истекающих кровью. Пристав зачитал приговор. Настоятель церкви Святого Лаврентия, вызванный специально для такого случая из квартала Пульхерианы, произвёл обряд соборования и прочёл молитву о спасении душ казнимых. Многие в толпе плакали.
Начали с повешения. К перекладине с тремя петлями подвели Мину, Флора и ещё одного прасина, громче всех оравшего в цирке: «Смерть императору!» Два подручных палача помогли им подняться на квадратные табуреты и надели петлю на шею каждому. Мина прошептал, глядя в небо:
– Богородица со всеми! – вздувшиеся губы слушались его плохо.
Над помостом и пустырём зазвенела жуткая тишина. Серые унылые облака проплывали низко. Серое январское море волновалось хмуро.
Подошедший сбоку палач принялся ногой выбивать табуреты из-под ног висельников. Первым начал корчиться Флор, а за ним – Мина и его товарищ по партии. Неожиданно перекладина, на которой болталась троица, треснула и сломалась. Ахнула толпа. Настоятель церкви перекрестился. Все несчастные сорвались и попадали на помост. Флор и Мина подавали признаки жизни, их подельник испустил дух.
Евдемон, руководивший расправой, выругался грязно и произнёс:
– Ни на что не способны, ироды. Даже повесить по-человечески. Начинайте сызнова.
А народ у помоста вдруг зашелестел, начал наседать и скандировать: «Жизнь! Жизнь! Это Божий промысел! Богородица защищает их! Отпустить! Отпустить!»
Но градоначальник только огрызнулся:
– Замолчите, вы! А не то окажетесь тоже на верёвке!
Отступив, толпа глухо заворчала, и десятки глаз вперились в него с бесконечной ненавистью. Повернувшись к людям спиной, тот опять заорал на недвижного палача и его помощников:
– Что застыли, черти? Начинайте сызнова, я сказал!
Топором из помоста вырубили средних размеров брёвнышко, заменили им сломанную перекладину. По второму разу Мина с Флором встали на табуретки, и опять подручные палача помогли казнимым. Те стояли жалкие, вздрагивавшие от холода, грязные, в заляпанной кровью одежде. Подошёл палач. Двинул ногой по каждому табурету. И опять заболтались в воздухе два израненных тела. Бах! – одно из них грохнулось на помост из-за плохо завязанной верёвки. Бах! – упало второе.
Суеверный ужас прошёл по толпе. Все крестились, двигались, размахивали руками:
– Отпустить! Прекратить! Небо против казни!
Растерявшийся Евдемон тоже что-то начал кричать гвардейцам и палачу, но они стояли в недоумении и не знали, что делать. Этой заминкой воспользовался народ: люди хлынули на помост, захватили оставшихся шестерых смертников (Флора, Мину и четверых, ждавших отсечения головы), понесли к воротам монастыря Святого Конона. Появившиеся монахи, испугавшись, отказались впустить толпу. И тогда настоятель церкви Святого Лаврентия, оказавшийся тут же, провозгласил:
– Я укрою их у себя в храме!
А восставшая чернь взревела:
– В церковь! В церковь!
Храм же находился на другом берегу Золотого Рога. Но идти обратно к Калинникову мосту было далеко, и стократно возрастал риск, что гвардейцы эпарха попытаются отнять осуждённых. Бунтари побежали к морю, принялись хватать лодки, прыгать в них и грести на другую сторону залива. Впереди был священник в развевающейся ризе. Он серебряным крестом указывал путь. И гребцы, глядя на него, воодушевлялись: «С нами Бог! С нами Бог!»
Вот уже и суша, каменные стены Константинополя, крупные ворота Святого Феодосия, стражники на них:
– Кто? Куда? Почему толпой? Осади, назад! – но, увидев священнослужителя, отступили, пропустили ораву.
Люди миновали ворота, близстоящую церковь Святого Феодосия и направились к храму Святого Лаврентия, быстро затекли внутрь.
– Двери! Закройте двери! – повелел настоятель.
Служки без вопросов повиновались, щёлкнули засовами.
Все попадали на колени, начали молиться.
Мина пришёл в себя и остатками пальцев совершил крестное знамение. Плача, прошептал:
– Пресвятая Дева! Ты спасла меня! Господи, помилуй! – посмотрел на Флора, скрючившегося рядом, и проговорил: – Флор, дружище!
Тот взглянул на него мутными глазами:
– Ты сказал «дружище»?
– Я сказал «дружище». Смерть нас побратала… Нет отныне «синих», «зелёных». Кончена вражда. Мы теперь друзья, и у нас общий враг – Евдемон, взявший нас, и Трибониан, осудивший нас, и Юстиниан, осенивший казнь!
– Осенивший казнь… – повторил венет и тоже расплакался. – Мы служили императору, защищали его, а он… отплатил неблагодарностью… да, отныне у нас общий враг!
И они соединили изуродованные окровавленные ладони без пальцев.
В это время снаружи храма появились гвардейцы градоначальника вместе с ним самим. Евдемон треснул кулаком по закрытой двери:
– Именем его величества! Отворяйте быстро!
Но в ответ не услышал ни шороха, ни голоса. Заключил:
– Хорошо же, мерзавцы. Вы подохнете там от голода. Церковь окружена. И никто на свете вам уже теперь не поможет.
4
Самодержец собрал у себя во дворце самых преданных собственных соратников, чтобы посоветоваться, как быть. У него присутствовали: Иоанн Каппадокиец, Пётр Варсима, Пётр Патрикий, Гермоген и Нарсес. Не было только Велисария, незадолго до Рождества вернувшегося из Персии с семитысячной армией. Простудившись в дороге, он отлёживался дома.
Царь велел всем садиться и открыл дебаты:
– Я желал бы услышать ваше мнение, господа. Евдемон чрезвычайно обеспокоен. По его докладам, ситуация в городе может выйти из-под контроля. Всюду возникают скопления черни, как прасинов, так и венетов, все они требуют помиловать осуждённых на казнь. К ним присоединяются прочие оборванцы. И отдельным отрядам конных гвардейцев не всегда удаётся пресекать эти безобразия.
Слово взял Пётр Патрикий. Будучи магистром оффиций, он управлял всеми ведомствами страны и влиял на монарха очень сильно, может, меньше только Феодоры. Говорил всегда чётко, с железной логикой. Горделиво носил крутолобую голову в седоватых кудряшках.
– Ваше величество, да позволено будет мне сказать откровенно?
– Разумеется, откровенно, вы здесь для того, чтобы говорить правду.
– Что ж, тогда не взыщите. Я давно призывал смягчить налоговый гнёт на мастеровых и менял, на купцов и мануфактурщиков. Бедные беднеют, а хозяева разоряются. Те и другие ропщут. Древние говорили: «Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris» – «Нельзя натягивать лук до предела, он сломается». Лук уже трещит. Надо ослабить натяжение.
– Что ты предлагаешь?
– Первое: помиловать осуждённых. И при этом отправить в отставку осудившего их Трибониана. Вместе с ним уволить с должности Иоанна Каппадокийца, ненавидимого народом. И уменьшить поборы. А иных путей усмирения демоса я не вижу.
Не успел он закончить, как вскочил Иоанн, весь пунцовый от возмущения и тряся кулаками, начал говорить:
– Ваше величество, я не столь учен, как Патрикий, но и мне нетрудно процитировать древних. «Ius est in armis» – «Кто силён, тот и прав». Если мы дадим слабину сегодня, завтра будем с вами грузиться на корабли, чтобы убежать из восставшего города. Никаких послаблений. Никаких уступок. Где же Велисарий с его солдатами? Бросить на толпу и рубить нещадно. Знаю, что гепид Мунд со своим отрядом тоже здесь. И гепидов бросить в атаку. Утопить Константинополь в крови. Классик недаром говорил: «Оderit, dum metuant» – «Пусть ненавидят – лишь бы боялись!» [17]17
«Пусть ненавидят – лишь бы боялись!» – выражение из трагедии «Атрей» римского писателя Актеция (170-104 до н.э.); римский писатель Светоний сообщает, что это изречение любил повторять император Калигула.
[Закрыть]
Неожиданно его поддержал Гермоген, возвратившийся из Персии вместе с Лисом:
– Да, решительные меры прежде всего. Как говорится, «ferro ignique» – «огнём и мечом». Запретить, распустить все партии цирка, отменить ристания, назначенные на тринадцатое число. Осуждённых казнить. И ещё тех, кто их освобождал. А попа из храма Святого Лаврентия силой постричь в монахи и сослать на окраину империи.
Автократор молчал, не спеша перебирая ореховые чётки. Гермоген продолжил:
– А вообще, что касается Церкви, надо положить конец разгулу монофиситов. Мы, конечно, знаем, кто стоит за ними…
Все в испуге посмотрели на василевса, как он отреагирует на выпад в сторону его благоверной, но Юстиниан сохранял на лице маску невозмутимости.
– …но когда колеблется почва под ногами, следует выбегать из непрочного здания, чтобы не быть похороненным под его обломками, – заключил магистр. – Надо навести порядок во всём. Беспощадно. Неколебимо.
– Даже ценой отступлений от норм закона? – глухо произнёс император.
Гермоген ответил:
– Цицерон сказал: «Inter arma silent leges» – «На войне законы молчат».
– Но войны пока нет. Или ты считаешь, что я должен воевать с собственным народом?
– Не с народом, ваше величество, а всего лишь с кучкой подонков, покусившихся на богоизбранного исапостола. «Legis virtus haec est: imperare, vetare, punire» – «Сила закона в приказании, запрещении и наказании».
– Ты забыл ещё одно слово, – возразил монарх, – «permittere» – «разрешении». Сила закона ещё и в разрешении. Если всё время запрещать и наказывать, человек взбунтуется. Надо иногда разрешать.
– Вы склоняетесь к инициативе Патрикия?
– Я пока думаю. И хотел бы выслушать мнение Варсимы. Ты считаешь, зреющий бунт надо подавить силой?
Пётр Варсима был комитом священных щедрот (то есть ведал государственными наградами) и считался самым хитрым из окружения самодержца. Выходец из Сирии, он прошёл долгий путь от простого менялы до чиновника высшего ранга державы. На любой вопрос отвечал масляной улыбкой и всегда на словах соглашался с собеседником, но на деле поступал исключительно исходя из здравого смысла и выгоды.
– Да позволено будет мне сказать, величайший из величайших, о Юстиниан Август! Я рискую не принять точку зрения Иоанна и Гермогена, несмотря на то, что считаю их лучшими сынами Романии. Прибегать к силе надо только в крайнем случае, а, на мой взгляд, до него ещё не дошло. Впрочем, я считаю, что капитулировать перед плебсом тоже не годится, да простит меня Пётр Патрикий, несравненный ритор и дипломат нашего времени. Надо выждать несколько дней. Пусть начнутся Иды, как положено, тринадцатого числа. А до этого времени не казнить укрывшихся в церкви Святого Лаврентия. Сохранять многозначительное молчание. Посмотреть на действия партий цирка. И уже тогда решиться на одну из предложенных ныне мер. – Поклонившись, Варсима сел.
Василевс посмотрел в сторону Нарсеса, евнуха, примикерия священной спальни, и спросил его мягко:
– Ну, а ты, друг мой, что молчишь, никому не перечишь и не выражаешь согласия ни с чьими словами? Где, по-твоему, искать выход?
Евнух встал, и в его армянских миндалевидных глазах можно было прочесть некую весёлость, даже беззаботность. Он сказал:
– Выход, ваше величество, один: подкуп. Подкупать всех – чернь, сенаторов, монофиситов, иерархов Церкви. Деньги делают чудеса, превращают врагов в друзей, прекращают войны и устраивают браки. Деньги – вот движитель мира! А поскольку денег в казне достаточно, мы сумеем купить спокойствие нашего Отечества. Как говорится, «pecuniae imperare oportet» – «деньгами надо распоряжаться с умом»!
Ждали итогового слова Юстиниана. Он сидел, как и прежде, погруженный в себя. Небольшая бородка и усы, крупные залысины, уходящие под корону, чуть заметные мешки под глазами. Пальцы перебирали чётки. Наконец, автократор проговорил:
– Тут немало цитировали древних, процитирую и я: «Festinatio improvida est et caeca» – «Всякая поспешность неосторожна и слепа». «Festina lente» – «Поспешай медленно»! И поэтому я согласен с Петром Варсимой – подождём день-другой. Пусть начнутся Иды, как им и положено. Последим за настроением плебса и патрициев. И уже тогда начнём действовать, исходя из реальной ситуации. – Он с тоской посмотрел в пространство, мимо всех, в точку, видимую ему одному. – Очень не хотелось бы крови. Но готовиться надо и к ней… – Перевёл взгляд на магистра Гермогена: – Поезжай к Велисарию, пусть скорей поправляется, держит наготове всех своих солдат. Пусть снесётся с Мундом. При плохом развитии событий сможем опереться только на них. – Поднял взор на Нарсеса: – Но и деньги, деньги! Мы без денег не обойдёмся. Надо уже готовить кругленькую сумму. Для сенаторов и гвардейцев прежде всего. Купим их лояльность, а тогда и с простым народом договоримся. – Сделал жест рукой, означающий, что беседа окончена. А когда все, склонившись в три погибели, стали подходить к самодержцу для прощального поцелуя в грудь, попросил Иоанна Каппадокийца: – Задержись, дружище, я хочу тебе кое-что сказать.
Тот повиновался. Остальные смиренно вышли, и монарх произнёс негромко:
– Будь готов к отставке.
У эпарха двора отвисла челюсть:
– Ваше величество… но ведь я… всей душою предан…
– Знаю, знаю, не гомони. Не желаю этого сам. Но коль скоро придётся сдерживать толпу… Брошу собакам кость – и тебя, и Трибониана… Не волнуйся, дальше простой формальности дело не пойдёт. Переждём немного и вернёмся к прежнему. Ты – выкачивать золото для казны, он – заканчивать свод законов. Лишь бы выиграть время.
Иоанн поклонился:
– Понимаю, ваше величество. Подчиняюсь вашей воле всецело.
– Вот и славно, друг. Пусть Трибониан тоже знает. Мы пойдём на уступки, но зато сохраним главное. Ясно, дорогой?
– Совершенно ясно.
– А теперь ступай. Всё решится в считанные дни. Или победим к воскресенью, или, как ты сказал, будем срочно грузиться на корабли.
– Лучше победить.
– Кто бы сомневался!
Проводив взглядом Каппадокийца, император встал с высокого трона из слоновой кости, инкрустированного золотом и сапфирами, подошёл к потаённой двери за колонной и, нажав на ручку, выпустил из маленькой комнаты Феодору. Та взглянула на супруга снизу вверх. Он спросил:
– Всё сумела расслышать?
– До единого слова.
– Кто же прав из нас, как по-твоему?
– Безусловно, ты.
Царь невесело улыбнулся:
– Ну, а если без лести?
– Петра, ты же знаешь, я в таких вопросах не льщу. Затевать кровавую бойню рано. Но идти на какие-нибудь уступки тоже преждевременно. Может, обойдётся. Будем выжидать.
Автократор поморщился:
– Самое противное – выжидать. Сразу оказываешься на пассивной стороне. Василевс должен действовать, проявлять инициативу.
– Главное искусство управления государством в том, чтобы проявлять известную гибкость, маневрировать, уступать для вида, а затем наносить неожиданный удар. Ежели удар не рассчитан, он приходится в пустоту.
Самодержец привлёк её к себе и поцеловал с нежностью:
– Ты моя сударушка… Прозорливее и умнее всех. Без тебя я – ноль.
– Не преувеличивай, – и она ластилась к нему и мурлыкала, словно кошка.
– Правду говорю. Мы с тобой единое целое…
– Что-то мы давно этим целым не были.
Он вздохнул:
– Государственные дела заели.
– Но ведь наша близость окрыляет тебя на новые подвиги. Ты всегда это утверждал.
– Окрыляет, конечно.
Феодора обвила его шею руками:
– Может, перейдём в гинекей, мой бесценный?
– Было бы неплохо, но хотел бы ещё немного посидеть с документами… После гинекея расслаблюсь, долго не приду в рабочее состояние…
– Пустяки. Надо отдыхать иногда. Кроме государственного, есть ещё и супружеский долг, ты забыл?
– Начал забывать.
– Я тебе напомню.
И они, скрывшись за колонну, устремились по винтовой лестнице на женскую половину, в спальню Феодоры.
До решающих событий этого января оставались сутки с небольшим.
5
Идами, по римским канонам, называли в конкретном данном случае тринадцатый день января, на который были назначены новые заезды на ипподроме. Их обычно намечалось двадцать четыре, каждый по семь кругов. И на первых порах церемония шла своим чередом: выход императора на кафисму, знак его к началу ристаний, крики «зелёных» и «синих», улюлюканье, свист. Неожиданно на правой стороне западной трибуны, где сидели венеты, люди стали скандировать: «Август, помилуй тех, кто спасён Господом!», «Флора на свободу! Мину на свободу!» И отдельные представители «синих» по проходам побежали к царю, яростно размахивая руками, но гвардейцы эпарха преградили им путь, начали теснить, напирать, получилась давка. Тут внезапно с левой стороны той же трибуны бросились на помощь бывшим своим соперникам по заездам прасины – с криками: «Многие лета нашим обоим димам!» – начали сражаться с гвардейцами кулаками и палками. Снова вспыхнула драка. А народ на трибунах принялся орать: «Ника! Ника!» Так обычно подбадривали возничих («Побеждай! Побеждай!»), но поскольку заезды были приостановлены из-за потасовки, восклицания явно предназначались взбунтовавшимся «синим» и «зелёным».
Император поднялся. Вместе с ним встало всё его окружение. Он глазами отыскал Евдемона, выставил вперёд указательный палец и сказал:
– Отвечаешь лично. Наведи порядок любой ценой. Говорю тебе прямо: любой ценой. Я устал от волнений в городе. Ты меня огорчаешь.
– Ваше величество, ваше величество, – суетливо произнёс градоначальник, – означает ли это, что могу ворваться в храм Святого Лаврентия и схватить Мину, Флора с их компанией?
Но монарх не ответил и торжественно покинул трибуну. Вслед за ним потянулась свита. Иды были сорваны: до конца бегов оставалось два заезда.
Евдемон причитал:
– Как же поступить, Господи? Почему я один должен всё решать?
А сенатор Пров, проходя мимо, переваливаясь с боку на бок из-за грузности, с недовольством заметил:
– Что тут сомневаться? Автократор велел, чтоб любой ценой. Вот и действуй. Выполняй приказ. – Про себя же усмехнулся злорадно: «Действуй, действуй, глупец безмозглый. Распали страсти. Это мне и надо». Арсенал с оружием, собранный в его доме, был уже наготове.
Нескольких зачинщиков драки арестовали, но толпа перемешавшихся «синих» и «зелёных» догнала конвой, и гвардейцы, оказавшиеся в явном меньшинстве, быстро отпустили задержанных. Бунтари воспрянули. «Ника! Ника!» – слышалось повсюду.
С ипподрома люди хлынули на Месу, по пути громя лавочки менял и ростовщиков на Аргиропратии и обычные мастерские в портиках Артополии. Били, крушили, колошматили. Как лавина. Как горный сель… После Амастрианского форума кто-то крикнул: «На Пульхериану! К храму Святого Лаврентия!» – «На Пульхериану! – заревели восставшие. – Вызволим Флора с Миной! Ника! Ника!»
Прокатились по кварталу Константианы, миновали стену и свернули направо – к цистерне Бона. У ограды церкви Святого Лаврентия натолкнулись на отряды гвардейцев. Те стояли с мечами наголо и имели довольно грозный вид, не суливший бунтующим ничего хорошего. Чернь слегка замялась, потому что быть изрубленным никому не хотелось; но, с другой стороны, масса прибывала, и охранники могли её не сдержать.
– Жизнь! Жизнь казнимым! – крикнули во вторых рядах. – Отпустите Флора и Мину!
Командир гвардейцев поднял руку с мечом:
– У меня приказ! Я его не нарушу. И убью любого, кто попробует подойти к храму.
– Почему ты желаешь смерти Флору и Мине?
Командир ответил:
– Мне они безразличны.
– Отпусти, отпусти!
– У меня приказ. Евдемон – начальник. Пусть отменит приказ, и сниму охрану.
Люди забурлили:
– К Евдемону! К градоначальнику! Пусть отменит приказ! – и опять со словами: «Ника! Ника!» – устремились обратно в Константиану, к резиденции Евдемона. Здесь, на берегу Ликоса, находилась тюрьма эпарха и его присутствие, тоже охраняемое воинами.
Бунтари встали за оградой, начали скандировать:
– Отмени приказ! Отмени приказ! Флора и Мину на свободу! Выйди, Евдемон!
Но никто не вышел.
– Он боится нас! – улюлюкал плебс. – Мы его сильней!
Кто-то выпалил:
– Поджигай, братва! Пусть горит огнём!
Тут же, как по волшебству, появились факелы, и толпа стала их бросать в окна резиденции. Вскоре пламя охватило первый этаж, поваливший дым был какой-то бурый и едкий, а восставшие хоть и кашляли, но не уходили, продолжая кричать и прыгать от радости. Но, конечно, не остались в долгу и гвардейцы: кто-то побежал за пожарными, кто-то делал попытки погасить пламя собственными силами, кто-то бросился на виновных в поджоге, вознамерившись их арестовать. Снова вспыхнула драка. Брошенными камнями ранили начальника караула. Тот стоял оглушённый и бессмысленными глазами смотрел, как с его ладони капает кровь, то и дело прикладывал пальцы к ране и как будто бы даже ухмылялся, а потом, покачнувшись, потерял сознание и упал. Так была пройдена черта, за которой жизнь человека не ценилась уже выше медной монетки, та черта, за которой всё дозволено, как сказали бы теперь: полный беспредел. Из толпы, словно из шкатулки с секретом, выпрыгнули хорошо обученные молодчики с боевыми топориками и саблями наголо. И хотя у них не было щитов, а гвардейцы отбивали удары эгидами, наседали как раз восставшие, а охранники вяло оборонялись. Вскоре вовсе дрогнули, развернулись и побежали. Но противники их не пощадили: догоняли и добивали, целясь в незащищённую шею. Было умерщвлено более пятидесяти человек.
Счастью бунтарей не было предела. Сразу пронёсся спонтанный клич:
– На тюрьму! На тюрьму! Выпускай братьев-узников!
Этот лозунг чрезвычайно понравился опьянённым первой кровью громилам, и они, размахивая оружием, двинулись к тюрьме. А за ними – прочие оборванцы. По пути затаптывали оставшихся охранников, танцевали на их обезображенных лицах, тыкали палками между ног. Ликвидировав стражу, принялись сбивать замки с камер. Заключённые всех мастей, в том числе настоящие грабители и насильники, ликовали, обретая свободу, обнимались с венетами и прасинами и вливались в их гущу.
Наконец опустело последнее помещение, и один из молодчиков, весь в чужой крови, перепачканный сажей от горевшей неподалёку резиденции Евдемона, поднял правую руку – в знак того, что он хочет говорить, и провозгласил:
– А теперь в тюрьму Халки! Надо выпустить и тамошних бедолаг!
– Халка! Халка! – подхватили восставшие. – Побеждай! Побеждай!
С оглушительным рёвом многотысячная толпа потекла по Месе, всё круша на своём пути, поджигая здания, выбивая стекла. Загорелись бани Зевсксипп и странноприимный дом Сампсона, Дом Ламп и бесчисленные книжные лавки. Люди начали раскачивать колонну Константина, но свалить не смогли, лишь побили камнями и измазали нечистотами. Возле ипподрома подожгли храм Святой Ирины, знаменитый портик Августеон; от него огонь перекинулся на другой близлежащий храм – Святую Софию, и она горела, как факел, ярко, мощно, языки пламени дотягиваясь до неба. Следом вспыхнуло здание Сената. Полыхал весь город. Обезумевшие простолюдины с криками и руганью забегали в дома, избивали мужчин и насиловали женщин, будто завоеватели в неприятельском городе. Разгромили управление почт и четыре императорских канцелярии – скринии. Подожгли Халку, и её крыша с позолоченными листами рухнула. А затем отправились вызволять Мину и Флора из церкви Святого Лаврентия.
Зарево над Константинополем полыхало всю ночь. Многие аристократы в панике бежали – через Мирилею и Форум Быка к гавани Феодосия – и, наняв лодки, устремлялись по морю в Хрисополь, что стоял на другом берегу Босфора.
Утро наступило в ожидании чего-то зловещего.
Разумеется, во Дворце император не сомкнул глаз. Совещался с сенаторами, говорил с военными, подходил к окнам и смотрел, как пылает город. Глядя на охваченный пламенем храм Святой Софии, он впервые ощутил страх. Вдруг почувствовал себя совершенно не защищённым. Титулы, цветистые имена – «Цезарь», «Август», «Юстиниан» – вдруг осыпались, превратившись из полновесного слитка в невесомое сусальное золото. Все его благие намерения – укрепление государственной власти, упорядочение законов, собирание всех утраченных Римской империей земель, собирание Церкви из разных конфессий – оказались чуждыми, непонятными простому народу, да и непростому в значительной степени тоже. Жалкий выскочка из Иллирика, Пётр, сын Савватия, появившийся на престоле волей случая… Никому не нужный, кроме Феодоры… Впрочем, вероятно, и ей – ведь она ему изменила с этим арабом?…








