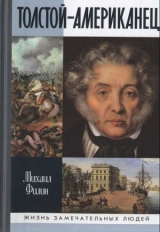
Текст книги "Толстой-Американец"
Автор книги: Михаил Филин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
К месту будет заметить, что в словоупотреблении XVIII – первой половины XIX века «американцами» кого только не называли: и сотрудников Российско-Американской компании, трудившихся на огромной, в тысячи вёрст, территории; и бледнолицых граждан Северо-Американских Штатов (jankee;см., например, пушкинского «Джона Теннера»); и коренных жителей Северной Америки индейцев; и представителей многих народов, живших в Русской Америке, как то: алеутов, эскимосов, колошей… [252]252
См.: Берёзкина С. В. Почему Фёдора Толстого прозвали «Американцем»? // Русская литература. 2001. № 3. С. 92–95.
[Закрыть]При столь расширительном, совершенно не устоявшемся толковании данного слова в «американцев» даже весьма просвещённые лица (вроде А. С. Грибоедова или Ф. В. Булгарина) могли заодно записать и неведомых им камчадалов,населявших Камчатку. А записав, не делать особой разницы между ними, «природными сей страны жителями» [253]253
Крузенштерн. С. 433.
[Закрыть], и, допустим, их близкими соседями – алеутами. К тому же внешний облик камчадалов, особенности их быта и культуры, разительно отличавшиеся от европейских («цивилизованных»), имел известную схожесть с обликом и прочими этнологическими характеристиками других «диких американцев».
Камчадалы, принявшие христианское исповедание, занимались преимущественно охотой на соболей и рыболовством, регулярно использовались в качестве проводников и курьеров, они славились радушием и были лояльны к россиянам. «Не могу я умолчать о сих честных людях, которые в доброте сердца, в верности, гостеприимстве, постоянстве, повиновении и преданности к начальникам не уступают многим самым просвещённым народам, – писал изучавший этот народ Иван Крузенштерн. – Они полезны во многих случаях, а часто даже и необходимы. Камчадалы не живут в городах, построенных россиянами, но рассеянно во внутренности Камчатки малыми селениями, называемыми острогами различной величины. <…> Каждый острог состоит под непосредственным начальством тайона, избираемого ими из всего своего общества <…>. В тайоны избирают обыкновенно прилежнейшего камчадала, отличающегося своим хорошим поведением, а больше стараются выбирать из старинных тайонских фамилий, которые были тайонами до покорения россиянами Камчатки» [254]254
Там же. С. 436.
[Закрыть].
В другом месте записок капитан-лейтенант Крузенштерн упомянул о камчадалах, «живущих около Петропавловска» [255]255
Там же. С. 430.
[Закрыть]. Видимо, в эти-то остроги (обычно насчитывавшие тогда, после сильной эпидемии, 15–20 человек) и наведывался отдыхавший Фёдор Толстой. Здесь граф мог погостить, испить «горячего вина» (к коему камчадалы имели явную склонность) и разжиться всяческими вещицами, этнографическими редкостями, которые позднее с гордостью демонстрировал столичным приятелям. «Дома он одевался по-алеутски, – свидетельствовал один из знакомцев графа Фёдора, – и стены его увешаны были оружием и орудиями дикарей, обитающих по соседству с нашими Американскими колониями» [256]256
Булгарин. С. 203.
[Закрыть]. Впрочем, в домашнем музее графа Толстого, скорее всего, были представлены диковинные предметы, добытые, как выразилась его дочь, «во всех странах света».
Итак, отдохнув в Петропавловске и в окрестностях порта, среди горячих ключей и дикарей, достаточно долго, граф Фёдор Толстой не стал, по нашему убеждению, «пробираться» в Америку – он, обязанный возвращаться в Преображенский полк, выбрал для себя другое продолжение путешествия. И в распоряжении биографа есть разрозненные опорные факты, из коих, как из кубиков смальты, составляется определённая мозаичная картина.
Прежде всего, обратимся к автобиографической хронике Прасковьи Фёдоровны Перфильевой «Несколько глав из жизни графини Инны», которая была напечатана в журнале «Русский вестник» в 1864 году. Там, по утверждениям автора, дочери графа Фёдора, отец её «верно обрисован» в образе графа Камского (почти Камчатского) и в рассказах о нём «нет ничего прибавленного» [257]257
Розанова С. А.Указ. соч. С. 226–227. Достойно внимания следующее – стилистически не совсем отшлифованное – замечание С. А. Розановой: «Никто из тех, кто изучал биографию Американца или упоминал отдельные моменты его жизни, не удосужился заглянуть в „Русский вестник“, чтобы проверить свои суждения и отказаться от бытующих мифов и домыслов». (Там же. С. 240.)
[Закрыть]. Три строки этого сочинения, могущего считаться достоверным историческим источником, посвящены интересующему нас эпизоду. Вот они:
«Во время одного из своих путешествий он вынужден был для возвращения в Россию поступить матросом на купеческое судно» [258]258
РВ. 1864. № 4. С. 683.
[Закрыть].
Но возвращаться в Россию из Петропавловска морем значило в ту пору одно: идти в Охотск, лежащий на берегу Охотского моря.
Такие переходы – через проливы севернее Курильских островов – в начале XIX столетия стали обыденными, и за одну навигацию несколько кораблей Российско-Американской компании пересекали Охотское море в обоих направлениях. Барон В. И. Штейнгейль, например, в течение ряда лет водил «казённые транспорты» из Охотска в Петропавловск и обратно [259]259
Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 101–102.
[Закрыть]. А в июне 1805 года на петропавловском рейде, как зафиксировал Иван Крузенштерн, находились сразу два купеческих судна, пришедшие из Охотска, – «Феодосия» и «Мария» [260]260
Крузенштерн. С. 335.
[Закрыть]. Добавим, что и списанные на берег с фрегата «Надежда» одновременно с Фёдором Толстым живописец Курляндцов и доктор («натуралист по части ботаники» [261]261
Журнал первого путешествия россиян… С. 168.
[Закрыть]) Бринкин были отправлены в Петербург также через Охотск [262]262
Петров В. Указ. соч. С. 46.
[Закрыть].
На каком-то из курсировавших между портами судов Российско-Американской компании однажды очутился и граф Фёдор Толстой – его приняли на борт в качестве простого матроса (или якобы матроса). Думается, что это произошло во второй половине сентября 1804 года, то есть почти через месяц после отплытия «Надежды» в Японию. «Плавание Охотским морем, а особливо между Курильскими островами, – предупреждал Крузенштерн, – опасно и редко совершается скорее четырёх недель» [263]263
Крузенштерн. С. 397.
[Закрыть]. Посему в город Охотск – в «приморское захолустье», где «кроме адмиралтейских и компанейских строений существовало не более 100 домов» [264]264
Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 101.
[Закрыть], – Фёдор Толстой должен был попасть не позднее конца октября, на исходе навигации 1804 года.
Другим источником, довершающим картину, является обнаруженное недавно в Государственном архиве Пермской области письмо графа Фёдора Толстого к коммивояжёру Российско-Американской компании на Камчатке К. Т. Хлебникову. Оно было написано в Охотске [265]265
Публикуя данный архивный документ, А. А. Арустамова не сумела установить место, где писалась эпистолия, но это, несомненно, Охотск.
[Закрыть]и датируется январём 1805 года:
«Любезный Кирило Тимофеевич!
Благодарю тебя за рекомендацию, которая мне доставила приятное знакомство. Судьба, управляющая нами, не велит располагать будущим, я никогда бы не поверил, что проживу столь долго в сём городке, паче того, мог ли думать, что буду <отцом> моего любезного Казаринова. Который заменит долгое письмо и изустно тебе расскажет, как здесь <жил> и всё… и всё. Пожелаю тебе всякого благополучия, всего только, что можно желать милому человеку как ты, пребуду навсегда с искренней дружбой тебя любящий Толстой.
Прошу уверить в моём искреннем почит<ании> Марью Семёновну» [266]266
Арустамова А. А. Указ. соч. С. 145. При воспроизведении письма сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации подлинника.
[Закрыть].
Вероятно, находившиеся в конце лета – начале осени в Петропавловске Хлебников и его жена (?) познакомились там с Фёдором Толстым, коротко сошлись с ним, и компанейский чиновник снабдил графа, садящегося на торговый корабль, рекомендательной бумагой в Охотск – к неизвестному нам господину Казаринову. В Охотске наш герой против ожидания задержался надолго – получается, что месяца на три. И, прежде чем покинуть этот стодворовый «городок», граф Фёдор счёл за должное письмом (пересылаемым через того же «приятного» Казаринова) поблагодарить «любезного» Хлебникова и его супругу (?).
Примерно в те же дни начала 1805 года граф Толстой, как уже упомянуто на предыдущих страницах, виделся в Охотске с бароном В. И. Штейнгейлем.
А месяцем раньше, в декабре 1804 года, с графом Фёдором произошло, по его словам, нечто необычайное. Зная дальнейшую судьбу Толстого, мы не решаемся назвать рассказ, зафиксированный М. Ф. Каменской, сплошной выдумкой. Вот что довелось услышать спустя много лет племяннице:
«…В одну тёмную ночь, когда он был на шаг от пропасти, ему явилось лучезарное видение святого, осадило его назад, и он был спасён. Тогда же Фёдор Иванович заглянул в устроенный им самим из чего-то календарь, который носил всегда при себе, и увидел число 12-го декабря; значит, святой, который предстал ему в видении, был не кто иной, как св<ятой> Спиридоний, патрон всех графов Толстых».
Далее М. Ф. Каменская уверяла читателей «Воспоминаний», что «с этой минуты Фёдор Иванович сделался мало что богомолен, а просто ханжой». Последнее замечание мемуаристки легко можно оспорить, однако известно, что с некоторых пор граф действительно постоянно носил на груди «большой образ, в окладе, св<ятого> Спиридония» [267]267
Каменская. С. 176, 179. Выделено мемуаристкой.
[Закрыть], епископа Тримифунтского (преставившегося в середине IV века).
Фельдъегерь с важными и срочными государственными пакетами преодолевал тогда дистанцию между Петербургом и Охотском в среднем за два месяца [268]268
Например, в 1805 году бумаги от министра коммерции графа Н. П. Румянцева были доставлены к капитан-лейтенанту Крузенштерну через 62 дня (Крузенштерн. С. 398).
[Закрыть]. У обычных же путешественников, задерживавшихся на станциях и не загонявших лошадей, такой «далёкий и трудный путь» занимал, как правило, от шести до восьми месяцев. (Столько времени доставлялись, к примеру, в Северную столицу разделённые на группы японцы, не раз упоминавшиеся в этой главе [269]269
Турковский В. Кругосветное путешествие нескольких японцев через Сибирь, сто лет назад // ИВ. 1898. № 7. С. 196–198.
[Закрыть].) Зная, когда граф Фёдор Толстой достиг града Петра, несложно расчислить: он покинул Охотск где-то в конце января – начале февраля 1805 года.
Как знать: может быть, напоследок, «на посошок» разжалованный кавалер посольства всё-таки успел закатить пир на весь охотский мир и отпраздновать в «городке» своё двадцатитрёхлетие.
Странствие Толстого в западном направлении пришлось на три времени года. Значит, граф ехал на собаках, трясся на клячах, а зачастую просто шёл, верста за верстой, по небезопасному каторжному краю пешком. В дороге «пешеходному туристу», одетому в потрёпанный Преображенский мундир, довелось за полгода увидеть многое, общаться со многими. Об одном рандеву он позднее рассказал П. А. Вяземскому, а князь сберёг этот рассказ в записной книжке:
«Где-то в отдалённой Сибири напал он на старика, вероятно, сосланного: он утешал горе своё родными сивухой и балалайкой. Толстой говорил, что он пил хорошо, но ещё лучше играл на своём доморощенном инструменте. Голос его, хотя и пьяный и несколько дребезжащий от старости, был отменно выразителен. Толстой помнил, между прочим, куплет из одной песни его:
Не тужи, не плачь, детинка;
В рот попала кофеинка,
Авось проглочу.
И на этом авось проглочу голос старика разрывался рыданиями, сам он обливался слезами и говорил, утирая слёзы свои: „Понимаете ли, ваше сиятельство, всю силу этого авось проглочу!“ Толстой добавлял, что редко на сцене и в концертах бывал он более растроган, чем при этой дикой и нелепой песне Сибирского рапсода» [270]270
СЗК.С. 353. Выделено мемуаристом.
[Закрыть].
К лету, которое выдалось жарким, наш герой оставил за спиной бесконечную и малолюдную Сибирь, одолел хребты Урала и оказался в европейской части России.
Там, «в стране вотяков», среди дремучих лесов, уже в июле граф встретил караван российского посольства, направлявшийся в Китай. Между членами дипломатической миссии находился и Ф. Ф. Вигель. В его «Записках» есть любопытное описание свидания с Толстым в станционной избе:
«Во время отдыха на одной из <…> станций мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в Преображенском мундире. Это был граф Фёдор Иванович Толстой <…>. Он поразил нас своею наружностью. Природа на голове его круто завила густые, чёрные его волосы; глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настращённым моим товарищам казался омутом. Я же, не понимаю как, не почувствовал ни малейшего страха, а, напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго, говорил всё обыкновенное, но самую речь вёл так умно, что мне внутренно было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне сткляницу смородинного сыропа, уверяя, что, приближаясь к более обитаемым местам, он в ней нужды не имеет» [271]271
Возможно, граф Фёдор выделил умильного девятнадцатилетнего собеседника ещё и потому, что юноша исправлял почти такую же должность, как и сам Толстой при Резанове: он ехал в Китай «под именем дворянина посольства». Через несколько месяцев Филипп Вигель в каком-то смысле повторил судьбу графа: в Кяхте он был выключен из состава посольства.
[Закрыть] [272]272
Вигель-1. С. 348.
[Закрыть].
Видимо, Филиппу Вигелю было невдомёк, что сироп, годящийся разве что для приготовления варенья или лимонада, мог скомпрометировать графа Фёдора Толстого в глазах старых товарищей.
О дальнейшем продвижении графа к западным пределам империи мы ничего не знаем. Нет никаких сведений и о том, удалось ли графу Толстому исполнить давешнюю мечту и без лишней огласки, наскоком посетить родину, Москву. На петербургской же заставе он объявился, по-видимому, в конце июля – начале августа 1805 года, аккурат за год до возвращения «Надежды» и «Невы» в Кронштадт.
Таким образом, в Северной столице лейб-гвардеец, побывавший в пяти частях света, отсутствовал два года.
В Петербурге татуированного поручика Преображенского полка графа Фёдора Толстого, совершившего кругосветное путешествие, с нетерпением поджидали – и заждались его там не только бесчисленные приятели.
Ведь донесения осерчавшего посланника Николая Резанова – из Бразилии да и прочие – к тому времени сделали-таки своё дело.
В формулярном списке графа, составленном в 1811 году, сухо указано, что граф Фёдор Иванов сын Толстой «1805-го <года> августа 10-го по нахождению его при японском посольстве за предерзость и непристойное поведение выписан в Нейшлотский Гарнизонный батальон» [273]273
Архангельская-4. С. 17. Ср.: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. 4.2. Л. 113.
[Закрыть].
В паспорте об увольнении «от службы с мундиром», выданном графу в 1816 году, была повторена практически та же самая формулировка – только слово «непристойное» заменено словом «неприличное» [274]274
Архангельская-4. С. 19.
[Закрыть].
А в «Истории лейб-гвардии Преображенского полка», изданной в 1883 году, причины перевода поручика Толстого в гарнизонный батальон не объяснены вовсе [275]275
Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. IV. СПб., 1883. С. 217.
[Закрыть].
По Ф. Ф. Вигелю же выходит стократ романтичнее: бывшего кавалера посольства (и уже не «благовоспитанную особу») графа Фёдора Толстого тогда задержали на заставе при въезде в Петербург, чуть ли не силком провезли через город – и отправили в Нейшлотскую крепость.
Глава 3. «ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ»
Этот граф Толстой был в своё время кутила и человек очень известный по своей разгульной и рассеянной жизни.
Е. П. Янькова
Почтенный старец, человек самых строгих правил, генерал-адъютант и член Государственного совета граф Павел Христофорович Граббе, повествуя в своих «Записках» о встречах с Фёдором Толстым – «главным представителем школы безнравственности», почему-то утверждал: «Подобное явление теперь кажется невозможным. Ни правительству, ни обществу в тогдашние бурные времена некогда было заниматься отдельными лицами, без политической причины» [276]276
Граббе. С. 94, 95.
[Закрыть]. Однако предпринятое изучение биографии графа Толстого убеждает нас в совершенно обратном: для него, бесконечно далёкого от политики человека, «полковой штуки» (так величали бесшабашных офицеров [277]277
Ивченко Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2009. С. 199.
[Закрыть]), власти и в «бурные времена» начала XIX столетия всегда выкраивали – вынуждены были выкраивать – время.
Об интересе же «общества» к похождениям нашего героя и говорить не приходится. После возвращения из путешествия на «Надежде» имя графа Фёдора стали склонять в свете (возможно, и в полусвете) на все лады, и в середине десятилетия он вполне мог потягаться славой с каким-нибудь «заезжим фигляром».
По всей вероятности, уже тогда говоруны, перемывая косточки графу Толстому, стали называть его (вслед за остряками преображенцами) Американцем – и тем самым избавляли себя от необходимости нудно разъяснять собеседникам, кого из мильона Толстых они имеют в виду. Удачная импровизация Сергея Марина и компании пошла гулять по кружкам и салонам. Так Фёдор Иванович обрёл пожизненное и меткое прозвище, которым всегда гордился, – и не раз с удовольствием писал (в третьем лице) про «гр<афа> Толстого, известного в обществе под именем Американца» [278]278
Биография Сарры. С. VII.
[Закрыть]. И вправду: «Кто из современников не знал Графа Ф.И.Т., прозванного Американцем, или кто не слыхал об нём!» [279]279
Булгарин. С. 201. Выделено мемуаристом.
[Закрыть]
В мемуарах и переписке той эпохи закрепившееся за Фёдором Ивановичем прозвище употребляется двояко: графа величают и Толстым-Американцем, и – иногда – Американцем Толстым. А для друзей и приятелей он чаще всего бывал просто Американцем.
Современники, в разговорах и на бумаге, разжаловали его многократно, иные совершали эту процедуру аж до одиннадцати раз. Другие – в частности Ф. В. Булгарин [280]280
Там же. С. 206.
[Закрыть]– даже отправляли Американца тянуть солдатскую лямку. Поручик «почти не выходил из-под ареста», – утверждал его двоюродный брат [281]281
PC. 1873. Т. VII. С. 125.
[Закрыть].
Кончилось тем, что дочь графа, П. Ф. Перфильева, к которой никто не обращался «за более верными сведениями», прислала в 1878 году в редакцию петербургского журнала «Русская старина» сердитую заметку, где, среди прочего, указала авторам «литературных трудов», что отец её был разжалован всего «два раза» [282]282
Перфильева П. Ф. Граф Ф. И. Толстой//PC. 1878. № 12. С. 718. В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» Прасковья Фёдоровна просто указала, что отец её «был разжалован» (РВ. 1864. № 4. С. 683).
[Закрыть].
К сожалению, никто – ни в ту пору, ни позднее – не потрудился расшифровать скупые слова Прасковьи Фёдоровны. А смысл их прозрачен: подействовавшей в начале XIX века системе военных чинов, офицеры гвардии имели старшинство в два-три класса перед армейскими офицерами (к примеру, чину гвардейского поручика соответствовал чин капитана, а вовсе не поручика, армейской пехоты [283]283
Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 83.
[Закрыть]). Толстой же за проступки дважды переводился из лейб-гвардии Преображенского полка в заурядные армейские части тем же чином– то есть фактически он заметно понижался в чине, был разжалован.
Первым таким разжалованьем стала выписка графа в «гарнизонный Уколова полк» в 1800 году. Вторым – выписка в Нейшлотский гарнизонный батальон.
О ней – впрочем, не только о ней – и будет наш дальнейший рассказ.
В этой главе мы расскажем о семи годах жизни графа Фёдора – с момента его возвращения в Северную столицу летом 1805 года и до начала Отечественной войны против Наполеона – и заодно, исследовав доступные исторические источники, внесём очередные уточнения в толстовскую биографию.
Начнём же с того, что Филипп Филиппович Вигель заблуждался: поручик граф Толстой, скорее всего, так и не попал в 1805 году в Нейшлотскую крепость, и вот почему.
В формулярном списке графа есть явная странность, на которую до сих пор не обращено должного внимания. Напомним читателям: в уже цитировавшемся документе сказано, что Фёдор Толстой был выписан в Нейшлотский гарнизонный батальон 10 августа 1805 года. А следующая запись в формулярном списке гласит: «Из оного переведён в Костромской пехотный полк – 1805 августа 29» [284]284
Архангельская-4. С. 16. Практически то же самое прописано в «Пашпорте» 1816 года (Там же. С. 19) и в прошении Ф. И. Толстого об отставке 1814 года (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117).
[Закрыть].
Почему же проштрафившийся Американец, направленный в виде наказания в одну воинскую команду, в «граниты финские, граниты вековые» (Е. А. Боратынский), буквально мигом – ведь не прошло и трёх недель августа – очутился в другой?
Ответ, на наш взгляд, довольно прост. Для его получения надо только исследовать старые бумаги и установить, что именно 29 августа 1805 года состоялся высочайший указ о созданииКостромского пехотного (первоначально мушкетёрского [285]285
Костромской полк назывался мушкетёрским до 22 февраля 1811 года, когда он стал именоваться пехотным.
[Закрыть]) полка. Шефом этого полка был назначен двадцативосьмилетний генерал-майор князь Алексей Михайлович Щербатов, «отличавшийся добротой и гуманностью» [286]286
Богданович В. Краткая история 19-го пехотного Костромского полка с 1805 по 1900 г. Житомир, 1900. С. 7, 16.
[Закрыть].
А далее всё произошло примерно так же, как и в 1803 году, при формировании штатов кругосветной экспедиции. Кто-то из влиятельных петербургских персон вновь оказал протекцию графу Фёдору – и наказанного поручика Толстого, не успевшего отправиться в захолустный Нейшлот, «перевели» во вновь образованный, ещё не сформированный полк [287]287
Ср.: «Дата выписки поручика графа Толстого в Нейшлотский гарнизонный батальон – 10 августа 1805 года – не подтверждается публикацией Высочайшего приказа об этом в „Санктпетербургских ведомостях“ (№ 66 от 18 августа 1805 года): пункта о переводе графа Толстого в тексте приказа от 10 августа нет» (Архангельская-4. С. 20).
[Закрыть]. Конечно, Костромской мушкетёрский полк с молодым сиятельным шефом имел – по крайней мере в теории – несомненные преимущества перед дальней крепостью.
Таким образом, граф, не покидая летнего Петербурга, умудрился прослужить восемнадцать дней в одном из финляндских батальонов. (В эти августовские дни и недели он сполна отвёл душу в общении со старинными друзьями, в первую очередь с бывшими товарищами по Преображенскому полку – с Сергеем Мариным, Дмитрием Арсеньевым и прочими любезными сердцу гвардейцами.) После чего поручик Костромского полка граф Фёдор Толстой – очевидно уже осенью – покинул столицу и по испорченным непогодой дорогам двинулся в городок Слоним Литовско-Гродненской губернии.
Именно Слоним определили местом дислокации новорожденного мушкетёрского полка – и туда направлялись составившие полк роты и батальоны.
С дороги, едва отъехав от Петербурга, граф Фёдор обратился со стихотворным посланием к столичным приятелям. Эти стихи, сочинённые Толстым на одной из станций, дошли до нас в списке:
Давноль? Давноль, друзья, приятели! я с вами
Питался сладкими свидания слезами?
И будто не видал щастливых тех часов,
Когда с тобою был, Марин! Аргамаков!
С тобой, о пламенный Наташки полюбовник,
Арсеньев, старый друг и прежний мой полковник!
Но ах! исчезло всё, исчезло будто сон!
С немецкой харею не зрю тебя, барон!..
К последнему стиху в списке кем-то было сделано пояснение: «Дризен» [288]288
Давыдов Д. Полн. собр. стихотворений / Ред. и примеч. В. Н. Орлова. Л., 1933. С. 281. Сохранена орфография подлинника. Публикуя этот текст, В. Н. Орлов отметил без каких бы то ни было пояснений, что стихи посланы «со станции за 60 вёрст от Петербурга» (там же). См. также: ЛН. Т. 19–21. М., 1935. С. 339.
[Закрыть]. Вероятно, Фёдор Толстой, увидевшись перед отбытием с шедшим в гору, но не становившимся симпатичнее бароном Егором Васильевичем (Георгом-Вильгельмом тож), вновь успел что-то не поделить с ним.
Костромской мушкетёрский полк, как выяснил его историограф, «был сформирован из шести рот Великолуцкого мушкетёрского полка, одной Вильмандстрандского и одной Кексгольмского гарнизонных батальонов Финляндской инспекции» [289]289
Богданович В. Указ. соч. С. 6.
[Закрыть]. В нём наличествовало 35 штаб– и обер-офицеров и 1190 нижних чинов. Командиром полка являлся майор Василий Христианович Фитцнер [290]290
Там же. С. 11, 299.
[Закрыть].
Вновь судьба упрямо сводила графа Фёдора с начальником из «немцев».
Поручикам Костромского полка, в зависимости от рода оружия, было установлено жалованье в размере от 285 до 395 рублей. Им полагался двубортный мундир со светло-зелёным стоячим воротником и такими же обшлагами, белые панталоны, тёмно-зелёные погоны, обшитые серебряным галуном, и султан из петушиных перьев на кивере, а также особые офицерские знаки, носимые на воротниках [291]291
Там же. С. 12.
[Закрыть]. Однако весьма сомнительно, что Американец, «бывши в Костромском пехотном полку» (так сказано в формулярном списке [292]292
Архангельская-4. С. 17.
[Закрыть]), успел облачиться в новую форму.
Так как никаких казарм для полка загодя построено, естественно, не было, то прибывавшие в захудалый Слоним офицеры и рекруты размещались в городе «по обывательским квартирам». Получил такую квартиру и граф Фёдор. В той местности велика была доля еврейского населения – и можно предположить, что поручик потеснил как раз еврейскую семью. С обывателями он явно не сошёлся, жить по уставу чужого монастыря не собирался и, как указано в формулярном списке, «за учинённую ссору и драку с евреями по всевысочайшей конфирмации <…> 1805-го декабря 14-го дня арестован был на две недели» [293]293
Там же. В подлиннике ошибочно указан 1806 год; позднее эта ошибка перекочевала в «Пашпорт» (Там же. С. 19) и другие документы (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112).
[Закрыть].
А выйдя из-под ареста, раздосадованный поручик Фёдор Толстой снова поссорился – теперь уже с командиром полка.
Майор В. X. Фитцнер, безусловно, не являлся «отцом-командиром». К концу 1805 года ситуация в его полку, ещё не принявшем знамён, сложилась просто аховая. Начиналась зима, а условия жизни людей оставляли желать лучшего. Врачей при ротах не было, нижние чины болели «нервической медлительной горячкой», учащались смертные случаи. «Постройка» мундирных, амуничных и прочих вещей шла очень медленно и, как подобает, сопровождалась воровством казённых средств и т. д. Иными словами, хотя хулить вышестоящих чинов в армии и было строжайше запрещено – но подвергнуть резкой критике майора В. X. Фитцнера многим хотелось нестерпимо.
И поручик граф Фёдор Толстой не стал играть в молчанку.
Какими характеристиками наградил он, дока по части «разделок», никудышного майора, мы не ведаем – зато знаем, что дело получило огласку и стало известно одному из самых строгих высших военных чиновников, великому князю Константину Павловичу, брату императора и гвардейскому начальнику.
И в результате поручик Костромского мушкетёрского полка граф Толстой «по повелению Его Императорского Высочества Государя Цесаревича и великого князя Константина Павловича за дерзостное его о командире своём суждение арестован был на месяц» [294]294
Архангельская-4. С. 17; см. также: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. 4.2. Л. 112.
[Закрыть].
В мемуарах Фаддея Булгарина есть упоминание о проступках Американца «противу субординации» [295]295
Булгарин. С. 206.
[Закрыть]. Об отцовской (или, вернее, графа Камского) «дерзости против начальника» однажды обмолвилась и П. Ф. Перфильева в автобиографической хронике [296]296
РВ. 1864. № 4. С. 683.
[Закрыть].
Когда же граф вышел из обжитого слонимского узилища, то узнал, что Костромской полк перемещается в расположение другого резервного корпуса, готовит обоз и спешно передислоцируется в город Новогрудок (той же Литовско-Гродненской губернии). Кроме того, освобождённый Толстой понял, что на сей раз обмануть фортуну ему не удалось: полк уйдёт на марш без него, ибо за новые грехи его – что за оказия! – «обратно перевели» в Нейшлотский гарнизонный батальон.
Туда – уже не на бумаге, как полгода назад, а взаправду – Американец «поступил», согласно «Пашпорту», 23 февраля 1806 года [297]297
Архангельская-4. С. 18; см. также: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. 4.2. Л. 112, 117.
[Закрыть].
Русские поэты тогда, при Александре Благословенном, посещали Финляндию, как правило, по казённой надобности, в военных мундирах разных полков.
«Здесь повсюду земля кажет вид опустошения и бесплодия, повсюду мрачна и угрюма [298]298
Особенно в старой Финляндии (примеч. К. Н. Батюшкова).
[Закрыть]. Здесь лето продолжается не более шести недель, бури и непогоды царствуют в течение девяти месяцев, осень ужасная, и самая весна нередко принимает вид мрачной осени; куда ни обратишь взоры – везде, везде встречаешь или воды или камни. Здесь глубокие длинные озёра омывают волнами утёсы гранитные, на которых ветер с шумом качает сосновые рощи; там – целые развалины древних гранитных гор, обрушенных подземным огнём или разлитием океана» [299]299
Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 93.
[Закрыть].
Этими фразами начал – в «Отрывке из писем русского офицера о Финляндии» (1809) – рассказ о хладной стране К. Н. Батюшков.
Несколько иной, более приветливой и даже располагающей к рифмам, показалась эта закаменелая земля унтер-офицеру Нейшлотского полка Е. А. Боратынскому:
Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!
Там необъятными водами
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошёл тяжёлыми стопами,
Сошёл – и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
И только что себе в убор
Алмазных звёзд ненужный хор
На небосклон она выводит! [300]300
Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. СПб., 2000. С. 67. Стихотворение «Финляндия» было напечатано в 1820 году.
[Закрыть]
Допускаем, что и граф Фёдор Толстой, знавший толк в поэзии всевозможных ландшафтов, на первых порах отдал должное суровым красотам северного края.
Нейшлотскому гарнизонному батальону, действительно, впору было обзаводиться собственным штатным пленэристом. «Старинный замок с тремя круглыми башнями и стенами из светлого камня высится на чёрной скале, поднимающейся из незамерзающей воды под огромным белым небом, в окружении густых картинно-красивых лесов, – так описывается Нейшлот, по-фински Savonlinna, в одной из современных книг. – Вода не замерзает оттого, что течение здесь быстрое. Выглядит всё это – замок на озере, крепостные стены, девственные леса – очень романтично…» [301]301
Поликовский. С. 62.
[Закрыть]
К сказанному можно добавить, что Нейшлотская крепость в начале XVIII столетия, во время Северной войны, имела важное стратегическое значение и становилась ареной сражений. Но позднее, после присоединения Нейшлота к Российской империи, это значение было утрачено.
Отправления дивной природы и рыцарский замок XV века Олофсборг в проливе Кюренсальми недолго пленяли взор Американца. Первые впечатления померкли, и пребывание в благолепной, но чудовищно скучной крепости вскоре превратилось для него в испытание – в то изнурительное испытание рутинной службой, которое с каждым днём всё более походило на изощрённую средневековую пытку.
Между тем в Европе началась и разгоралась война с блистательным корсиканцем Бонапартом.
В марсовых утехах участвовали и выступивший в поход родной лейб-гвардии Преображенский полк, и не чужой для Фёдора Толстого Костромской мушкетёрский [302]302
См.: Подмазо А. А. Костромской пехотный полк // ОВ. С. 374.
[Закрыть], и многие закадычные друзья графа. Так, поручик Сергей Марин, отложив перо, отличился в сражении при Аустерлице, где был, правда, тяжело ранен – и награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». Показали себя отменными бойцами и иные петербургские знакомцы графа.
А вот поручику Толстому в такое-то время – воистину еговремя – суждено было пребывать на отшибе, томиться в сонном гарнизоне, который и в задрипанные арьергарды никоим боком не годился. «Наказание жестокое для храбреца, который никогда не видал сражение», – писал в мемуарах по поводу графа Фёдора и его нейшлотской участи Ф. Ф. Вигель [303]303
Вигель-1. С. 472.
[Закрыть].
Подобной маеты – скуки, от коей и мухи дохнут, – Фёдор Толстой не смог бы выдержать долго.
Столичные друзья, занятые кто чем, писали ему нечасто – и очутившийся в финляндском обозе Американец начал на них всерьёз дуться. Отыгрался потерявший терпение анахорет на всё том же Сергее Марине.
Бравый Сергей Никифорович по возвращении с театра военных действий делал успехи в большом свете. Сам государь, отличая Марина, поручил ему формирование батальона стрелков Олонецкой милиции для вновь создаваемого земского войска. В апреле 1806 года поручик Марин был произведён в штабс-капитаны Преображенского полка («И равен чином я армейскому майору», – сказано об этом в его стихах [304]304
Марин. С. 105. Армейскому чину майора соответствовал как раз чин гвардейского штабс-капитана; см., напр.: Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 83.
[Закрыть]). Поговаривали и о любовных победах увечного воина.
В общем, Сергей Марин, поэт и ратный герой, вошёл в моду, стал печатать свои стихи и со вкусом вести «новую жизнь».
Когда слухи об этом доползли до Нейшлота, граф Фёдор Толстой, стряхнув оцепенение, снова напрягся и сочинил пространное послание к удачливому, получившему повышение другу.
Стихи нашего героя сохранились благодаря тому, что были переписаны в так называемый Зелёный альбом графини Веры Николаевны Завадовской – «Лилы», возлюбленной Сергея Марина. Там они помещены на листе 92 под следующим заголовком: «От графа Толстова к Марину. 1805-го году, августа 7-го из Нейшлота». Однако в заглавии копиистом допущена ошибка: реальные факты, фигурирующие в толстовских стихах (и – скажем сразу – в ответе Сергея Марина, о котором пойдёт речь далее), дают нам основание утверждать, что послание графа было написано на год позже, нежели указано в альбоме, – в августе 1806 года.
Сочинение Американца стоит привести целиком, причём в колоритной альбомной редакции:
Фортуны Баловню, её любезну сыну
Хочу я попенять, хочь то и не по чину.
На дружбу старою надежда правда есть,
И так Марин, к тебе писать имею честь, —
Но к вам, или к тебе – и тут не дать чтоб маха,
Однако же – среди надежды, среди страха…
К тебе, – желав тебе, чтоб ты всегда был ты!
Чтобы ума тваво и сердца красоты,
Приятности твои пленяли нас едины;
Чтоб ты остался ты средь бурной той пучины
Куда тебя судьбы попутной ветр завлек,
Чтоб в свете знатном быв, всё был бы человек;
Чтоб ты не забывал гонимых и судьбою…
Вот милый друг!..
Граф Фёдор не привык жаловаться, а тут у него всё-таки вырвался стих про «гонимых судьбою». Видать, совсем уж не сладко стало Толстому, недавно объехавшему целый свет, в гарнизонном каменном склепе, где ничего не происходит, среди тусклых, ни на что не претендующих посредственностей в погонах.
Далее разобиженный поручик Фёдор Толстой грустно констатирует, что штабс-капитан забыл его, что Марин попросту променял старого Преображенского друга на «новую жизнь». Свою версию изменившейся столичной жизни Сергея Марина Американец излагает (кстати, почти за двадцать лет до появления первой главы «Евгения Онегина», где столь выразительно описан день молодого вертопраха) местами коряво, но в целом, думается, небесталанно и весьма остроумно. Судите сами:








