Стихотворения и поэмы
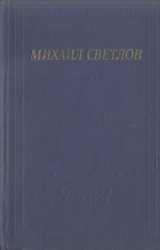
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Михаил Светлов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
25. ПОД ВЕЧЕР
Девушка моего наречья,
По-вечернему тиха и смугла,
Приходила ко мне под вечер
Быть любимой – и не могла.
И глаза ее темные-темные
Древней грустью цвели, цвели…
Я ж люблю, чтобы лил в лицо мне
Светлых глаз голубой прилив.
Так всегда… После первой встречи
По любимой затосковав,
К девушке чужих наречий
Тянутся мои слова.
И лишь изредка, лишь
случайно,
Только в окна заглянет
мгла,
Выплывает старая тайна
Из глубин голубых глаз.
Мгла не мгла, а седой пергамент
Разворачивается у век,
И я чувствую: под ногами
Уж не тот шевелится век.
И мне кажется земля моложе,
Сверху – небо, внизу – зима,
И на снежном бездорожье
Одинокая корчма.
Дед мой мечется от стойки
к пану
И от пана к стойке назад,
Пан на влажное дно стакана
Уронил свирепеющий взгляд.
И я вижу в любимом взгляде
Женских глаз, голубей степей,
Как встает их разбойник прадед
И веселой забавы ради
Рвет и щиплет дедовский пейс.
Я гляжу…
И не пляшет, не свищет злоба
В затуманенной голове,
Оттого ли, что, должно быть,
Кровь меняется каждый век,
Оттого ли, что жизнь моя
отдана
Дням беспамятства и борьбы,
Мне, не имевшему родины,
Родину легче забыть.
И при первой случайной встрече
Так легко мне совсем
забыть,
Так легко мне не полюбить
Девушку моего наречья.
1923
26. С ИЗВОЗЧИКОМ
Лошаденка трясет головой
И за улицей улицу мерит,
А вверху над шумливой Москвой
Разбежался трескучий аэро.
Хорошо ему там, свежо,
В небесах просторней и лучше…
Скоро, Ваня, скоро, дружок,
Ты засядешь воздушным кучером.
Будешь править рысцой на закат
Голубой, немощеной площади,
Поплетутся вперед облака
Вместо зада бегущей лошади.
Триста верст за один конец
Отмахает стальная лошадка,
Ветерок, удалой сорванец,
Примостится тайком на запятках.
Выйдет конь пастись на лужок
Рядом с звездами, вместе с тучами…
Скоро, Ваня, скоро, дружок,
Ты засядешь воздушным кучером.
1923
27. СОСНЫ
Пришел в сосновую Славуту —
И с соснами наедине,
И сосны жалуются мне
И разговаривают будто.
И говор их похож на стон,
И стон похож на человечий…
Вот обошли со всех сторон
И жалобный разносят звон,
Чтоб я их лес не изувечил.
«Ах, слишком грубо, слишком часто
По стволам топор поет,
И, может, скоро, может, через год
На челюсти пилы зубастой
Сосновый сок оскомину набьет.
И страшно мне, сосне одной,
Когда сосновый посвист реже,
Когда вот тут же нож стальной
Мою товарку рядом режет.
И хочется тогда в борьбе
Перескакать свою вершину
(Как и тебе,
Когда тоска нахлынет)».
И несется стон в сосновой чаще,
И разносится в лесную глубь:
«Приходи к нам, человек, почаще,
Только не води с собой пилу!»
Я слушал. Полдень был в огне,
И медленно текли минуты,
И сосны жаловались мне
И разговаривали будто.
И эта новая сосновая кручина
Дала тревогой сердцу знать…
За твою высокую вершину
Я б хотел тебя помиловать, сосна!
Но слыхала ль ты, как стоны тоже
Паровоз по рельсам разносил?
Он спешил, он был встревожен,
И хрипел, и не хватало сил.
Надрываясь, выворачивал суставы,
Был так жалобен бессильный визг колес,
И я видел – срочного состава
Не возьмет голодный паровоз.
Две сосны стояли на откосе,
И топор по соснам застучал,
Чтобы, сыт пахучим мясом сосен,
Паровоз прошел по трупам шпал.
И пока он не позвал меня трубой,
Не заманивает криками колесными,
Я люблю разговаривать сам с собой,
А еще больше – с соснами.
1924
28. КОЛОКОЛ
Н. Коробкову
Он еще гудит по-прежнему,
Он не может перестать гудеть,
Пока над улицами снежными
До конца не разбросает медь.
И сейчас воскресным часом
Он колышется надо мной,
Умирающим, разбитым басом
Разговаривая с тишиной.
Мне близка его седая немочь
И его беспомощный призыв.
Умерли его товарищи и немы,
Только он один остался жив.
Этот звон меня уснуть не пустит
Оттого, что детством нездоров;
Слышал я в синагогальной грусти
Дрожание колоколов.
Мне казалось: за поворотом
От одной к другой звезде
Опирается на дряхлую субботу
Наступающий воскресный день.
Потому-то мне понятны эти звуки,
Что старик над городом сочит,
Будто кто-то спрятал эту муку
И ушел и потерял ключи.
И я чувствую: встревожен,
Медной грудью судорожно вздохнув,
Незаметно для прохожих
Умирает колокол вверху.
1924
29. ДВОЕ
Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.
Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,
Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.
Тогда к мертвецам подошел офицер
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.
Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них…
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.
1924
30. КОЛЬКА
В екатеринославских степях,
Где трава,
где просторов разбросано столько,
Мы поймали махновца Кольку,
И, чтоб город увидел
и чтоб знали поля,
Мне приказано было его
расстрелять.
Двинулись…
Он – весел и пьян,
Я – чеканным шагом сзади…
Солнце, уставшее за день,
Будто убито,
сочилось огнями дымящихся ран.
Пришли…
Я прижал осторожно курок,
И Колька, без слова, без
звука,
Протянул на прощанье мне
руку.
Пять пальцев,
Пять рвущихся к жизни дорог…
Колька, Колька… Где моя злоба?
Я не выстрелил,
и мы ушли назад:
Этот паренек, должно быть,
При рожденье вытянул туза,
Мы ушли и долгий отдых
Провожали налегке
Возле Брянского завода
В незнакомом кабаке,
И друг друга с дружбой новой
Поздравляли на заре,
Он забыл, что он – махновец,
Я забыл, что я – еврей.
1924
31. ПЕСНЯ ОТЦА
Снова осень за окнами плачет,
Солнце спрятало от воды огонь.
Я тащил свою жизнь, как кляча,
А хотел – как хороший конь.
Ждал счастливого дня на свете,
Ждал так долго его, – и вот,
Не смеюсь я, чтоб не заметили
Мой слюнявый, беззубый рот.
Люди все хоть один день рады,
Хоть помаленьку счастье всем…
Видно, радость забыла мой адрес,
А может – не знала совсем.
Только сын у меня… Он – лучший,
Он задумчив, он пишет стихи,
Пусть напишет он, как я мучаюсь,
За какие-то не свои грехи.
Сын не носит моего имени,
И другое у него лицо,
И того, кто бил меня и громил меня,
Он зовет своим близнецом.
Но я знаю: старые лица
Будет помнить он, мой сынок,
Если весело речка мчится,
Значит, где-то грустит исток.
Осень в ставни стучится глухо,
Горе вместе со мной поет,
Я к могиле иду со старухой,
И никто нас не подвезет.
1924
32. НА СМЕРТЬ ЛЕНИНА
Сухие улицы заполнены тоской,
И боль домов и боль людей огромна…
У нас на нашей стройке заводской
Упала самая большая домна.
Но красных кирпичей тяжелые куски
Мы унесем с собой, чтобы носить их вечно,
Хоть больше в наших топках не зажечь нам
Ленина потухшие зрачки.
1924
33. НИКОЛАЮ КУЗНЕЦОВУ
Часы роняют двенадцать,
Стрелки сжав от боли…
Больше к тебе стучаться
Я не буду, Коля.
Ты ушел далече,
Не попрощался даже…
Хмурый, как ты, вечер
Синий язык кажет.
Нам о тебе петь ли?
В этой комнате тише б…
Мертвый удар петли
Слово из глотки вышиб.
Скоро лежать синея,
Может, из нас любому.
Это моя шея
Дико зовет на помощь!
Это мои кости
Жажда жизни сжала…
Может, к тебе в гости
Скоро и я пожалую.
Встречу тебя тем ли,
Чтобы, ветром гонимы,
Увидеть нашу землю
И вместе пройти мимо.
1924
34–35. НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Памяти Николая Кузнецова
1. «Хриплый, придушенный стон часов…»
2. «Поздно, почти на самой заре…»
Хриплый, придушенный стон часов
Заставил открыть глаза.
Было двенадцать. Улицу сон
Ночным нападеньем взял.
Зорким дозором скрестив пути,
Мгла заняла углы,
Даже фонарь не мог спастись
От черных гусениц мглы.
Оделся. Вышел один в тишине
Послушать башенный бой.
Тотчас же ночь потянулась ко мне
Колькиной мертвой рукой.
А я не знал: протянуть ли свою? —
Я ведь Кольку любил.
Думал недолго, свернул на юг,
И руку в карман вложил.
Так я шел час, два,
Три, четыре, пять,
Пока усталая голова
К руке склонилась опять.
И только хотел я назад свернуть,
Прийти и лечь в постель,
Как вором ночным, прорезав путь,
Ко мне подошла тень.
Я не дрогнул. Я знаю: давно
В Москве привидений нет.
И я сказал, улыбаясь в ночь:
«Милый, денег нет!
Ты знаешь, после дней борьбы
Трудно поэтам жить,
И шелест денег я забыл,
И что на них можно купить.
Смотри: на мне уже нет лица,
Остался один аппетит,
И щеки мои – как два рубца,
И голод в них зашит».
Она мне ответила – эта тень —
Под ровный башенный бой:
«Время не то, и люди не те,
Но ты – остался собой.
Ты всё еще носишь в своих глазах
Вспышки прошлых дней,
Когда в крадущихся степях
Шел под командой моей.
Степь казалась еще темней
От темных конских голов,
И даже десяток гнилушек-пней
Казался сотней врагов.
В такие минуты руки мглы
Воспоминания вяжут в узлы
И бросают их на пути,
Чтоб лошади легче было идти.
А лошади, знаешь ты, всё равно,
Где свет горит и где темно,
В такие минуты лошадь и та —
Словно сгущенная темнота.
Не знаешь: где фронт, где тыл,
Бьется ночи пульс.
Чувствуешь – движешься, чувствуешь – ты
Хозяин своих пуль.
Время не то пошло теперь,
Прямо шагать нельзя.
И для того, чтоб открыть дверь,
Надо пропуск взять.
Нынче не то, что у нас в степи, —
Вольно нельзя жить.
Строится дом, и каждый кирпич
Хочет тебя убить.
И ты с опаской обходишь дом,
И руку вложил в карман,
Где голодающим зверьком
Дремлет твой наган».
Она повторила – эта тень —
Под ровный башенный бой:
«Время не то, и люди не те,
Но ты – остался собой.
Не как пуля, как свеча,
Будешь тихо тлеть…»
И я сказал: «У меня печаль,
У меня – товарищ в петле!
Ты знаешь: к обществу мертвецов
Я давно привык,
Но синим знаменем лицо
Выбросило язык.
И часто я гляжу на себя,
И руки берет дрожь,
Что больше всех из наших ребят
Я на него похож!»
Сумрак не так уже был густ,
Мы повернули назад,
И возле дверей моих на углу
Мне мой взводный сказал:
«В стянутых улицах городов
Нашей большой страны
Рукопожатия мертвецов
Ныне отменены.
Вот ты идешь. У себя впереди
Шариком катишь грусть,
И нервный фонарь за тобой следит,
И я за тебя боюсь.
Видишь вон крышу? Взберись на нее,
На самый конец трубы, —
Увидишь могилы на много верст,
Которые ты забыл.
И над землею высоко,
С вершины, где реже мгла,
Увидишь, как кладбище велико
И как могила мала!»
Он кончил. Выслушав его,
Фонарь огонь гасил.
И я молчал… А ночь у ног
Легла без сил.
Ушел, и сонная земля
Работы ждет опять…
Спасская башня Кремля
Бьет пять.
В небе утреннем облака
Мерзнут в синем огне —
Это Колькина рука
Начинает синеть…
Поздно, почти на самой заре,
Пришел, разделся, лег.
Вдруг у самых моих дверей
Раздался стук ног.
Дверь отворилась под чьим-то ключом,
Мрак и опять тишина…
Я очутился с кем-то вдвоем,
С кем – я не знал.
Кто-то сел на мой стул,
Тихий, как мертвец,
И только слышен был стук
Наших двух сердец.
Потом, чтобы рассеять тишь,
Он зажег свет…
«Миша, – спросил он, – ты не спишь?»
– «Генрих, – сказал я, – нет!»
Старого Гейне добрый взгляд
Уставился на меня…
– Милый Генрих! Как я рад
Тебя наконец обнять!
Я тебя каждый день читал
Вот уже сколько лет…
Откуда ты? Какой вокзал
Тебе продал билет?
«Не надо спрашивать мертвецов,
Откуда они пришли.
Не всё ли равно, в конце концов,
Для жителей земли?
Сейчас к тебе с Тверской иду,
Прошел переулком, как вор.
Там Маяковский, будто в бреду,
С Пушкиным вел разговор.
Я поздоровался. Он теперь —
Самый лучший поэт.
В поэтической толпе
Выше его нет.
Всюду проникли и растут
Корни его дум,
Но поедает его листву
Гусеница Гум-Гум.
Я оставил их. Я искал
Тебя средь фонарей.
Спустился вниз. Москва-река
Тиха, как старый Рейн.
Я испустил тяжелый вздох
И шлялся часа три,
Пока не наткнулся на твой порог,
Здесь, на Покровке, 3.
……………………………
Ах, я знаю: удивлен ты —
Как в разрушенной могиле
На твоем я слышал фронте
Эти скучные фамилии.
Невозможное возможно —
Нынче век у нас хороший.
Ночью мертвых осторожно
Будят ваши книгоноши.
Всем им книжечек примерно
По пяти дают на брата,
Ведь дела идут не скверно
В литотделе Госиздата.
Там по залам скорбным часом
Бродят тощие мужчины
И поют, смотря на кассу,
О заводах, о машинах…
Износившуюся тему
Красно выкрасив опять,
Под написанной поэмой
Ставят круглую печать.
Вы стоите в ожиданье,
Ваш тяжелый путь лишь начат…
Ах, мой друг! От состраданья
Я и сам сейчас заплачу.
Мне не скажут: перестаньте!
Мне ведь можно – для людей
Я лишь умерший романтик,
Не печатаюсь нигде…
Ты лежи в своей кровати
И не слушай вздор мой разный.
Я ведь, в сущности, писатель
Очень мелкобуржуазный.
В разговорах мало толку,
Громче песни, тише ропот.
Я скажу, как комсомолка:
Будь здоров, мне надо топать!»
Гейне поднялся и зевнул,
Устало сомкнув глаза,
Потом нерешительно просьбу одну
На ухо мне сказал…
(Ту просьбу, что Гейне доныне таит,
Я вам передать хотел,
Но здесь мой редактор, собрав аппетит,
Четыре строки съел).
«Ну, а теперь прощай, мой друг,
До гробовой доски!»
Я ощутил на пальцах рук
Холод его руки.
Долго гудел в рассветной мгле
Гул его шагов…
Проснулся. Лежат у меня на столе
Гейне – шесть томов.
1924–1925
36. РАБФАКОВКЕ
Барабана тугой удар
Будит утренние туманы, —
Это скачет Жанна д’Арк
К осажденному Орлеану.
Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта, —
Это празднует Трианон День
Марии-Антуанетты.
В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка, —
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой…
Громкий колокол с гулом труб
Начинают «святое» дело:
Жанна д’Арк отдает костру
Молодое тугое тело.
Палача не охватит дрожь
(Кровь людей не меняет цвета), —
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты.
Ночь за звезды ушла, а ты
Не устала, – под переплетом
Так покорно легли листы
Завоеванного зачета.
Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней.
Видишь: звезды, сойдя с высот,
По домам разошлись неслышно.
Ветер форточку отворил,
Не задев остального зданья,
Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.
Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.
Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана…
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.
Мягким голосом сон зовет.
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.
1925
37. МЕДНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ
Без десяти минут семь
Медный всадник вздрогнул и ожил,
Сошел с коня, по-прежнему нем,
И молча стал приставать к прохожим.
Он будто спрашивал:
чья это смерть
Одела в траур людей и здания,
Что даже его привычную медь
Сегодня весь день раздирали рыдания?
Никто ничего ему не ответил:
Их много – людей, он один на свете.
Спали, когда он пришел с прогулки,
Свернувшись котятами, переулки.
Спиной к Петру, лицом к Неве
Стоял курчавый человек.
Ночь размышляла, к нему подползая:
Можно его обнимать иль нельзя ей.
Звездами был Ленинград осыпан,
И губы Петра отворились со скрипом:
«Застонет моряк, если вот-вот утонет,
И самый бесстрашный застонет в беде.
Мне стон их понятен, но мною не понят
Сегодняшней скорбью отмеченный день.
Кто это смолк, но всё еще слышим?
Он выше меня? И на много ли выше?»
Человек молчал, и ночь молчала…
Сдавлена под тяжестью металла,
Бровь Петра чуть-чуть затрепетала.
«Ведь оплакивала не меня же
Вся моя родимая земля.
Я не умирал сегодня. Я
В этот день не простудился даже.
Только слышал я сквозь медный сон:
Чьей-то смертью город поражен».
Обернулся медленным движеньем
Человек и молвил:
«Умер Ленин!»
Темный отдаленный форт
Слышал, как затрясся Петр,
Даже конь, недоуменьем сбитый,
Опустил одно копыто.
Еле слышно к уху донеслось:
«Объясни мне, что ты произнес,
Для народа моего родного
Где ты выкопал такое слово?
Кто он и какого чина?
Вероятно, маленький мужчина.
Трезвенник! Его бы зашатало
От одного Петровского бокала!
Выросший ребенок – город мой,
Для Руси моей удобный дом,
Ты обрадовался, что пришел другой,
Он ушел, и ты грустишь о нем.
Год за годом по Неве уплыл,
Ты меня еще не навестил,—
В день ли смерти, в день ли именин
Я стою по-прежнему один.
Никто не пришел, никого нет.
Только сегодня часов в пять
Явился какой-то худой поэт,
Проторчал два часа и пошел спать.
И больше он сюда не придет,
Он не покажется, сукин сын.
Ему ведь известно, что я – Петр,
Великий плотник моей Руси.
Русь родная, ты забыла
Четкий шаг твоих потешных,
Без разбору тратишь силы
Не для русских, для нездешних.
Ах, я помню: ты боролась,
Не давалась нипочем
Расчесать немытый волос
Заграничным гребешком.
И теперь вот год за годом
Уплывают, и я знаю:
Острижешь России бороду,
У нее растет другая.
Как же мог уйти с победою
Тот, что смолк в моей стране,
Если он не мог как следует
Даже ездить на коне?
Всю премудрость книг богатых
Он в Россию натаскал,
Как учил его когда-то
Бородатый немец Карл.
Но моей славянской расе
Не звенеть немецким звоном,—
Сколько б дерево ни красить,
Будет дерево зеленым.
Русский утром встанет рано,
Будет снег с крыльца счищать,
В полдень он напьется пьяным,
Ночью шумно ляжет спать,
Утром он проснется рано
И посмотрит – есть ли снег;
Если есть, напьется пьяным,
Если нет – запьет вдвойне.
Утром он проснется рано,
Ночью снова будет пьяным».
Около семи утра
Смолкла речь уставшего Петра.
Сквозь молочный свет была видна
Всадника позеленевшая спина.
Медленно и величаво,
Чуть картавя, отвечал курчавый.
Видно было, как его слова
Схватывает Нева,
Слышно было, как, ломая лед,
Хочет прокарабкаться вперед.
«Ай, Петр, Петр!
Человек кричит, когда ему больно.
Зверь рычит, не найдя берлогу,
А Медный всадник сидит недовольный,
Что его никто никогда не трогал.
Стонет моряк, если вот-вот утонет,
Стонет поэт, если в стужу пальто нет,
Но ты-то чего здесь развел сентименты
Последнего Медного Интеллигента!
Ты в двадцать четвертом здесь правил конем,
Как в двадцать третьем и в двадцать втором,
А мы в это время у гроба стояли,
Как статуи чьей-то огромной печали.
Ты еще не видел, чтобы
Рядом горевавшая у гроба,
С человеком чувствуя разлуку,
Тень его вздымала руку.
Русь большая плакала во мгле…
Человек последний на земле
Так еще, наверно, зарыдает,
Меркнущее солнце провожая.
Но мы знаем: если землю вдруг
Схватит вулканический испуг,
Память о Владимире лелея,
Хаос не разрушит мавзолея.
Но мы знаем: мертвый Ленин рад,
Что назвали город – Ленинград,
Чуем: вместе с нами Ленин, рядом
Над оледенелым Ленинградом.
Пароход придет из-за границы,
Чтобы мудростью его напиться,
Быстрыми и жадными словами
Побеседовать с его учениками.
Видишь, в гавани торговый флот
Русскую воду пьет…
Ай, Петр, Петр!
Если б знал ты, хмур и одинок,
Как России трудно без него, —
Смерти, догоняющей его,
Ты б коня направил поперек.
Ты б услышал, как, звуча в мученье,
Эхо, отскочив от молотка,
Над склоненной скорбью мужика
Трижды простонало:
– Ленин!
И, шагая по его еще
Свежему дымящемуся следу,
Больше, чем свое плечо,
Чувствуем плечо соседа.
Видишь, как нагнулась тьма
Слушать шаг идущих тысяч…
Это строят новые дома —
Терема плененных электричеств.
Как знамена вскидывая искры,
Взволнованный Волхов гудит…
Петр!
Это только присказка,
Сказка еще впереди».
1925
38. МАРОККО
Тяжкий полуденный зной
Встал над восставшей страной;
Кровью песок обагрив,
Движется раненый риф.
К вечеру солнце зайдет,
Двинутся рифы вперед,
Словно густые пласты
Спрятанной темноты.
Вышли проклятые сроки;
Жаждой свободы томим,
К освобожденью Марокко
Выведет Абд эль Керим.
Годы тяжелого груза
Выросли в каменный пласт.
Кто подчинится французам,
Волю испанцам продаст.
Горло до боли сжала
Вражеская ладонь.
Рифы не любят жалоб,
Рифы полюбят огонь.
Пальмы верхушки нагнули,
Кровью встревожен песок.
В ночь восьмого июля
Рифы назначили срок.
Пальмы верхушки нагнули,
Словно завидя самум.
В ночь восьмого июля
Рифы возьмут Уэндсмун.
Ночь никогда доселе
Черной такой не была.
В черную ночь под шрапнелью
Черные шли тела.
Прошлую ночь отступили,
Кровью песок обагрив.
В жаркий песок, как в могилу,
Лег не один риф.
Ночь. Выручай сегодня!
Видишь, навстречу тебе
Голову каждый поднял
И отдает борьбе.
Движемся новым походом.
Но, подчиняясь свинцу.
Черным полкам не отдал
Крепость свою француз.
И, обнажая раны,
Пушкам наперевес
Грозные аэропланы
Молча сошли с небес.
Пусть проиграли сраженье —
Мертвые снова зовут.
Первые пораженья
К новым победам ведут.
Скоро настанут сроки,
И разнесет призыв
В освобожденном Марокко
Освобожденный риф.
1925
39. НА МОРЕ
Ночь надвинулась на прибой,
Перемешанная с водой,
Ветер, мокрый и черный весь,
Погружается в эту смесь.
Там, где издавна водяной
Правил водами, бьет прибой.
Я плыву теперь среди них —
Умирающих водяных.
Ветер с лодкой бегут вдвоем,
Ветер лодку толкнул плечом,
Он помчит ее напролом,
Он завяжет ее узлом.
Пристань издали стережет
Мой уход и мой приход.
Там под ветра тяжелый свист
Ждет меня молодой марксист.
Окатила его сполна
Несознательная волна.
Он – ученый со всех сторон —
Повеленьем волны смущен.
И кричит и кричит мне вслед:
– Ты погиб, молодой поэт! —
Дескать, пробил последний час
Оторвавшемуся от масс!
Трижды схваченная водой.
Устремляется на прибой
К небу в вечные времена
Припечатанная луна.
И, ломая последний звук,
Мокрый ветер смолкает вдруг
У моих напряженных рук.
Море смотрит наверх, а там
По расчищенным небесам
Путешествует лунный диск
Из Одессы в Новороссийск.
Я оставил свое весло,
Море тихо его взяло.
В небе тающий лунный дым
Притворяется голубым.
Но готова отдать удар
Отдыхающая вода,
И под лодкой моей давно
Шевелится морское дно.
Там взволнованно проплыла
Одинокая рыба-пила,
И четырнадцать рыб за ней
Оседлали морских коней.
Я готов отразить ряды
Нападенья любой воды,
Но оставить я не могу
Человека на берегу.
У него и у меня
Одинаковые имена,
Мы взрывали с ним не одну
Сухопутную тишину.
Но когда до воды дошло,
Я налег на свое весло,
Он – противник морских простуд —
Встал у берега на посту
И кричит и кричит мне вслед:
– Ты погиб, молодой поэт! —
Дескать, пробил последний час
Оторвавшемуся от масс.
Тучи в небе идут подряд,
Будто рота идет солдат,
Молнией вооружена,
Офицеру подчинена.
Лодке маленькой напролом
Встал восхода громадный дом.
Весла в руки, глаза туда ж,
В самый верхний его этаж.
Плыть сегодня и завтра плыть,
Горизонтами шевелить, —
Там, у края чужой земли,
Дышат старые корабли.
Я попробую их догнать,
И стрелять в них, и попадать.
Надо опытным быть пловцом,
И, что шутка здесь ни при чем,
Подтверждает из года в год
Биография этих вод.
Ветер с лодкой вступил в борьбу,
Я навстречу ему гребу,
Чтоб волна уйти не смогла
От преследования весла.
1925








