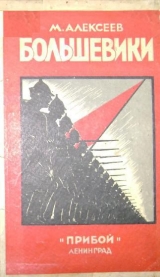
Текст книги "Большевики"
Автор книги: Михаил Алексеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Глава третья
Забрезжили предрассветные отблески. Михеев вскочил с койки. В полумраке, осторожно шагая, подошел к окну. Снаружи перед окном, закрывая собою все, шла черная стена. В окно с обеих сторон была вделана железная массивная решетка. Михеев обошел осторожно вокруг комнаты. На ощупь, что его очень поразило стены и пол были обиты мягкой материей. «Похоже на ватное одеяло», подумал Михеев. Сел на койку. Койка тоже была обита толстой мягкой материей и наглухо прикреплена к полу. Другой мебели в комнате не было. Михеев подошел к дверям. Массивная дверь была, как и стены, обита мягкой материей. На высоте повыше груди в двери Михеев нащупал железный глазок. Сомнений не могло быть. Его посадили в камеру для буйно-помешанных.
– Как глупо! Вот ведь, как глупо! – вырвалось у него шопотом восклицание. – И как был прав Федор. Вмешался в незнакомое дело и не только что не принес пользы, но навредил. Кроме того, что меня и Ветрова расстреляют, погибнут сотни. А если бы я послушался Федора, то – кто же его знает – может быть, через пару дней здесь был бы целый полк красноармейцев и тогда бы ничего не произошло. Дураки. Ах, дураки были мы!
Кругом – тихо. Михеев ощущал глухой стук своего сердца. Тук-тук-тук. И ему стало жаль себя. Не смерть страшна. А обидна бессмысленность жертвы. Погибнуть хорошо в бою, в борьбе… Но тут… Расстреляют, повесят или будут пытать.
Всплыла картина казненных в Михайловском. Раздробленные головы, изрезанные груди в куски…
Мелькнула мысль о том, что лучше было бы ему уехать тогда с Петей в город. Михеев в потемках почувствовал стыд, кровь бросилась ему в лицо. «Вот этого еще не доставало. Смалодушничал».
Он, позабыв предосторожность, принялся быстро расхаживать по камере. Мягко стучали сапоги о пол.
В окно уже падало много света. Черная стена, заслонявшая от Михеева весь мир, оказалась красной кирпичной с желтыми потеками смазки. Стены и пол комнаты стали светло-серыми.
Михеев опять прилег на койку. Горела голова. Где-то по-соседству вдруг забулькали сдавленные воющие крики. Мороз пробежал по коже. «Фу-ты, чорт, что они хотят сделать со мной? Неужто думают мстить? Конечно. Они могли бы убить меня еще вчера».
Михеев лег на спину, крепко зажал ладонями глаза.
* * *
Наступили часы полузабытья, воспоминаний. И все время, как молотком, дробила мозг одна мысль. «На муки, на смерть. На муки, на смерть».
* * *
Вспомнился завод, на котором работал он с 8-ми лет и отработал ровно 10 годов. Раздувал маленькие меха, таскал кокс. Подметал полы. Чистил инструменты. Собирал стружки, железные опилки, обрезки.
Пылали печи. Ослепительно сияло раскаленное железо, гудели большие и малые меха. Под громкими ударами молотков сыпались фонтаны огненно-красных искр.
* * *
А полотно с рисунками его жизни разворачивалось все дальше. На 23 году попал он на работу в Питер. Подружился с Ваняткой-столяром. Ванятка был разбитной парень. По праздникам он носил неизвестно почему студенческую фуражку, курил дорогие папиросы и любил блеснуть «иностранственным» словом. Через него попал Михеев в «конспирацию» – в подпольный кружок. Прошло два года, и превратился Михеев в большевика-пропагандиста. Был арестован 1-го мая во время речи на массовом собрании за городом.
* * *
Вот конспирация. Собрание по 5-10 человек. По чердакам, подвалам, при свете свечей, ночников. Горячие споры, речи, долгие ночи напролет. Снег ли падает за окном, месяц ли бросает на дырявый пол свой желтый свет, всё споры и споры. Расходятся. За пазухами политические книжки, газеты, все это нужно раздать заводским ребяткам или расклеить на видных местах.
– Эй, берегись! – кричит сторожевой товарищ. – Крючок! – И бегут все сломя голову, трепетно прижимая к груди пучки бумаги.
Вот пивная. Звон, гам, крики, песни. Туманится воздух от табачного дыма. Вокруг Михеева сидят в тесном кругу четыре рабочих. Пьют пиво и слушают его страстные речи. Кивают изможденными, морщинистыми, в сединах головами.
– Правильно. Верно, товарищ. В самую точку, Нужно объединяться. Да, сила… большая у них, у буржуев. А что правда – то да. Нас много, а их мало.
И пьют рабочие. Гневно говорят. Там, смотришь, и всплакнет кто из них: «Эх ты, жизть-то. Едят тебя мухи с комарами. Тяжко – ох!»
Как много пережито, и как мало сделано!
* * *
Загремел в дверях замок. Дверь распахнулась, и в камеру вошел громадного роста детина, на нем был одет белый докторский халат.
Михеев вскочил на ноги.
– Пожалуйте за мной, – сказал детина. Почему-то тупо ухмыльнулся, вытер указательным пальцем нос, обтер палец о фартук и показал им на дверь.
– Пожалуй-ка.
– Куда? – спросил Михеев.
– А там узнаешь. Пожалуйте. – И парень опять ухмыльнулся. – Пойдем.
Михеев повиновался. Они шли узким коридором вниз. Из-за решеток оконцев в дверях камер на них смотрели безумные лица больных. Подошли к угловым дверям в конце коридора. На них красовалась большая готическая надпись «Кабинет главного врача», парень открыл дверь без стука и втолкнул Михеева в кабинет. В кабинете за письменным столом сидел санаторский врач – с волчьей улыбкой на гладко выбритом лице. По левую руку от него к креслу прилепился санаторский седобородый старик фельдшер. Оба они внимательно смотрели в лицо Михеева.
– Как спали? – спросил врач. – Как вам нравится новоселье? Михеев промолчал.
– Вы не знаете последних новостей. Восстание – совершившийся факт. Все ваши друзья арестованы и находятся здесь – пока, разумеется. Мы соединились с мамонтовской кавалерией. Все ваши завтра будут опрошены. Коммунисты и активисты будут расстреляны.
Доктор помолчал. Постучал пальцами о сукно стола. Михеев стоял с деланным безразличием на лице. Доктор поморщился.
– Вы присядьте, – указал он на кресло. – Мы и сидя сумеем договориться. Только что перед вашим приходом, за ложь и за упорство был мной направлен в общую камеру для тихопомешанных ваш друг – военкомбриг Ветров.
Михеев вздрогнул. Но промолчал.
– Какой вы апатичный, – процедил доктор сквозь зубы. – Даже не узнаете, что стало с вашими друзьями?
– Что вы хотите от меня? – почти крикнул Михеев.
– Успокойтесь. Очень небольшой услуги. Нам нужно, чтобы, во-первых, вы сознались в том, что вы и ваши товарищи большевики получают по 10 тысяч рублей золотом в месяц.
– Ведь вы же знаете, что это ложь.
– Я ничего не знаю. И даже убежден в обратном. – Доктор нагло оскалил зубы.
– Потом вы дадите нам расписку, что вы больше не будете грабить крестьян отнимать у них все добро, насиловать жен и дочерей, прокучивать в разврате все награбленное. Эта расписка нам нужна. И потом – еще секунду – вы дадите подписку в том, что больше не будете ходить оправляться в церкви по примеру ваших друзей, за это мы вас простим и освободим. Идите на все четыре стороны. Мы незлопамятны. Ну-с?
– Это все??!!
– Нет, не все. Если же вы этого не исполните, то мы вынуждены будем оставить вас в этом доме… и, может быть, даже прибегнуть к лечению – водолечению и лечению внушением… А внушение, знаете ли, бывает разное.
– Это все?!! – Михеев был красен от гнева.
– Да, все, – доктор оскалил зубы.
– Подлец, негодяй! Внеклассовый мошенник! – раздался звонкий звук пощечины. – Вот, получи тебе и твоим друзьям, это за меня и за моих товарищей! Жаль, что большего дать не могу.
Доктор вскочил во весь рост. Потирая ладонью ушибленную щеку, нахмурился, процедил: – Уведите его. Вы видите – это буйнопомешанный. В карцер и холодное обливание на голову…
– Так вот какие негодяи скрываются под халатом врача. Товарищи… – быстро обернулся Михеев к служителям. – Я не сумасшедший. Я ваш…
– Выводите скорей, – прервал его пронзительный окрик доктора. – Он будет сумасшедшим! Ну!!!
Два служителя в белых фартуках подхватили Михеева под руки и почти вынесли на руках из кабинета.
Промелькнули темные коридоры, лестницы, и снова за Михеевым захлопнулась дверь с железным глазком. Гнев немного поутихнул, и Михеев уже ругал себя за то, что вспылил. «Все равно – смерть. Притворился бы, что на все условия согласен, пообещал бы на митинге разбить большевиков… Ну, выступил бы и произнес речь. Показал бы им, как умирают большевики. Хотя не дали бы говорить. Сразу заткнули бы рот. Что теперь они со мной будут делать?»
* * *
У дверей послышались голоса. Щелкнул ключ в замке. Двери раскрылись настежь. В камеру вошли три служителя и старик фельдшер.
– Пожалуй-ка, барин большевик, с нами помыться, – сказал фельдшер. Его глаза злобно и остро поблескивали из-под седых бровей.
– Гы-гы-гы, – заржали санитары. – У! Вот так точно… Гы-гы. Попарится ваша светлость. Пожалуйте-ка. Гы.
Санитары цепью стали подходить к нему.
– А он вроде как быдто тово, здоровый, – сказал один санитар, молодой, безусый, скуластый, здоровый парень.
– Вот распусти-ка слюни – он тебе тово и цапнет…
– Прикидывается, стервец, – назидательно сказал его сосед, человек с перебитым пополам носом. Казалось, что у него вместо одного торчали два носа.
– Ну-ну, живей! – окликнул их фельдшер. – Бери и тащи его без разговоров.
– Куда вы меня, товарищи? – спрашивал схваченный и влекомый по коридору Михеев. Но ответа не получил. В конце коридора его втолкнули в светлую ванную комнату, быстро раздели донага.
– Холодный душ. На голову. Лейте прямо из ведра, – приказал фельдшер.
– Товарищи, – крикнул Михеев, – я вовсе не больной, я здоров… Эти люди…
– Эй! Заткните ему глотку, – приказал фельдшер. – Чтобы без криков – другим беспокойство. Ну-ну.
Санитар с перебитым носом взял со скамьи какую-то мокрую тряпку и с силой воткнул ее в рот Михеева.
Потом пошли муки. Голову и все тело обливали холодной, почти ледяной водой. Ведро за ведром. Вода забиралась в уши, в нос, не давала дышать. Сжимала железными обручами голову. Жгла и замораживала мозг.
Тело Михеева вдруг повисло бессильно. Он впал в обморочное состояние.
– Отнесите его обратно в камеру… Да так несите – там оденете…
– Вот проклятый, – прошептал фельдшер, наклонившись над телом Михеева, – это тебе за моих расстрелянных детей, за сына и дочь, за позор!
* * *
После дневных истязаний и обморока наступило состояние полного безразличия. Казалось, что раскалывалась голова. Болел рот. Воспалились глаза. Не было успокоения, не было забытья. Не было мысли. Все было безразлично, неинтересно – и боль, и неизвестность. Неподвижно лежал Михеев на койке. Смотрел воспаленными глазами прямо перед собою.
Погасли последние отблески дня. В камере сгустился мрак. Он все лежал, не шевельнувшись.
Неожиданно приоткрылся железный глазок двери. Брызнул потоком электрический свет и образовал светлый круг на полу.
«Опять за мной», вздрогнул Михеев. «Скорее бы конец». Между тем светло-желтый круг стал слабым, темно-серым, точно чье-то лицо засматривало в глазок. «Наблюдают», решил Михеев.
– Михеев! Миша! – послышался громкий шопот через глазок. В одну, секунду Михеев был у двери.
– Кто здесь? – трепетным шопотом спросил он.
– Вот записка – прочитаешь, уничтожь. – В глазок просунулось несколько пальцев. Михеев быстро выхватил из них маленький лоскуток бумажки; припав головой к двери, он прочитал записку. Она была написана мелким нервным женским почерком.
«Тов. Михеев. Устраиваем побег. В два ночи выключим свет и заберем тебя. Не сопротивляйся пришедшим.
Друзья.
Уничтожь записку».
* * *
Настроение мигом изменилось. Ноги сами собою задвигались вдоль темной камеры. Апатия сменилась горячкой. Лихорадочно заработал мозг. «Скорее бы два часа… Да почему в два, а не в десять. Может быть, еще до этого срока придут враги и… Но кто же эти друзья? Здешние рабочие. Да, больше некому. Все коммунисты арестованы. Скорее бы пришло время».
Все нетерпеливее становились его шаги. Все хаотичнее переплетались мысли. «Только бы раньше не пришли… Те, враги». Каждый звук шагов по коридору острым ножом резал его сознание. Каждый отдаленный крик заставлял его вздрагивать.
«Не идут ли это за мной?»
Наконец, нервозность утомила его. Он забрался в самый дальний угол камеры и, сжавшись, весь присел там на пол. Все внимание его сосредоточилось на узкой желтоватой полоске света, струившейся из неприкрытого дверного глазка. Шли часы.
* * *
Чуткий слух Михеева уловил звук осторожных шагов по коридору. Кто-то приблизился к дверям камеры и замер. Внезапно желтая полоска света погасла. Послышался железный лязг замка и скрип открываемой двери. В открытые двери громко прокричал женский голос:
– Михеев, быстро ко мне.
Он уже был у дверей.
– Держитесь за руку. Идем.
Маленькая женская рука крепко схватила его руку и быстро повлекла за собой во мраке. «Почти так же темно, как тогда в лесу», почему-то подумал Михеев. «Только побольше риска».
– Здесь лестница, – предупредил его женский голос. – Держитесь за перила, вот они.
– Разве наверх, а не вниз? – вырвалось у Михеева.
– Весь двор и ближайшие дороги оцеплены и наводнены восставшими, – ответил женский голос. – Нужно спрятаться здесь же и перебыть несколько дней. Но молчите.
Лестница оказалась высокой.
– Когда же конец? – прошептал запыхавшийся Михеев.
– Вот здесь направо, пригните голову. Теперь видите – белое пятно впереди – идите прямо к нему. Там есть ваш друг. Он вам все расскажет. Я же бегу вниз.
Михеев ощутил крепкое рукопожатие. Потом рука спутницы выскользнула из его руки. Позади раздался стук захлопнутой двери. Михеев ощупью пошел по направлению к светлому синеватому пятну. Пятно оказалось куском ночного неба, видневшегося через чердачное окно. Он находился под самой крышей главного корпуса больницы.
«Ну, что же, будем ждать друга», – решил Михеев.
В окно дул свежий ночной воздух. Снизу доносились странные звуки, то поющие, то звенящие. Минутами слышались человеческие голоса.
Рядом с Михеевым из чердачной тьмы вдруг вынырнула бородатая низкорослая фигура. Михеев вздрогнул и отступил в сторону.
– Не пугайтесь, – полушопотом сказала фигура. – Я – Фролов.
– Фролов! Ты жив? – почти закричал Михеев.
– И даже здоров, – отвечала фигура. – Что борода отросла. Однако же расспросы после. Теперь же пойдем-ка прятаться, а то могут и сюда прийти. Держись за меня. Здесь осторожно. Три ступеньки. Здесь печная труба. Это зимние рамы и ящики. Теперь пригнись и ползи за мной. Теперь давай руку – поднимайся. Видишь – целая комната. Это другое чердачное окно. В него днем видна вся площадь и больничный поселок. Тут же внизу трактовая дорога. Большое оживление здесь днем. Кругом же нас ящики в три ряда совершенно нас закрывают от нескромных взоров. Так что здесь даже и курить можно. Я балую этим. Фу-ты – да ведь соловья-то баснями не кормят. Ты, верно, голоден?
Михеев на самом деле почувствовал острый голод и тошноту.
– А есть ли что?
– Только один хлеб да вода. Но воды мало. Вот ешь, на. А я закурю.
– Бу-бу-бу-бу, – силился что-то сказать Михеев с полным ртом хлеба.
– Чего? – спросил Фролов.
– А бу-бу-бу.
– Ну, ладно, проешь – потом скажешь.
Михеев с трудом проглотил кусок.
– Я буду есть, – сказал он, – а ты мне расскажешь все о себе, да подробно.
– Ладно, – согласился Фролов. – Только вот закурю. А ты ешь, наедайся.
С треском вспыхнула спичка. Из пригоршни Фролова заструились оранжевые лучи. Запрыгали кругом тени. Спичка погасла, и стало настолько темно, что даже синева неба в слуховом окне казалась черною. Фролов попыхивал красным огоньком цыгарки. Огонек освещал кулак, усы, губы, низ носа, надбровные дуги. Остальное же было чернее сажи. И Михееву казалось, что эти освещенные части фроловского лица совсем разъединены мраком и плавают в этом мраке, по временам освещаясь оранжевыми отблесками огонька цыгарки.
– Я, как видишь, не только что жив, но и – представь себе, в небольшой степени, правда, но укрепил свои нервы. Не я укрепил, а их укрепили наши враги. Да, всяко бывает. Но дорого мне далось это укрепление нервов. Ты, вот, не заметил, темно здесь, а у меня вся голова седая… Да-с. Вот, когда Феня помогла мне взобраться сюда, она мне это сказала… Совсем седая у тебя голова, тов. Фролов. Вот что.
– Феня? Сестра милосердия? – давясь хлебом, спросил Михеев.
– Да. Это она тебя протащила сюда, как и меня. Она партийная, – вставил Михеев.
– Партийная – тем лучше, значит, ты ее знаешь. Она вчера ночью была у меня. Принесла этот хлеб и воду. Рассказала много скверных новостей. Ты, чай, и не знаешь о том, что восставшие соединились с белыми войсками и что общий фронт их уже прошел стороною на север. Через день-другой здесь будут генеральские казаки. Их ждут здесь – не дождутся. Дело все в том, что на местных повстанцев-крестьян здешние белогвардейские заправила не надеются. Арестованных же в подвалах этого дома очень много. Почти что вся санатория и местная организация, советская и партийная. Феня говорила, что арестовано около полусотни товарищей, их не кормят, но и не трогают пока. Боятся.
– Все ли санаторцы арестованы? – спросил Михеев.
– Все, за исключением Федора. Всего-то говорила Феня, только двоим коммунарам удалось избежать ареста: это Федору и Арону, секретарю местной организации. Но ты, может быть, хочешь спать?
– Нет. Нет. Ты рассказывай о себе. Я просто так прилягу отдохнуть – очень устал.
– Хорошо. Ты помнишь, каким калекой я выехал сюда из губернии. Ни рукою, ни ногою я не мог свободно владеть. Был накануне полного паралича. Так-с. Привезли меня, раба божьего, в эту дыру – в санаторию. Как тяжело больному, отвели особую комнату, а в качестве сиделки приставили ко мне одного фельдшера – какого-то полоумного злого старикашку. Этот бес вместо того, чтобы делать мне массаж, давай мне читать божественные проповеди. «Это вас бог наказал за то, что вы большевик», – говорил он. «Известно, мол, что все большевики чорту душу продали». Я сначала отшучивался, а потом стал злиться. «Вы, – говорю я ему, – бросьте мне городить чепуху. Получше-ка массаж делайте. А вот, мол, когда я поправлюсь окончательно, тогда я с вами и побеседую. А, может быть, и лекцию здесь прочитаю о боге». Не унимался старик. Еще чаще стал заглядывать ко мне и говорить свои мракобесные речи. «Вы, мол, слыхал, Христа распяли». «Да его, – отвечаю, – вовсе не было в мире». О другом начинает говорить старик. «Вы, мол, людей убиваете – это грех. У вас руки в крови. У меня, – говорит, – вы сына и дочь отняли!» И даже всхлипывать начинает старикашка.
Ну, я и не вытерпел однажды, не знаю, откуда и сила взялась. Схватил как-то удачно табуретку да и запустил ее в старика. В старика-то не попал, а попал в дверь. Дверь была из тонкого дерева, ну и раскололась в щепки. Вот после обеда приходит ко мне врач, как волк, и глаза горят страшно.
– Что с вами? – спрашивает, а сам все со стариком-фельдшером шепчется. – Вы почему буйствуете? – Я не мог, конечно, ничего рассказать, так как со мной был тогда припадок. Ни губы, ни глотка не двигались. Но я услышал громкий шопот старика-фельдшера: «Большевик… вредный… убрать нужно…». Доктор еще раз посмотрел на меня и затем умышленно громко сказал:
– Он выглядит ненормальным. Отвезите его ко мне в палату для легких. Делайте холодные ванны.
Я только вечером узнал, в чем заключался смысл слов доктора. Меня отвезли в этот дом для умалишенных, как психически-больного, и поместили внизу.
Доктора после этого я не видал ни разу. Зато целиком попал в лапы этого старого подлеца. Как он истязал меня! Чорт бы его побрал! Он бил меня, пользуясь беззащитностью, колол булавками, плевал в лицо. Держал по целым часам в ледяных ваннах. Но нет худа без добра. Холодные ванны, вопреки всем желаниям моих врагов, воскресили мою нервную систему. Здоровье пошло восстанавливаться, и я решил бежать. Для этого я притворялся попрежнему больным. Правда, с большим трудом, но все же сдерживал себя от нестерпимого желания ударить, задавить этого старого садиста. И только позавчера, когда белые устроили восстание, меня освободила Феня. Для меня это было совершенной неожиданностью. Оказалось, что Феня сильно заинтересовалась моей камерой с первого же дня прибытия в лечебницу. Ей сразу показалось странным, почему меня обслуживает один фельдшер, тогда как при лечебнице служило много сестер, санитаров и сиделок.
Да к тому же старик-фельдшер работал еще в санатории. Почему такая нагрузка в работе? Вот и пошла она разузнавать обо мне по всем источникам. Подсмотрела, как обращается со мной этот старый изверг, и, если бы только не переворот, я бы непременно был на свободе, а фельдшер, врач и еще кто с ними – в каталажке. Этот бандитский переворот помешал! Но что за золото эта Феня! Ты не поверишь, до чего умная девушка. За какой-нибудь час до моего освобождения она узнала и взвесила все до мелочей. Узнала о восстании. Узнала, что все улицы и все местечко, в том числе и эта лечебница, окружены пьяными бандитами. Взвесила эти обстоятельства, отыскала это самое помещение на чердаке и, пользуясь суматохою, помогла мне добраться до чердака. И все это было сделано ею за какой-нибудь час! За один час! Я еще никогда не встречал такой бесстрашной и смелой девушки. Однакож, надо закурить.
Зашуршала бумага.
– Вот и все мои приключения. Очередь за тобою. Рассказывай, Михеев!
Ответа не последовало.
– Михеев! – позвал Фролов.
Но Михеев не отвечал. Он уже спал, изнуренный дневными потрясениями. «Ишь ты, посвистывает! Устал бедняга. Пора и мне заснуть. Вот только закурю». Опять затрещала сера. Вспыхнул оранжевый огонек. Закружились синеватые тени. Фролов закурил и при свете спички посмотрел на Михеева. Тот лежал на спине и держал в одной руке недоеденную корку хлеба. Спичка погасла. В потемках Фролов прилег на пыльный пол. Несколько раз затянулся. Погасил папироску. Затих.
Где-то в местечке уже кричали петухи. А снизу через слуховое окно доносились невнятные человеческие крики.
* * *
– Заспался на новосельи. – Фролов с улыбкой на бледном бородатом лице наклонился над сонным товарищем. Михеев лежал, широко разбросавши руки и ноги. Чему-то во сне хмурился. Солнечный луч, падавший через слуховое окно, резко освещал его лицо. «Похудел он сильно, – размышлял Фролов. – И глаза запали. Борода изменилась – подлиннела. Выступили скулы. Серый какой-то стал».
Взгляд Фролова остановился на сгустке темной крови, прилепившемся на воротнике гимнастерки Михеева.
– Что с ним? Миша! Миша! – тревожным шопотом окликнул спящего. – Проснись!
Михеев открыл глаза. Тупо осмотрелся. С трудом вспомнил вчерашнее.
– Что это у тебя за кровь на воротнике?
– Кровь? Ага, это у меня рана на шее. Как видно, вчера растревожил. Как сразу заболела! – Михеев поежился и поморщился от боли. – Во время бегства по лесу получил.
– Вот тут вода есть, – указал Фролов на бутылку. – Давай, промою.
Михеев покорно наклонил шею.
– Большая царапина. Пыли-то сколько кругом – на целый палец.
– Да и у тебя, Фролов, на лице целая куча пыли.
– Ничего. Зато здесь безопасно, тепло и сухо.
– Долго ли будем сидеть здесь? Я бы предпочел быть на воле.
– А чорт его знает! Здесь-то сидеть во всяком случае не скучно. Отсюда видна вся площадь. Большой тракт. Потом мы здесь – как у Христа за пазухой.
Отсветы солнечного пятна на полу падали тусклыми бликами на стену из ящиков, на доски и на железо крыши. На солнечном луче, струившемся непрерывным потоком из слухового окна, плясали золотые пылинки. С улицы были слышны людские голоса.
Фролов закончил промывание и замотал рану грязным бинтом.
– Как ясно слышно! – сказал Михеев. – Почти каждое слово можно разобрать.
Снаружи послышался топот и лошадиное ржанье.
– Давай, посмотрим, что там такое, – предложил Фролов. – Это можно делать совершенно безопасно.
Они подошли к слуховому окну и под защитой навеса выглянули наружу.
На улице стоял яркий солнечный день. Изумрудом отливалась зелень деревьев. Сверкали стекла в окнах домков, приютившихся у широкого десятисаженного тракта. В степи золотела солома в стогах. Розовели и синели солнечные степные и лесные дали.
Поднимая тучу сверкающей пыли, по тракту продвигался мелкой рысью отряд казаков в несколько тысяч человек.
Конница растянулась длинной, серой, сияющей искрами лентой. Сияли концы длинных казачьих пик. Сверкали металлические части на амуниции и оружии. Перед конницей гарцовала группа офицеров. Форма, в которую были одеты солдаты и офицеры кавалерии, была формою царской армии. Впереди офицеров, возле трехцветного знамени отряда, во главе всей процессии ехал, покачиваясь на белом коне, точно выжженный солнцем, высохший до костей скелет в генеральском мундире.
Небрежным жестом, не оборачиваясь назад, кивнул он пальцем в сторону группы офицеров. Мигом к генералу прискакали два штабных офицера и грациозно отдали честь. Генерал что-то сказал им и отвернулся. Адъютанты карьером помчали к голове колонны казаков. Впереди отряда ехала музыкантская команда.
У невооруженных, но одетых по форме людей торчали из-за спин ярко вычищенные, светящиеся, медные и никелированные духовые трубы. Офицер, ехавший впереди музыкантской команды, вынул из сапога черную палочку и, точно собираясь вспорхнуть с седла на воздух, взмахнул обеими руками. Музыка заиграла бравурный марш, и под быстрые звуки его отряд помчался крупной рысью.
Вот уже из поля зрения скрылись и генерал, и знамя, и музыкантская команда. Полился колыхаясь однообразный серый казачий поток. Вот он пронесся весь. Ему на смену загрохотали пять артиллерийских батарей. Зеленые 3-дюймовые орудия в трехпарной упряжке. Зарядные ящики, потом пошли пулеметы на тачанках. И опять кавалерия и кавалерия. Затем потянулись войсковые обозы, крестьянские телеги, нагруженные ящиками с патронами, караваями хлеба, мешками с обмундированием. И, наконец, в заключение потянулись лазаретные двуколки, телеги с соломою, на которых лежали больные. В хвосте отряда шло небольшое кавалерийское прикрытие. Фролов и Михеев отошли от окна, пасмурные и поникшие. Образцовый военный порядок в белом казачьем отряде создавал впечатление силы и мощи.
– Стало быть, наши далеко отошли на север, как бы в раздумьи сказал Михеев. – Не слышно стрельбы, не видно беспокойного фронтового настроения у врага.
– Да. Очень странно.
– Хотелось бы узнать, что там делается на наших позициях, в Москве, за границей.
– Погоди. Придет Феня. Принесет новостей. Она все знает.
– Феня? Она слишком смела…
– Да, но не безрассудна. С ней не пропадешь. Но вот что, Миша! Пока ты мне ни слова не рассказал о себе – о том, как дошел ты до жизни такой. Я тебе вчера добросовестно всю свою историю выложил, а ты возьми да засни.
– Ладно… Расскажу. Но у меня аппетит почему-то разыгрался. Нет ли чего у тебя?
– Ничего нет. Последний хлеб вчера ты съел. Ну, да не беда, давай подтянем потуже животы.
– Да у меня-то и пояса нет. Видишь, в одних верхних штанах да в нижней рубашке.
– Это так, к слову. У меня у самого кроме этого больничного халата еще нижнее белье есть. Только его срам даже тебе показывать. Ну, да это не беда. А ты все же валяй, рассказывай поподробнее. Ничего не забудь. Начни с того момента, когда я уехал больной.
* * *
Михеев рассказывал долго. Фролов лежа слушал и временами курил отвратительную махорку. Махорка трещала и вспыхивала. Кругом распространялся удушливый запах дыма.
Солнце ушло в сторону, и его золотой луч перестал падать в чердачное окно. Железная крыша под полуденным солнцем сильно накалилась, и на чердаке было жарко, душно и темно. Откуда-то издалека, должно быть – из местечка, долетали разные обрывки мелодии. То одна, то другая труба досылала свою ноту до чердачного окна.
Еще одинокий человеческий голос внизу назойливо нудно пел «Стеньку Разина». Человек этот, как видно, стоял на часах или же просто сидел у ворот лечебницы и со скуки пел все одно и то же:
«А-и – и з-за о-о-о-стра-ва-а на стрежи
На п-р-а-а-с-т-о-о-о-р р-р-р-ечной волны
А-и – и в-ы-плаавают»…
* * *
Михеев уже с час назад окончил свой рассказ. Оба друга в полудремотном состоянии. Как вдруг неожиданно под окном громко заспорили:
– Не велено пущать…
– Да, а ты пойми. Своим-то умом разберись.
– Не велено…
– Не велено, не велено. А почему не велено, глупая голова, не разберешь. Мне к их благородию, к доктору, от его превосходительства, а ты – не велено.
– Не наше дело. Мне приказано. А я – что…
– Да как же быть-то, дубина ты стоеросовая? Важная секретная, собственное поручение, – а ты не пущать. Да тебя за это вместо этих краснопузых, что здеся сидят – расстрелять надо завтра… Вот что.
– Не велено пущать. Уж ежели ты такой напористый, я и разводящего выкликну…
– Выкликну – хе-хе, чортов пень. Давно бы надо. Знаешь, с кем имеешь – с для поручений у его высокопревосходительства, генерала от кавалерии…
Прозвучал свисток, и спор прекратился.
– Значит, завтра товарищи будут расстреляны, – глухо сказал Михеев.
– Э, дорогой товарищ. А сколько их в этот же миг гибнет по всей стране! На войне всегда есть и убитые и раненые.
– Но у нас их особенно много – особенно много дорогих жертв.
– И борьба грандиозная, мировая.
– Ах, Фролов! Да нельзя же в такие минуты так рассуждать. Ведь это же товарищи по борьбе. Больно ведь.
На глазах Михеева показались слезы. Он вспомнил санаторцев; особенно ярко всплыли в его сознании Стрепетов и военкомбриг. Ему не хотелось верить, что они завтра будут расстреляны.
– Ты просто устал. Измучился. Приляг, Миша.
Михеев послушно лег на пыльный пол лицом к ящикам.
* * *
Ночью Феня не приходила на чердак. Поутру Михеев и Фролов проснулись с ощущением болезненной тошноты в желудках. Хотелось есть. Фролов пытался острить.
– Этак, пожалуй, и помереть голодной смертью можно. Придет Феня через неделю и увидит здесь наши хладные трупы.
Михеев криво улыбнулся.
– Вот я тебя, Фролов, съем – это будет куда позанятнее. Представь себе, входит Феня и видит: я сижу и с легким ворчанием гложу твою лапку.
– Да, это буде позабористее…
Между тем через слуховое чердачное окно лился рекою уличный шум. То отдельно ржание лошади, то громкий смех или речь всплывали на поверхности этого потока и вновь тонули в нем. Фролов, пригнувшись, посмотрел в слуховое окно.
– Площадь полна военными… Только – стой-ка, да ведь часть из них стоит под стражей… Миша, подойди, посмотри ты.
Михеев подошел и выглянул.
– Да. На самом деле, под стражей. Это казаки окружают солдат. Но кто эти солдаты? Или взбунтовавшиеся, или…
– Или пленные, – добавил Фролов. – Скорее всего пленные.
Площадь внезапно затихла. До чердачного окна стала долетать неразборчивая крикливая речь. Вся площадь заревела в ответ.
– Приветствуют кого-нибудь. Отвечают так, точно лает необыкновенной величины пес.
– Похоже. Жаль только, что не видно того, кто здоровается.
Площадь опять затихла. Снова послышалась крикливая невнятная речь. Она то замолкала, то вновь разражалась, все повышаясь в тоне. Речь снова замолкла.




