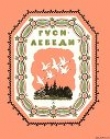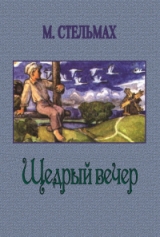
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Мы все потянулись к загоревшим рукам мастера. На его нежном глазурованном кафеле с камыша взлетела утка, взлетела в зеленый рассвет, к еще не видимому солнышку. Черный глаз птицы доверчиво, по–людски смотрел на нас, а с ее крыла сорвались две капли воды или росы.
– Боже, как хорошо! – аж застонал кобзарь.
А дядька Себастьян поцеловал Демка Петровича.
– Вот человек! Взяли меня и перенесли из зимы в весну. Такое чудо из глины сделать!
– Бог Адама тоже из глины изваял, – вбросил словцо отец Себастьяна, и снова имел за это смех, и снова взглянул на печь, где лежал его кожух.
– Спасибо вам за радость, – поблагодарил гончара дядька Стратон.
– И в самом деле вы имеете хоть каплю радости? – подобрели огнем накупанные глаза Демка Петровича. Он таки знал, что его работа должна нравиться людям, но хотелось, чтобы они еще и еще раз подтвердили это и развеяли неусыпные сомнения, неуверенность, которые больше держатся души творца, чем ремесленника.
– О чем и говорить, – аж вздохнул дядька Себастьян, присматриваясь к кафелю. – И как оно так получается у вас, что от кафелины аж повеяло весной?
Добрая и стеснительная улыбка обвела морщинистые губы гончара:
– Потому что я прежде чем делать, вызвал к себе весну: и зеленые лужайки, и синюю воду, и вербы над ней, и солнце над вербами. Вот когда они встали возле меня, тогда руки сами потянулись к работе.
– Не знаете вы цены своим рукам.
– Нашелся такой, что сложил им цену, – загрустил гончар.
– Что же случилось?
– Вот увидел мои игрушки Юхрим и обложил их таким патентом, что надо бросать свою забаву.
– Что?! Юхрим вас обложил?! – сразу же рассердился дядька Себастьян.
– А кто другой? Своячок!
– Не своячок, а хапуга! – нахмурился дядя Себастьян.
– Разве же понятно паскуде, что я на горшках и кувшинах больше бы заработал?
– Вы ему об этом говорили?
– Да говорил, и умолял, и скандалил. А он ухватил мою душу, как палач, и потянул ее на протокол, будто на виселицу. Такой стыд, такое бесславие бросил на мои года и работу.
– И никто не спасал вас?
– Тогда меня мог бы спасти или мой в его кармане червонец, или чей–то высший чин.
– Ну, вот я еще с ним, ничтожеством, поболтаю! Я ему!.. – дядька Себастьян чего–то не досказал, бросился к вешалке и впопыхах начал одеваться.
Гости и отец насели на него:
– Подожди, Себастьян. Разве же завтра дня не будет?!
– Зачем он тебе на святой вечер сдался!
– Я кому–то сделаю его грешным!
– Безумный, ты не впал в детство? На кого же гостей бросаешь? – снова рассердился отец.
– На вас, отец. Развлеките их чем–то смешным.
– Трясца твоей матери и тебе, задире! Или ты вот теперь отупел, или таким на свет пожаловал?
– Отец, угощайте гостей! Я скоро буду! – дядька Себастьян, как ветер, выскочил из хаты, а я выскользнул за ним и прикипел у сенных дверей. Дядька это заметил, но ничего не сказал – ему теперь было не до меня. Вот он подбежал к конюшне, растворил двери и вывел коня, которого когда–то отбил у бандитов. Конь тихонько заржал, выгнул голову, и против луны росой заискрилась его грива. Дядька Себастьян вскочил на него, пригнулся, что–то сказал, и конь с копыта пошел галопом, аж белая пыль затуманилась за ним.
Из хаты повыходили гости, и, не сговариваясь, пошли на улицу. Над селом небесные мельники просеивали звезды и звездную пергу, а селом до сих пор из уголка на уголок, расплескивая счастье, переходили колядники.
– И что вы скажете о нем? – спрашивает сам у себя кобзарь.
– Что я скажу? – отозвался дядька Стратон. – Один человек имеет душу, как птицу, что под тучами ширяет, а другой – как наседку, которая только на своих яйцах сидит, высиживает не цыплят, а ублюдков каких–то.
– А что мой Себастьян имеет за свою душу? Одну шинелину, одну пианину и кучу неприятностей. Говорю же ему: пожил ты для революции, так поживы и для себя.
– А он живет для линии! – засмеялся Федоренко.
– Линии! – перекривил отец Себастьяна. – Какая же это линия, когда кто–то за революцию получает порцию свинца, а другой трясет и отряхивает эту революцию, как золотую яблоню, еще и притворяется ее хранителем?
От ставка послышался топот копыт. А вот на улице появился и дядька Себастьян. Перед ним, поперек коня, лежал вдвое перегнутый Юхрим Бабенко. Он что–то жалобно лепетал, вскрикивал, оправдывался, а его длиннющие ноги время от времени разгребали снег.
Когда возмущенный такой кладью воронец влетел во двор, дядька Себастьян соскочил на землю и, не церемонясь, потянул за собой Юхрима. Тот, как сноп, упал на снег, застонал, встал, осоловевшими глазами стеклянно глянул на нас, удивился и сразу ожил: наверно, сначала думал, что ему надо ждать чего–то более страшного.
– И вас так сюда привезли в гости, как меня? – обратился к людям и начал десницей растирать поперек, а левой – живот.
Этот неожиданный вопрос развеселил всех, а на непостоянное Юхримово лицо ложится выражение угодливости:
– Вот хорошего коня имеет Себастьян! Прямо не конь, а златогривец! Вот везет человеку в селе!
– А тебе в городе? – спросил дядька Стратон.
– Тоже никак не обижаюсь на свое официальное государственное положение, – говорит дяде Стратону, а скользким глазом пасет председателя комбеда и незаметно делает шаг и другой назад.
– Ты вроде убегать собираешься? – спрашивает дядька Себастьян, измерив взглядом ноги Юхрима.
– Убегать? – удивляются и глаза, и губы, и фасолиные ноздри Юхрима. – Это я ноги разминаю. Да с такой кумпанией все святки, как в раю, буду гулять. Может, сбегать за чем–то таким? – красноречиво потрогал рукой карман.
– Поворачивай в хату! Поговорим о праздничном, – мрачно говорит председатель комбеда.
– Если просят, то повернем. И чего ты хмуришься, если в гости привез?
– Лихая година возила бы тебя!
– Э, это уже выпад! – поднимает голос Юхрим, а на его глаза наползают серые пленки. – Привез меня в гости, так и угощай, натурально, как гостя, потому что я тоже могу рассердиться: мне ехать поперек коня было не очень удобно. Не думаешь ли, Себастьян, что мы пунктуально разберем это дело в уезде под девизом: «Прочь партизанщину и махновскую анархию!»?
– Какую анархию?! – вскипел дядька Себастьян.
– Ну, ту, не совсем культурную.
В жилище дядька Себастьян встал напротив Юхрима и ехидно спросил:
– Значит, дорвался до власти?
На это Юхрим, как по–писанному, ответил:
– Имею уважение от инстанций, представителей и газетной хроники. Ты не читал, как недавно обо мне было написано в одном органе: «Оратор подробно остановился…»? Жаль только, что фамилию перепутали: вместо Бабенко почему–то написали Бабий. Оно корень один, и звучание уменьшили, а увеличили причастность к бабодурству. Как ты на это смотришь?
– Я еще дождусь, когда о таком ораторе–дураке другое напишут.
– Жди, если имеешь время, – пожал плечами и озлился Юхрим. – Но не всегда так высказывай свое мнение при народе, потому что я о тебе могу высказаться в кабинете.
– О твоих нашептываниях, наушник, я хорошо знаю. А ты хоть раз, работая фининспектором, думал, что оставляешь после себя?
– После себя?.. Пусть над этим вопросом поколения думают! – беззаботно ответил Юхрим. – А я для современности на нужды вырываю рубль.
– С мясом?
– Рубль всегда вырывался с болью, со шкурой или с мясом. Это знают все деловые люди. А кто сейчас у нас должен стать пупом земли? Только деловые люди, которые умеют и вырывать, и выколачивать рубль.
– Выгнало тебя, как дуб, а ума и на желудь не уродило! – подавил гнев дядька Себастьян.
Теперь Юхрим даже свысока взглянул на председателя комбеда:
– Какой ни имею ум, а снова же теперь не тебе учить меня.
– Увидим!
Юхрим с сожалением и скрытой насмешкой покачал головой:
– Ты опоздал, Себастьян, опоздал! Теперь уже я тебя могу учить, как вышестоящая инстанция.
– И таки может, – согласился отец Себастьяна. – Хоть ты, Юхрим, дурак, а место имеешь умное.
– Ты узнаешь этого человека? – насилу сдерживая злость, дядя Себастьян положил руку на гончара.
Юхрим стал серьезнее:
– Натурально, узнаю, персонально присматривался к его обычным и подозрительным игрушкам, персонально и обложил их, чтобы меньше собирали вокруг себя несознательные глаза и несознательный смех. Из моих рук по линии финансов даже родная мама не выскользнет.
– И ты, остолоп, посмел обкладывать красоту?! – У дядьки Себастьяна аж губы задрожали.
– Авантюристический вопрос! Ибо что такое перед финансами красота? – возмутился Юхрим, вознегодовали его фасолинистые ноздри, и вдруг он утихомирился, а глаза стали масляными: – За красоту всегда и всюду платят больше, вот она больше и обкладываться должна. Резон?
– Тебе дай волю – все красивое выжмешь! – отозвался седой кобзарь.
– И выжму! Я человек без разных крестьянских сантиментов – понаглел весь вид Юхрима. – Какая–то уточка или цветочек из моих глаз не выбьет слезу. И надо смотреть на жизнь сквозь призму в историческом разрезе! Ведь что теперь ценнее: некоторые красивые, но никому не нужные утки, коньки или обычные горшки, которые идут на нужды трудящихся рабоче–крестьянского государства? И пусть, натурально, этот рукотворец без соответствующего разрешения на то не бросается в мечтания, в фантазии и лепит, что положено лепить из глины, – горшки и макитры; пусть и он сообразит: красота служит единицам, а навар – массам!
– Дайте мне кнут! – метнулся дядька Себастьян к скамейке, десницей ухватил кнутовище, а оно отозвалось пением. – Я с этой макитры наделаю кусков! Я им отворю свои двери!
С лица Юхрима слетела наглость, он торчком головы бросился к порогу, а в хату, как вьюга, влетела Юхримова жена. Мороз облачком закружил вокруг нее, а все ее широко развивающиеся юбки сразу отмерили себе полхаты и разбудили в ней ветер.
Юхрим от удивления сказал: «О, прибежал Евгений накоренок[29]29
Накоренок – потомок, род, выродок.
[Закрыть]" – и прислонился спиной к печи.
– Ой Себастьян, дорогой, богом прошу тебя, не выбивай души из тела, не загуби, не прибей моего неспособного, моего зеленоголового! – непостоянными румянцами и курносиком между ними припала тетка Кристина к плечу председателя комбеда. – Хоть какое он ничтожество, а не прибей, потому что и дуракам надо жить на свете.
– Прибивать не буду, а проучить даже при тебе не постесняюсь!
– Ты в самом деле не будешь его убивать? – не поверила сразу молодица и глянула на Юхрима. – А ты что молол? – и снова к дяде Себастьяну: – Так не будешь?
– Зачем мне этот оболтус сдался?! Радуйся им, когда не надоел, как болячка.
Тетка Кристина сразу же повеселела, крутнулась по хате, а на ее лесенками надетых юбках ожило целое хозяйство: и горох, и вишни, и птицы, и цветы, и колоски.
– Если так, Себастьян, всыпь моей паре и за меня! Конечно! Потому что разве это мужик? Такого лоботряса, смутьяна, дурака, пустозвона, лентяя, лжеца, задаваку, сушиголову, воздыхателя и юбочника весь грешный свет не видел. Он скоро из меня Варвару великомученицу сделает, а я же, на зло ему, хочу по–людски жить.
Дядька Себастьян удивился, опустил руку с кнутом:
– Вот как! И тебе, женщина добрая, не жалко будет твоего баламута?
– А он меня жалеет? – тетка Кристина одним кулаком подперла бок, а другим погрозилась на мужа. – Пусть, лоботряс, хотя раз отольются тебе мои слезы! Сколько я тебе говорила: не чеши черта – бесом станешь! Конечно!
– Тогда, крестник, держись! – дядька Себастьян отвел руку с кнутом, а Юхрим, вываливая плечом и лбом двери, вылетел из хаты, зацепился в сенях за кадушку, упал, тихонько вскрикнул и рванул на себя сенные двери.
– И здесь сбежал! – удивилась и грустно покачала головой тетка Кристина. – Он, несомненно, и от смерти убежит.
Я подскочил к дверям, чтобы закрыть их, и в это время во дворе послышался густой удивленный голос:
– Ты чего торчком головы летишь? Что это здесь делается? Разбой, побоище или попоище?
– Ой!.. Это вы приехали к нам? Это такая радость! Аж не верится, натурально! А у нас кругом такая необразованность – и до сих пор без цивилизации колядуют… Может, ко мне заскочим? Это будет праздник! Не рождество, а Пасха! Как вы на это с точки зрения?.. – сладкоречиво забалабонил к кому–то Юхрим.
– Ты сперва отряхнись!
– Ой, стою перед вами неотряхнутый, как… Растерялся от индивидуальной радости. Извините. Вот спасибо, что приехали! У меня дома есть такая запеканочка, что и в Санкт – Петербурге при монархии не было. Хоть вы, натурально, не выпивоха, но от этого зелья никак не откажетесь. Я недалеко живу – не затрудните себя. Осчастливьте мой дом.
– А кто тебя из этого дома выпроваживал?
– Ох, вам бы персонально не спрашивать, а мне индивидуально не отвечать, потому что я не люблю наговаривать, – Юхрим умышленно повышает голос, чтобы и в хате слышали, какой он справедливый.
– Ты не горлань намеками, а говори полным словом!
– Могу, Василий Иванович, могу и полным, – и сразу понижает голос: – Ваш хваленый Себастьян персонально мной отворил свои двери. Вот какая у него первоначально элементная культура!
– Что?! Себастьян фининспектором двери раскрыл?
– Фининспектором! И не тет–а–тет, не один на один, а при людях! Вот такое он имеет финансовое соображение ума.
– А двери же целые остались?
– Не знаю, наверное, целые.
– О чем же вы не помирились?
– За сектора, Василий Иванович. Я, не жалея себя, натурально, защищаю государственный сектор, а Себастьян – индивидуальный.
– Да что ты мелешь?!
– Проверьте! Вот я здесь, а Себастьян в хате. Мы с вами на государственной работе в городе имеем кругозор, а он – пуповину, которая приросла к селу. А на чем держится село? На земле и на индивидуальной пуповине.
– А у тебя коллективная пуповина уже держится не села, а харчей из села?
– Вот и вы, натурально, обижаете своего фининспектора, насмешечки себе строите. А какая жизнь фининспектора в период нэпа и непереработанной мелкособственнической стихии? Хуже собачьей, потому что, беспокоясь о государственном рубле, он даже из–под гадюки должен вытянуть копейку!
– Ты смотри! Здорово сказано! – в голосе неизвестного послышалось удивление и сочувствие, а в хате все нахмурились.
– Кого это так разжалобливает мой пустослов? – становилась грустнее тетка Кристина.
– Председателя уездисполкома, – ответил дядька Стратон.
– Еще и ему забьет баки мой порученец. И как он умеет так прикидываться? – вслух удивляется женщина. – Он только дома становится самым собой, и то не всегда: даже передо мною, забывшись, еще иногда юлит, играет свои роли.
Все начинают смеяться, а в хату в клубах мороза входят председатель уездисполкома и Юхрим, лицо которого сейчас преисполнено уважения к начальству и уважения к своему лицу. Юхрим затворяет двери, украдкой смотрит, остались ли они целыми, и невольно вздыхает.
– Добрый вечер добрым людям, – простуженно здоровается молодой председатель, поднимает длинные ресницы, и на его темном лице хорошо выделяются серые, с сонным туманцем глаза. И какие глаза! Наверное, с мглистых купальских рассветов вбирали они тот сонный туманец, который выгибает ресницы, удивляет, смущает и радует человека. – Так это ты, Себастьян, отворяешь финансами двери?
– Как сказано! Как это сказано: отворяешь финансами двери, – подрастая, аж причмокнул Юхрим, выкруглил на коржастых щеках два больших угодливых нуля и поднял вверх указательный палец. – О!
– И на кого ты, безумный, окаешь? – тихонько спросила тетка Христя.
Юхрим, как гусь, выгнул шею, вытаращился на жену, зашипел, уменьшил на своем лице нули, но сразу же перестроился, улыбнулся и почтительно обратился к председателю:
– Познакомьтесь, Василий Иванович, – моя верная, благоверная и преданная половина.
– Не тю ли на тебя! – смутилась, застеснялась благоверная половина. – У моего на голове пошива седеет, а в голове майские жуки хурчат.
– Ничего себе характеристика! – повеселел председатель и нацелил на дядю Себастьяна ресницы. – Ты не скажешь, чего это от тебя так убегал человек, который чуть пяты не растерял?
– Наверно, спешил собрать свои обручи и клепки, – сразу же ответил председатель комбеда.
– Вот видите, как он разговаривает даже в чьем–то вышестоящем присутствии! А при вашем отсутствии он хотел побить меня тем кнутом, который с одного конца имеет музыку, а с другого – боль. Распоясался Себастьян, как натуральный анархист.
– Язык бриллиантовый, только слова – нитчатка, – спокойно отозвался малословный дядька Стратон.
– Нате и мои штаны в жлукто! – озлился Юхрим. – Они здесь все одной веревочкой связаны! А въелись в мою индивидуальность за то, что я по закону взымаю налоги, готовые деньги из тех кустарей, которые занимаются не делом, а безыдейной и подозрительной фантазией.
– Подожди, подожди! Что это за безыдейная и подозрительная фантазия появилась у кустарей? – Василий Иванович подбросил вверх черные косые стрелки бровей.
Тетка Христя умоляюще простерла руки к председателю уездисполкома:
– Да не верьте губе моего мужа, – она давно с правдой разминулась.
– Молчи, хворь моя! Тебе и кузнец ума не накует! – огрызнулся Юхрим.
– Весело вы здесь живете! – хмыкнул Василий Иванович и обратился к Юхриму: – Расскажи, как ты взымаешь из фантазии готовые деньги?
– Так, чтобы не разгулялась она! – и тыкнул пальцем на Демка Петровича. – Вот перед вами стоит тот индивидуум, что может, натурально, сделать из глины миску и горшок, рынку[30]30
Ринка – высокая глиняная миска, расширяющаяся вверх.
[Закрыть] и кувшин, макитру и куманец[31]31
Куманец – керамический фигурный сосуд для спиртных напитков, теперь в основном используется как украшение.
[Закрыть], кружку и рюмку – все, что нужно в доме пролетариата и трудового крестьянства. А он вместо реального трудового процесса бросился в мечтания–фантазию и лепит разную зверину, птиц и даже чертей с человеческими намеками и переживаниями. Вот я за эту чертовщину и прикрутил его налогом, за что и пострадал телесно, потому что наш председатель комбеда ограждает кустарей от налога. Вот как он понимает и подрывает финансовую политику первого в мире рабоче–крестьянского государства.
В глазах Василия Ивановича посветлел сонный туманец.
– Ты чего своевольничаешь, Себастьян? Закон есть закон и для гончаров, хоть бы что они вырабатывали. Земледелец платит за землю, гончар за глину.
– Как сказано: земледелец платит за землю, гончар за глину! – у Юхрима снова округлились и глаза, и нули на щеках.
– Чего молчишь, Себастьян?
– А что мне говорить? Грех красоту облагать налогом. Если ее станет меньше, так и мы измельчаем. Я не знаю, кто придумал горькую поговорку: бог для бедных сотворил вербу и картофель. А когда человек на бедняцком картофеле создает красоту, так мы должны похвалить, возвеличить этого человека, а не гнуть глупым словом или рублем, как делает этот оболтус. Демко Петрович, покажите свои фантазии.
– Да зачем? – безнадежно махнул рукой гончар. – Уже имею себе из уезда полбеды, так не хочу иметь всю беду.
– Слышите, слышите, Василий Иванович, что, натурально, говорят всякие подозрительные об уезде! И это при председателе вышеупомянутого уезда! Вот какую они красоту создают! Так и контрреволюцию создадут! К ним смотри, присматривайся и на заметку бери!
– Ну, о контрреволюции ты уж, мужик, загнул!
– Нет, не загнул! А чтобы поверили, демонстрирую курьез! Я сам, персонально, конфисковал на ярмарке у Демка Петровича глиняного черта, у которого долговязость фигуры, модель головы и округлость обеих щек были совсем похожи на меня. Покупатели смотрели на черта, а насмехались надо мной, о чем могут сказать записанные в мою книжечку свидетели. Вот таким образом этот индивидуум может дискредитировать не только меня, но и руководство всего нашего уезда. Я прогрессивно вперед забегаю!
– Смотрел бес в воду и только видел черта, – хмыкнул дядька Стратон.
– Показывайте, человече, свои фантазии! – обратился к гончару Василий Иванович.
Демко Петрович бросил на Юхрима хитринку, вздохнул и спросил у председателя:
– А какие же вам показывать фантазии? Возможные и невозможные, как говорит фининспектор, или только возможные?
Юхрима аж залихорадило:
– У вас снова объявились невозможности?
Демко Петрович невинно ответил:
– И на них хватило глины.
Юхрим вперил глаза в гончара:
– Не трясите беду – отряхнете горе!
Мастер возмутился, снял старость со спины, выпрямился:
– Чего ты меня, копеечный, пугаешь то рублем, то горем? Если на то пошло, перепугаю тебя! – он полез в мешок и начал раскладывать свои изделия на скамейке. Вот в его руке появился пучеглазый, с коржастыми щеками черт; закольцевавши себя хвостом, он держал в руке его конец, который завершался дулей.
Глянул Юхрим на черта – позеленел, негодующе тыкнул на него пальцем и сказал: «О!»
Все, кроме председателя уездисполкома, засмеялись.
– Юхрим, это же точно твоя парсуна! – хохоча, схватился руками за живот отец Себастьяна. – Вот только бы тебе на самом деле выпал такой кукиш!
Гончар вознамерился спрятать свою игрушку, но его придержал за руку Василий Иванович.
– Обождите, пусть люди посмотрят.
– А налога на чертей не будет?
– Вас не налог, а натурально, криминал ждет! Вот не я буду! – неистовствовал Юхрим и все больше становился похожим на лепленного черта.
Василий Иванович отмахнулся от угроз и прикипел к кафелине с уткой. Он долго–долго рассматривал изделия старого мастера, потом что–то вспомнил, нахмурился, обернулся к Юхриму:
– Так кто контрреволюцию создает: он или ты?
– Подумайте, подумайте, Василий Иванович, что вы при массах говорите! – раскололся на две половины голос Юхрима – первая тихо загудела, а вторая закипела, подпрыгнула вверх. И даже глаза фининспектора подкатились, стали наискось, а на окантованных губах шевельнулась испуганная улыбка. – Василий Иванович, дорогонький, разве же вы не знаете меня?
– От сегодня не знаю и знать не хочу!
– Так вы за такую мелочь, извините, за глину, обижаете человека?
– А где ты научился так обижать и унижать людей?
– Ну, вы еще меня не знаете, – грустно покачал головой Юхрим.
– Еще раз скажу: и знать тебя не хочу.
– Почему же так быстро? – Юхрим скрестил руки на груди и улыбнулся, как змей. Теперь он уже никого не боялся. – Я, натурально, понимаю: в красных казаках вам быстро надо было махать саблей, а решение принимайте не спеша, потому что поскользнетесь на глине, – она скользкая, – тыкнул пальцем на кафелину с уткой.
– Иди, скользкий, отсюда! – бледнея, понизил голос Василий Иванович. – Завтра же передашь свои дела.
– Не имеете права! Я, натурально, государственную копейку оберегаю! – взвизгнул Юхрим.
– А нам надо оберегать государство от таких болванов!
– Я и об этом скажу вышестоящим инстанциям! Я своего не подарю!
– Отворяй двери! – встал из–за стола дядька Стратон, и Юхрим сразу выскочил из хаты.
– Вот кому–кому, а мне достанется, – грустно сказала тетка Кристина, переглянулась с дядей Себастьяном, покосилась на стол и пошла хозяйничать к полке для посуды.
– За ваш талант, Демко Петрович! За то, чтобы ваши произведения и в столице порадовали людей! – чокается с гончаром Василий Иванович.
– Спасибо.
– Кристина, бери рюмку! – приказал дядька Себастьян.
– Хватает хлопот и без нее.
– Чего это не полную налили ей?
– Это чтобы я ее слезами, как свою судьбу, доливала, – тетка Кристина коснулась рукой щек, на которых до сих пор бунтовали румянцы.
– За твое здоровье, Кристя.
– За ваше, люди добрые, – и молодица вытерла глаза.
– Ты чего?
Тетка Кристина доверчиво и грустно взглянула на Себастьяна:
– Послушались уши его языка, а теперь горя и ведром не вынесешь. Конечно!..
– И где мои глаза были, когда ты невестилась? – тихо спросил себя дядька Себастьян.
– Ой! – тетка Кристина вздрогнула и самой грустью прошептала: – В лесах тогда были твои глаза.
– И кого теперь винить, леса или себя?..
Молодица что–то тяжело отвела рукой от себя, вздохнула:
– Эт, не будем об этом… Не каждый встречает свое щедрое утро или щедрый вечер… Что теперь мой хитрый мацапура[32]32
Мацапура – неопрятная или неуклюжий человек.
[Закрыть] вытворяет?..
Уже потом село узнало, что Юхрим после разговора с председателем уездисполкома метнулся с доносом и жалобой аж в Винницу. И там поразил, удивил и разжалобил работников губфинотдела своим коронным, откуда–то украденным предложением, что он, беспокоясь о государственном рубле, даже из–под гадюки извлекал копейку. Дело закончилось соломоновым решением: с Демка Петровича сняли налог, а Юхрима забрали работать в округ…
– А что это за паренек у тебя? – остро глянул на меня Василий Иванович.
– Михайлик! – одним словом ответил дядька Себастьян.
– Это часом не тот, что космографию читал? – прищурился председатель уездисполкома.
– Он самый!
– Так вот ты какой? – удивляется Василий Иванович и приближает ко мне сонный туманец своих непривычных глаз. – Очень хочется читать?
– Очень, – неловко говорю я.
– А как ты читаешь? От корки до корки и посредине немножко?
– И посредине немножко, – качаю головой и не сокрушаюсь.
– И что теперь читаешь?
– Эт!
– Ты чего загордился?
– О! Такое скажете, – начинаю печь раки.
– Как эта книжка называется?
– «Арабская земля и Магометова вера».
– А это тебе крайне надо знать? – и смех закружил вокруг меня, как танец.
Так что мне осталось делать? Тоже смеяться.
– И у меня такой ребенок: всюду рыщет за книжками, а их нет, – отозвался дядька Стратон.
– Беда? – сочувственно смотрит на меня Василий Иванович.
– Не так беда, как полбеды, – отходя, отвечаю ему.
– А читать же хочется?
– Аж душа болит.
– Вот этого я не хочу, чтобы у малого душа болела, – и Василий Иванович повел косой бровью на дядю Себастьяна. – Прошу тебя, при случае заскочи в Майдан – Треповский[33]33
Теперь (на время написания романа) Майдан – Курилевский Хмельницкого района, Винницкой области.
[Закрыть] – там теперь наилучшая библиотека.
– Это дело! – одобрительно кивнул головой дядька Себастьян и весело глянул на меня. – Там книжек – море!
– Ой! – самопроизвольно вырвалось у меня. Я сразу же с перепугу прикрыл рукой губы, а все засмеялись, даже отец Себастьяна дружески покачал печальной головой.
А Василий Иванович вынул из кармана записную книжку, отодвинул от себя полумисок со студнем и начал на бумаге выписывать радость для меня.
Я все косился на веселые размашистые буквы, которые так подхватывали друг друга, будто готовились к танцу, и меня обсыпало то ли искрами, то ли звездами. От радости чуть ли не затанцевал на скамейке. Если везет, так везет головорезу!
– Теперь, мальчишка, наверное, начитаешься! – нацелил на меня Василий Иванович насыщенные улыбкой губы, вырвал листок с книжки и подал дяде Себастьяну. – Учись, выходи в люди!
Свадьба заиграла в моих ушах и душе, я совсем затихаю, прислушиваюсь к нему, дальше перевожу взгляд с дядьки Себастьяна на людей, а они наклоняют ко мне улыбающиеся, расцветшие глаза. И только отец Себастьяна почему–то вздыхает.
А в это время под окнами забухали шаги, засветилось, закружило рисованное в облике девушки солнце, и вечер зазвенел молодыми голосами:
То не з моря тумани,
То із коней пара…
Гей, гей, какая же это должна быть битва, когда с лошадей идет пар, как туманы с моря, когда стрелы падают, как мелкий дождик, а мечи блестят, словно солнце в туче?!
И колядки, и тихий Дунай, выплывающий из них, и всадники над Дунаем, и пар с коней, и струны кобзы старика Левка убаюкивали и убаюкивали и усыпили малого. Я уже не слышал, как разъехались гости, как дядька Себастьян снял с меня сапожки и накрыл соньку ежистым солдатским одеялом…
Меня разбудили скрип двери, топот чьих–то сапог и чудной смех. Когда я раскрыл глаза, у порога ровно стояла немолодая грустная женщина, а возле нее сиял хромовыми сапогами веселолицый милиционер, к которому прилипло диковинное прозвище – Хвирточка, и только из–за того, что он научился кричать на людей: «Закрой мне хвирточку» или «Открой мне хвирточку».
Из его рта сейчас вырывался клекот, хрип и что–то подобное на шипение гуся, – все это ему вместе заменяло смех.
– Садитесь, тетка Марина. Что там произошло? – заговорил к женщине дядька Себастьян.
– Эт, пусть он говорит… научился же. – Тетка Марина обиженно сомкнула темные морщинистые губы, села на скамейку и крестом положила на колени тяжелые землистые руки.
– Рассказывай, Василий!
Испорченный граммофон снова захрипел в груди милиционера, и снова – смеха не получилось, но это ничуточку не разволновало Василия, – все его лицо сияло радостью, а глаза наполнялись веселыми слезами.
– Вот не поверите, что я сегодня на контрреволюцию наткнулся! Держу ее, понятно, в кулаке! – победно сказал, а тетка Марина вздохнула.
– На какую это контрреволюцию ты наткнулся? – недоверчиво спросил дядька Себастьян. – Может, на тетку Марину?
– На нее же! Никогда бы и сам не подумал, а вот… село, конешно! Расскажу вам по протокольной форме.
– Рассказывай, как умеешь, – нахмурился и загрустил дядька Себастьян.
– Сегодня раненько поехал я к Якову подковать коня. Захожу себе тихонько во двор, иду к хате, а ухом слышу, что в кузнице шипит кузнечный мех. Это на рождество! – снова зашипел, заклокотал милиционер, вытер рукой слезу. – Удивляюсь, что для Якова и праздника нет, и подхожу к кузнице. И что я только вижу?! Чертов кузнец раздувает огонь, а на огне, как на картине, стоит целехонький пулемет. Тогда, я, понятно, револьвер в руку, а ногой – в дверь и к Якову: «Руки вверх!»
А он на меня, понятно, никакого внимания.
«Пошел ты, – говорит, – Хвирточка, к черту. Людям бог праздник посылает, а ты револьвером играешься, как самашедший».
«Я стрелять буду!» – кричу на кузнеца.
А ему и за ухом не зудит.
«Стреляй, – говорит, – себе в затылок, может, там дурака прибьешь. Чего ты нажабился? Пулемет никогда не видел?»
«За этот пулемет судить будем!»
«За что же меня судить? – рассердился кузнец. – За то, что я смерть перековываю на лемех?»
«Вы мне лемехом баки не забивайте, а фактически скажите, где достали эту смерть?» – припираю его к стенке револьвером, параграфами и даже строгостью закона.
Мялся, крутился, выкручивался человек, и вынужден был признаться, что достал пулемет у гражданки Марины, которая вот осьдечки сидит перед вами и вздыхает, будто этот пулемет не был ее собственностью.
– Тетка Марина, это правда?! – не верится дяде Себастьяну.
– Да правда же, – покачала головой тетка Марина.
– И вы продали пулемет Якову?
– Вот это уже неправда: не продала его, а обменяла.
– Что же это за обмен?
– Я ему отдала пулемет, а он мне кочергу, потому что моя как раз переломилась.
– Так и Яков сказал! – подтвердил милиционер. – Тогда я бегом на улицу, вскочил в сани – и на хутор к тетке Марине. Приезжаю, захожу в хату, а она еще и к столу меня приглашает.
– Как человека же, – тихо отозвалась тетка Марина.
«Где вы, гражданка, прячете свои пулеметы?!» – сразу нагнал ей страху.
«Зачем они тебе, Василий?» – не удивляется, не пугается, а обнаруживает, что еще имеет оружие.
«В милицию надо сдать!»
«Даром или что–то заплатят мне?»
«За это дело тюрьмой заплатим!» – говорю ей.
А она ко мне:
«Хвирточкой ты был, Хвирточкой и остался, хоть и обулся в золотые сапоги».
Рассердился я и начал подвергать обыску. Сопротивления со стороны тетки Марины не было. И нашел я в пристройке, – вот никто не поверит, – еще четыре пулемета и пять немецких и австрийских ружей.