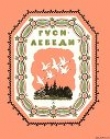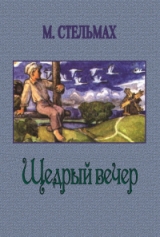
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Михаил Афанасьевич Стельмах
Щедрый вечер
Раздел первый
Как только весна где–то в ржах–пшеницах встречается с летом, у нас созревает земляника, созревает ночью, при звездах, и поэтому становится похожей на росу, выпавшую из звезд.
Это тоже, приклоняя небо к земле, говорит моя мать, и поэтому я люблю эту пору, когда земляничники засвечивают свое цветение. Цветут они так, будто сами удивляются своему беззащитно–чистому цвету. А со временем над ними по–детски наклоняют головки увлажненные туманом ягоды. И хоть небольшая это ягода, а весь лес и всяк, кто ходит в нем, пахнет земляникой. Я теперь ложусь и встаю, выкупанный этим благоуханием, – лето, летечко!..
Я люблю, когда ты раскрываешь свои ресницы, грустноватый ржаной цвет, я люблю, когда ты доверчиво смотришь на меня глазами васильков и откликаешься косой на лугу, перепелкой в поле.
А как хочется спать в тебе, в твоем сладком тумане, в твоих звездах!..
И уже знакомая рука ложится на плечо и знакомый голос наклоняется к твоему сну:
– Вставай, Михайлик, вставай.
– Мама, еще одну капелюшечку…
– Отряхни эту капелюшечку.
– Ой…
– Гляди, еще бока отоспишь. Тогда что будем делать?
Дерюжка и тепло спадают с тебя, ты весь собираешься в комочек, как грецкий орех, врастаешь в топчан. Да разве это поможет?
– Вставай, вставай, дитя, – вынимает мать из сна. – Уже окна поседели, уже просыпается солнце.
Солнце?.. А ты еще видишь луну, как ее из лесу выносят на рогах коровы, тоже пропахшие земляникой.
На тебя, на твои покромсанные видения снова падают слова, словно роса; ты встаешь, надувшись, зевая, прикладываешь кулаки к глазам, а в ухо, где еще притаился сон, сквозь туман проникает унылое кукование. Уже не первое утро печалится кукушка, что вот–вот на седом колоске ржи потеряет свой голос, – лето, летечко!
Оно тихо с полей зашло в село, постояло у каждого плетня, огорода да и взялось за свое дело, чтобы все росло, родило. Даже на цыпочки встает, так хочет расти, так хочет родить!
Как зелено, как свежо, как росно за двумя окошками нашей бедняцкой хаты, занимающей ровно половину пристройки старого захудалого овина, который ночью спит, а днем дремлет…
По возвращении отца был в нашей семье очень невеселый день – раздел дедова наследства. Как будто чужие, сидели на ясеневых скамейках братья и жена брата, просвечивали друг друга подозрительным глазом. Правда, драки–ссоры не было, но то сердечное согласие, которое жило когда–то в дедовом жилище, отошло далеко от наследников. Более всего показывала характер жена брата, хотя и имела в своем хозяйстве пять десятин, и волы, и корову. Но и детей было у нее тоже немало – аж четверо, и старшей дочери уже надо было готовить приданое.
Дедова хата досталась дяде Ивану и дядине[1]1
Дядина – жена дядьки.
[Закрыть] Евдокии. Они без проволочек в тот же день начали срывать с нее голубые от времени и неба снопки[2]2
Снопки – связанные пучки соломы, которыми крыли хату.
[Закрыть], а саму хату – пилами разрезали пополам. Больно и страшно было смотреть, как из–под железных зубьев, точно кровь, брызнули старые опилки, как из живого теплого жилища образовалась развалина – груда изувеченного дерева, как то окно, возле которого отдыхал дедушка, вырвали со стены и, словно покойника, положили на телегу.
Прибитый горем, воспоминаниями, я забился в сад, упал на траву, заплакал, но ухо все равно слышало, как пилы зловеще рвали в клочья мое прошлое, как скрипучие телеги вывозили со двора мои дорогие годы и память…
Дядя Яков, более богатый, взял на вывоз только дедов шалаш. А нам достался латанный зелеными мхами овин с обвисшими бровями и двенадцать с половиной соток огорода.
Когда мы снесли свои пожитки в овин и положили их на ток, мать всхлипнула, а отец сказал, чтобы она слезами не размочила ток, потому что тогда не будет на чем молотить хлеб.
В отцовских серых глазах встрепенулись погрустневшие чертики, в иную пору они у него такие завзятые, что почти в танец просятся.
– Ой, Афанасий, Афанасий, как теперь будем жить? – совсем опустились руки у матери.
– Главное, жена, – не простудить зубы. Потому что чем тогда будем есть? – отец пристально взглянул на ток, который должен был стать нашей кроватью.
– Здесь и душу простудишь, – вздохнула мать и посмотрела на меня. – Мы еще так–сяк перемучаемся. А как ребенок?
– Да он молодцом выходился у нас! Еще если научится руки–ноги мыть, цены ему не сложишь! – похвалил меня отец, который очень любил воду, не разлучался с нею до самых заморозков, а зимой, пугая мерзляков, купался в снегу; поэтому и молодые румянцы не покидали его до семидесяти пяти лет.
– Дует здесь со всех сторон, – осмотрела мать овин.
– Зато сверху воробьи поют, – глянул отец наверх, где в самом деле, беззаботно чирикали, летали живкуны[3]3
Живкун – пичуга.
[Закрыть]. – Не всякий вот такую роскошь имеет.
От этих слов я сразу повеселел, поднял голову ближе к птицам, а мать вздохнула:
– Теперь и мы, и воробьи имеем одно жилье. – Дале она грустно посмотрела на щели между бревнами и украдкой попросила ветры, чтобы они не собирались в нашем жилище, не простудили ни меня, ни отца.
О себе мать не вспомнила, и сколько я ее знаю, она меньше всего беспокоилась о себе и обращалась к тайным силам лишь тогда, когда уж очень въедался в тело или косточки какой–то недуг. Тогда мать говорила ему: «Отойди, болезнь, в трущобу, в болота, в безвестность, потому что мне надо дело делать».
Как она любила работать и в огороде, и в поле, и на лугу, и в лесу и тихо радоваться сделанному! Мать, как праздника, дожидалась посадку, косовицы, жатвы; она любила, чтобы снопы были хорошими, как дети, а полукопны стояли, как парни, – плечо в плечо. И очень любила в жатву после работы лечь на телегу и смотреть на звезды, на Млечный Путь, на Стожары и на тот Воз, что родился из девичьих слезинок.
– Как хорошо в тихом мире, аж слышно, как земля дышит, – вздыхая, говорила сама себе.
– А может, то наша лошадь дышит? – подсмеивался отец, который не раз удивлялся маминым словам.
– Эт, что ты смыслишь, – рукой отметала насмешку и уже прислушивалась к перепелке, которая, испугавшись серпа, перебиралась с детьми в ярину[4]4
Ярина – овощи.
[Закрыть].
– И как ты все слышишь? – удивлялся отец.
– Это, наверное, любовь моя слышит, – иногда в задумчивости говорила она и снова прислушивалась к небу, к земле, к крыльям и к всхлипыванию росы.
Этого внимания ко всему доброму, красивому выделила мать и мне. И я тоже, как праздника, жду того дня, когда гром размораживает сок в деревьях или когда не зельем, а хлебом начинает пахнуть рожь. И как досадно бывает, что такую любовь кое–кто считает пережитком или сантиментами.
Я поныне уверен, что холодный глаз обедняет и мир, и душу даже очень умным людям…
Едва мать закончила разговор с ветрами, как у ворот недовольно подала голос утка, а от ворот кто–то зашипел, цыкнул на нее. Отец изумленно глянул на мать.
– Не тот ли плетется, что засаливаться начал?
– Помолчи! – подняла руку мать. – Еще, гляди, услышит.
– Пусть слышит, скупердяга.
И вот, наступая на собственную тень, возле овина появляется дядька Владимир; до сих пор он, как мог, обходил отца – все боялся, чтобы злыдень не обратился к нему за займом. Если же они случайно встречались, дядя Владимир сразу начинал осторожно уходить в сторону и что–то мямлить о своих неудачах–нуждах, жаловаться на «такое время» и на чертову дороговизну, которая последнюю копейку вытрясает из самой души.
Натоптанный мясом, здоровьем и подозрительностью, наделенный большими челюстями дядюшка степенно поздоровался, осмотрел наши достатки, топорщившиеся на току, и невыразительно сказал:
– Хе.
– Ну да, ну да, – поддержал разговор отец и нацелил на дядюшку насмешку.
– Что? – сбился тот с толку.
– То самое, а чего же, если так, а не иначе, – рассматривая гостя, невинно ответил отец.
Дядюшка напыжился, в его больших выпученных глазах стали злее мелкие человечки: он сам не умел шутить и люто ненавидел чьи–то шутки, потому что все подозревал, что они или так, или сяк въедаются в него.
– Вы насмешки собираете, Афанасий?
– Нет, они почему–то сами родятся во мне, – сразу же ответил отец.
Но и дядюшка не остался в долгу:
– Лучше бы у вас копейка родила!
Отец оценил остроумное слово, и под его усом набежала хитринка:
– Где уж той копейке взяться у бедных, когда она и с богатыми не хочет родниться.
Это дядьке очень понравилось, и он снова сказал:
– Хе.
Отец вознамерился что–то ответить, но мать прошила его недовольным взглядом и поставила посреди овина дубовую, с темными глазами скамейку. Дядька Владимир закрыл эти глаза рукой, подергал и, убедился, что ни скамейка, ни ток не подведут, так расселся, будто у него между коленями должны были поставить маслобойку.
Наступила та неудобная тишина, когда один молчит, а второй не говорит. В такое время лучше всего закурить, но ни дядюшка, ни отец не жгли гордого зелья, которое не поклонилось даже богу. Красноречивый дядюшка еще раз хекнул, а отец поверх его головы хитровато взглянул на мать, – дескать, ты хочешь, чтобы я молчал, вот я послушаю тебя. На устах матери шевельнулся укор мужу и улыбка дядьке:
– Что, Владимир, поделывает ваша Марийка?
– А что ей делать? Все толчется между домом и овином, как Марко Проклятый в аду.
Дядюшка и не заметил, какую сказал правду: его забитый живностью двор и задворок в самом деле походили на филиал ада, где не стихало недорезанное визжание голоднющих свиней. Не знать чего хозяева стояли на том, что свиньи должны сами себя прокормить. Из–за этого их одичавшие вепри как могли обгрызали желоба и двери, подрывались или срывали с петель ворота, хортами перепрыгивали через плетни и люто потрошили чужие огороды или охотились на кур, уток и гусей. Сало никогда не держалось на костях этих пиратов, не набирали они и мяса, зато щетину имели, как проволоку, – сапожники не могли ею нахвалиться.
– Хорошо, что есть возле чего толочься, – гасит улыбку мать.
– И что там доброго? Нет теперь добра ни от солнца, ни от луны, – седлает дядюшка своего неизменного коня. – Вот вы думаете, что у меня свиньи? А это не свиньи – настоящая идолова порода: одни кости и визг зашиты в шкуру. Из–за их визга, поверьте, свет мне немилый стал, потому что и ночью спать не дают.
– А вы хотя бы на ночь их немного подкармливали, – вставляет отец словцо и сразу же прикладывает кулак к губам.
– Вы за чем–то, Владимир, пришли? – не выпускает мать нить разговора.
– Дело к вам есть, Анна, не такое и большое, но дело, – вполголоса говорит дядюшка, а в четверть глаза остро смотрит то на мать, то на отца.
Этот замысловатый взгляд сначала удивляет меня, а потом я тоже прикрываю глаза и так же начинаю смотреть на дядюшку, как он смотрит на родителей. Теперь неспокойные брови и большие выпяченные веки дядюшки увеличиваются, становятся совсем похожими на улиток, выглянувших из своих хаток.
– Какое же у вас дело? – допытывается мать.
– И вот вы получили какое ни есть, но свое наследство, свою пайку, – дядюшка медленно–медленно, как из кубышки червонцы, добывает из себя слова.
От этой речи отец настораживается, а у матери испуганно просыпается надежда: а вдруг дядька Владимир раздобрится и одолжит нам денег на телку? Вот сегодня же, говорили нам, он плакал на людях, что мы остались без хаты.
– Сколько того дедова наследства – один овин с четырьмя ветрами, – вздохнула мать.
Отец пренебрежительно оттопырил подрезанные усы, а мать для него сомкнула губы в оборочку: дескать, и не вздумай выпускать свое слово. От этого на отцовских глазах снова появились чертенята. Но он так сшил губы, словно и не думал их раскрывать до какого–то большого праздника.
– Вот если бы вместо четырех ветров, хоть пара коней или коровенка была. – На широком дядюшкином лице промелькнуло что–то подобное сочувствию. Это еще больше обнадежило мать, которая и в снах грезила своей коровенкой. – Но все в руке божьей.
– И в своих руках, – не выдержал неосмотрительный отец, но перехватил от матери такой косяк, что аж пригнулся, как от грома.
– И это сущая правда, – согласился дядька Владимир и уже в полглаза взглянул на свои черпакообразные руки, которые тоже роскошествовали не в перстнях, а в мозолях. – Так вот я и говорю: получили вы, Ганя, наследство, а небось, и не знаете, что на вашем огороде стоит моя груша…
Эти слова, будто обух, ошеломили мать.
«А что я тебе говорил?» – глазами произнес к ней отец и уже изумленно спросил дядьку Владимира:
– Это же какая ваша груша?
– А у вас их сколько в огороде? – тоже удивился дядюшка, махнул рукой на раскрытые ворота, за которыми стояла развесистая груша–дичка. – Вот эта.
– Не скажете ли, человече, как это на нашей земле выросла ваша груша? – вытрясаются чертята из отцовских глаз, и не злость, а презрение просыпается в них.
– Просто. Вам, Афанасий, может, и невдомек, что эту грушу садил мой дед.
– Осенью или весной?
– Осенью, как теперь помню. Тогда как раз дождило, а мой дед все приговаривал: «Как дождь плачет, то мельница скачет». Я памятливый, Афанасий.
– Почему же вы, памятливый, раньше не вспомнили о груше?
– Не было такой возможности, а сегодня выпала.
– Нашли свой добрый час! – зазвучал негодованием печальный голос матери. – Еще от дедова дома ветер не развеял труху!..
– А какое мне дело до чьей–то трухи? Каждый ищет свой час – это его право! И каждый, скажу вам по правде, добрый только для себя. Мировой пожар есть мировым, а груша моя, – круто ложится упрямство на дядькины челюсти. – Ну, а если вам это дело с грушей не помнится, то, может, позвать свидетелей? Так я за шапку и сразу же к людям.
На ресницах и губах матери задрожала печаль:
– Чего же вы хотите, Владимир, в свой добрый час?
– Срубить дерево.
– А не дождетесь этого! – вскрикнула мать, которая скорее бы себя, а не грушу подставила под топор.
– Чего это не дождусь? – стал злее дядька Владимир. – Что я, у бога теленка съел?
– Я не знаю, что вы ели у бога, а грушу не съедите! – окаменела в гневе мать.
На загоревших щеках дядьки Владимира появились первые медяки румянцев:
– Ишь! Вам, вижу, дармового захотелось? Вы себе прибавляете: как новая власть дает поблажку вам, так и груша останется за вами? Так я тоже имею не купленный характер: скорее отболею, а своего не подарю. Вот как!
– Почему же вы раньше не рубили, не подвергали пытке грушу? – и боль, и негодование закипали в материном голосе. Уже одна мысль, что новое хозяйствование начнется смертью дерева, ужасом наполняло ее вселюбящую душу.
– Раньше не торопился, потому что имел себе аренду от деда Демьяна. У меня все по–честному, у меня каждый гвоздь знает свое место.
– Какая же это была аренда? – еще надеялась иметь, что дядька Владимир не сведет концы с концами.
– Он имел себе груши на компот, а мне за это чинил телеги и, припоминаете, не брал за работу ни копейки.
– Это правда? – глянул отец на опечаленную мать.
– Правда, – вздохнула она.
– Вот видите! – аж подрос дядюшка и глянул вверх на воробья, который мостился залезть под стреху. – Сам бог видит, что я чьего–то не хочу.
– Неужели ваша рука поднимется на плодоносящее дерево, на его цвет и плод? – обратилась мать к совести гостя. – Это же такая красота, когда груша на всю улицу цветет, что прямо – ой!..
Дядькова совесть сказалась еще несколькими копейками румянцев:
– Что с этой красоты, когда она стоит не в твоем дворе? Это даже ненужная красота.
– Что вы говорите?! – ужаснулась мать.
– Что слышите! – На глазах дядьки неожиданно показалась хитринка. – Вот, например, была бы около меня в соседнем дворе красивая женщина. Так что бы я делал? Украдкой присматривался бы к этой красоте, одним глазом следил бы за женой, а другим за соседкой, даже что–то подарить бы ей захотелось. А кому от этого польза? Ни моей работе, ни моему соседу, ни моей жене, ни мне. Вот видите, как невыгодно жить рядом с чьей–то красотой, – победно взглянул скряга на мать. – Так когда скажете рубить грушу?
– Подождите, Владимир, с топором, пусть он немного отдохнет под скамейкой. А мы сделаем по–людски, – рассудил отец. – Я пойду в лес, выкопаю грушу и посажу ее на вашем огороде.
– Хе! – оторопел дядька Владимир и так засовался на скамейке, будто она начала гореть. – А когда же я от нее дождусь груш?
– Как немного меньше будете заботиться о богатстве, а больше о здоровье, так дождетесь.
– Тогда сделаем так, – снова показал дядюшка рукой на грушу. – Я буду с нее забирать груши до тех пор, пока не уродит посаженная вами.
– Ох и алчный вы! Такого крохобора еще свет не видел! – гневно вырвалось у отца, и он так отбросил корпус, что мать сразу загородила собой дядьку Владимира. – Вы, наверное, и солнце взяли бы в аренду!
– Спасибо, спасибо, что испачкали в своем овине, – взвился дядюшка, и его толстые карпообразные губы скривились. – Уважение ваше навеки запомню и когда–то отзовусь на него. На разных норовистых тоже уздечка находится.
– Идите, человече, домой, – простонала мать. – Задурили голову – так идите.
– Не гоните меня – сам пойду, не пересижу вашей скамейки. Так как с грушей?
– Потом, потом поговорите, – уже умоляет гостя уйти, потому что хорошо знает, почему так посветлели отцовы глаза.
Дядька Владимир только теперь пристально взглянул на отца, встревоженно хекнул, на всякий случай сжал кулаки и, как дурной дух, исчез из овина. А мать бросилась к отцу, обхватила его набухшие гневом руки.
– Успокойся, успокойся, Афанасий. Не надо, муж, – приложила голову к его груди и всхлипнула.
Теперь уже отцу пришлось утихомиривать мать и пальцами вытирать ее вторые слезы за этот тяжелый день.
– Жаль, что не выбил немного пены из этого ненасытного утробища, – сказал, когда мама притихла на его груди. – Столько добра иметь – и позариться на единственную бедняцкую грушу!
– Я думала – он пришел что–то дать нам взаймы на новое хозяйство.
– У такого возьмешь взаймы: ему и душа дешевле гроша. И для чего он живет на свете? Неужели только для того, чтобы жрать и гноить деньги в земле?
– Гноить? Неужели Владимир такой денежный?
– Еще спрашиваешь! – уверенно ответил отец. – Он ночью свои деньжищи мерками меряет и все в землю упаковывает.
– Тоже мерками закапывает? – улыбнулась мать, а я засмеялся, потому что вдруг представил, как дядюшка ночью втайне канителится со своими сокровищами.
– Ты чего зубы скалишь? – удивился отец.
– Потому что есть что скалить, – еще больше разбирает меня смех, а из глаз аж вытрясается дядьково серебро–золото.
– Хохочет, аж нос вытанцовывает. И чего?
– Потому что вы такое несусветное скажете о деньгах.
– Почему же несусветное, когда люди так говорят, – примирительно бросил отец.
И в самом деле, у нас люди чьи–то деньги мерили, как картофель: и телегами, и мешками, и мерками, и котлами, и горшками. А о своих большей частью говорили так: дал бог копеечку, а черт дырочку, да и попала божья копеечка в чертову дырочку.
Это еще хорошо, когда прорывалась одна дырочка. Но, к сожалению, теперь у людей было столько наделано дыр, что и мудрый не знал, как оберечь свою безбедность от бедности…
Обсели они и нас, и так обсели, что отец бросался во все стороны, словно рыба в сетке. А это поехал было на заработки в Одессу, и там ему улыбнулась судьба: добрые люди присоветовали переселиться в те Херсонские степи, где целина еще до сих пор ждет пахаря. Отец достаточно верстал степные дороги, находился по селам, от которых только–только отошел голод, и люди нашли ему земельку, что вдовствовала без сеяльщика.
Домой отец приехал не то с радостью, не то с кручиной и привез нам единственный подарок – пучок седого ковыля. Глянула мать на него, вздохнула и загрустила:
– Вот и я там, в степи, сразу поседею, как эти опилки.
– Я тебя и седую не брошу, – утешил отец.
– Зачем нам эта Херсонщина?
– Как зачем? Земля там жирная, как масло. А пшеница в добрый час стоит, как Дунай, а подсолнечники сами отряхивают росу пополам с маслом.
– Мне и наши подсолнечники хороши, – не позарилась мать на далекие богатые земли: она боялась потерять свои бедняцкие заплаты и свое самое большое богатство – ту между дорогами десятину, которая ногами упиралась в широкий липовый тракт, а головой чуть ли не касалась ветряка.
– Как дадут за нее сто рублей золотом, продадим – и в дорогу, – сказал отец вчера и так поразил маму, что она аж приболела.
Отец тоже растревожился, пошел куда–то, а мать, посидев на току, грустно сказала мне:
– Имеем теперь, сынок, аж три кручины, как тот соловей, что свил гнездо низенько. Первая – нет человеческого жилья, вторая – земелька стоит перед торгом, а третья – предстоит неведомая дорога, как горе. Ты также проси отца, чтобы никуда мы не ехали за тридевять земель. Разве давно на этой Херсонщине голод косил людей, как траву? У нас если и не уродит в поле, так лес хоть немного поможет – грибов, или желудя, или кислицу даст… У нас весной даже кладбища цветут. А там и деревца не увидишь – разве что когда–то в сон забредет.
Мне тоже стало страшно: как же можно обойтись без деревьев, без леса, без подснежника, без черешен, без родников, без грибов, земляники? Вот и сейчас вся наша хата пахнет земляникой, в одно окно заглядывает старая груша, а во второе – яблоня, которая всегда напоминает мне бабушку. Разве это не роскошь? Нет, далекая неизведанная степь не радовала душу малого лешего…
– Умывайся, умывайся, дитя, – торопит меня мать, режет горбушку жернового хлеба и наливает из певучего кувшина сизое, еще с вечерними тенями молоко, тоже дышащее земляникой.
Я даже спросонок замечаю, как кручина не отходит от матери. В ее теперь линялых, как перезрелые васильки, глазах аж клубится тоска.
– Чего вы, мама?
– Что тебе, Михайлик? – встрепенулась она и туманом глаз своих взглянула на меня.
– Чего–то вы такие сегодня утром вымотанные. Или, может, приболели?
– Ничего, ничего, это я так себе, – и враз такая печаль налегает на нее, что загрустившие веки начинают дрожать, как у обиженного ребенка.
– Не надо, мамочка, – припадаю к ней.
– Ну да, не надо, – соглашается она, а несколько капелек падают на мои волосы, и мать закрывает их от слезы мозолистой рукой. – Ой, бить бы меня, да некому: плачу, как свечечка. Езжай, Михайлик, езжай и насматривайся на леса, потому что кто знает, увидишь ли их еще…
– Вы не убивайтесь, мама: как–то оно будет, – хочу успокоить ее, но не знаю как.
– Да как–то будет. Только ой как не хочется бросать свои богатства! Ну, как я брошу тебя? – с болью и горькой улыбкой спрашивает у яблони, на которой гнездятся кривобокие, с белым пушком плоды.
Яблоня покачивает ветками, колышет своих деток и молчит.
– А может, мама, вместе упремся на своем и как–то переубедим отца?
– Ох, как тяжело переубеждать его. Целую ночь сегодня ссорились и грустили. Ему тоже нелегко: так помрачнело на душе, аж гремит… Может, в степи свободнее людям, но душа лежит к своему, к своим лугам–берегам. А там, в степи, не то что леса, даже луга, левады не найдешь. Там не услышишь ни соловушки, ни кукушки, ни удода, ни коростеля.
– Ой! А какая же там птица проживает?
– Очень большая – дрофа, против нее гусь такой мелкий, как селезень против гуся. Но дрофа не поет. А что же это за птица, когда есть перья, а нет голоса? Вот у нас как запоет соловей, так и звезды приближаются.
– А отец где?
– Еще и не рассвело, как ушел в леса.
– Зачем?
– То ли прощаться с ними, то ли, дай бог, работу искать. Накричал на мои слезы и ушел.
В нерадостных мыслях я выхожу на хмурый без хаты и шалаша двор, где под зубами Обменной, как невидимый огонек, потрескивает плотный подорожник. Увидев меня, лошадь тряхнула гривой, подняла голову и игриво заржала, ибо что ей с того упрямого подорожника, – в глазах ее тоже стоят искупанные в тумане и птичьим пении леса. Я отворяю ворота, вскакиваю на Обменную и выезжаю на темную от росы дорогу.
Сегодня и солнце за тучами тлело мне, и мысли потемнели мои, а между плечами все шевелился холодок. Даже свою голубую дубраву я встречаю с грустью, хотя в ней, так же, как и раньше, куют кукушки и так же пахнет земляника.
Перед поляной плакучая береза сыпанула слезами, как мать, за ней всхлипнул невидимый родник и снял с себя клубочек тумана.
И почему–то такая тоска охватила меня по этим лесам, по таинственным просекам в них, по растерянным в урочищах пасекам, по тем лужайкам, где так хорошо цветет марьянник и золотарник, и по тем подосиновикам, которые будут ждать тебя после жатвы, что я совсем растревожился, а дальше повернул удивленную Обменную на дорогу, ведущую к якимовской загородке. Может, там днюет Люба, так хоть расскажу ей о своей кручине и заблаговременно прощусь со школьницей, которая, что ни принесет в школу, всем до крошки поделится, – вот уж характер компанейский имеет, как мальчик.
В ограде за жердями еще дремало в тенях, в росе и бабочках высокое разнотравье. Над ним отяжелевшие пчелы перебирали невидимые струны, при его корнях темнела влажная земляника. А ветерок все увивался возле травы, все будил ее и тех ленивых бабочек, которые накрыли крылом крыло и не сокрушаются. Разве же им в степи, на Херсонщину переселяться?
– Михайлик, эй–эй! – прозвучал из лесу голос, а за жердями отозвалось то место, где издавна проживает певучее, как тетка Василина, эхо.
– А кто там отзывается? – громко спрашиваю у дубравы и взглядом изучаю опушку.
– Это я, Михайлик! Эй!
– А кто ты такая? – спрашиваю так, будто не узнаю.
– Вот и не скажу!
– Ты, может, лесная мавка[5]5
Мавка – дух леса, деревьев.
[Закрыть]?
– Нет, я девочка из леса, – серебром названивает знакомый смех.
И вот с кувшином и платком в руках на дорогу выбегает улыбающаяся Люба. Широкая полотняная юбочка колоколом кружит вокруг ее босых ног, а косы качаются, куда им хочется. Закашлявшись, она подбегает к Обменной, снизу вверх смотрит на меня и еще зачем–то спрашивает:
– Ты приехал?
– А ты не видишь?
– Конечно, вижу! – радуются ее карие, с крапинками росы глаза, радуется потрескавшийся узелок губ и ямка под ним. – Ко мне приехал или по дороге?
– По дороге.
– А чего бы не ко мне? Все бы веселее было.
– И к тебе, – соскакиваю с лошади. – А чего ты ногами чечетку выбиваешь?
– Потому что обрадовалась тебе. – Люба об юбку вытирает руку, оглядывается, не видит ли кто–то, и протягивает крохотные, красные от земляники пальцы. – Ну здравствуй.
– Здравствуй. Ты сама здесь?
– Сама–одна. Если бы не эхо за оградой, так не знала бы, что и делать на свете.
– И что же ты делаешь на свете?
– Землянику по лесам собираю, – поправляет фабричную блузку, на которой глазастые пуговицы обиженно надули щечки. – Ее уродило в этом году, как росы!
– Как росы?
– Ну, чуть–чуть меньше.
– Почему не в загородке собираешь?
– Чтобы траву не вытоптать, – по–хозяйски ответила девочка, напялила на голову платок, по которому кто–то так разбросал серпы, что они стали похожими на новолуния.
– А у тебя косы подросли.
– Что мои, – безразлично махнула рукой, но тут же и улыбнулась: – Вот у нашей тетки Василины косы! Аж поют на плечах и прямо золотом стекают, хоть подставляй горсти под них…
– А это правда, что тетка Василина убежала от своего мужа?
– О! Пусти ложь мелкую, как мак, а вырастет величиной с кулак! – вознегодовала Люба. – Есть же такие черноротые! Их очень грызет зависть, что тетка Василина аж в винницком театре пела. Вот они, безголосые, и теткин голос приуменьшают, и дядьку подзуживают. А ты почему так долго не приезжал?
– Некогда было, все с хатой возились, – набиваю себе цену и начинаю путать Обменную, которая уже потихоньку норовит вырваться на волю.
– И как теперь хата?
– Лучше не спрашивай! – пренебрежительно надуваю губы. – Полным–полно набилось скота.
– Такое скажешь! – Люба изумленно повела плечом. – Какой это скот?
– Да сверчков. Так уж все ночи поют, будто к свадьбе готовятся.
– И у нас этой нечисти когда–то было столько, хоть фурой на ярмарку вывози.
– Что же вы сделали?
– Вывели. Отец ходил к одной бабе–шептухе, что в Майданских лесах живет. У нее полон дом разного зелья и корней. Вот эта баба травами и водой уничтожает всякую нечисть и помогает пчеле. А как она шепчет! – Люба пригнулась, расставила руки, прикрыла глаза и по–старушечьи зашептала: – «Приди к воде – воду поздравь: здорова была, вода, и ключи новые – трутовые. Ты, вода, проходила землями, входила в море, очищала пески, и корни, и кремень, так я прошу воды сей для помощи моей».
– Ох, как у тебя это получается, как у настоящей шептухи, – удивился я.
– Потому что несколько раз слышала, как она шепчет. А ты знаешь – наш барсук разжился на деток!
– Э?
– В самом деле.
– И что они делают?
– А что им делать? Лежат себе в норе и попискивают. Хочешь – послушаем.
Мы мимо огорожи побежали в лес, из которого солнце уже понемногу начало выносить росу и тени.
– Только теперь тихонько–тихонько, – приложила девочка палец к губам, и мы на цыпочках начали приближаться к жилью зверушки, от которого тянулась темная цепочка следов. Не доходя до загороди, она раздваивалась: видно, барсук знал, когда созревают плоды, и сейчас не наведывался к яблоням и кислицам.
Люба, обойдя нору, осторожно опустилась на колени, приложила ухо к земле и зашептала:
– Вот здесь слушай – они как раз под нами вылеживаются.
– Откуда ты знаешь?
– Ухо разыскало место… О, слышишь?
– Нет.
– Крепче прижимайся к земле. Слышишь?
– Не знаю.
Земля отзывалась ко мне не то шорохом, не то попискиванием, и все равно страх как интересно было прислушиваться к ее тайне, к чьей–то жизни, привороженной не солнцем, а землей.
А видит ли барсук когда–нибудь солнце, или – рождается во тьме и гибнет в темноте? Вот кому никак не позавидуешь.
– Наш дядька Сергей еще прошлой осенью хотел убить барсука на жир, а отец не дали, и дядька за это назвал его размазней. А что с того жира, если бы уже не было на свете ни барсука, ни его деток? Правду говорю, Михайлик?
– Правду… Ваш дядька тоже, как барсук, прятался в норах от революции.
– Он и теперь не очень любит днем выходить на люди. Вот если бы ты до позднего вечера остался здесь, мы бы увидели всех барсучат. Они такие смешные. Повылазят из норы и принюхиваются ко всему, даже к лунным пятнам, будто они пахнут.
На старой, обросшей скрипицей[6]6
Скрипица – условно–съедобный гриб рода Млечник; в простонародье он называется молочай, скрипун, скрипуха.
[Закрыть] березе зацокала белка. Люба подняла голову вверх, разыскала интересного зверька, улыбнулась и сказала:
– Здравствуй, белочка.
Зверек шевельнул ушами и, глядя на нее, спустился ниже.
Но на полянке, качая на спине лодочки ушей, появился заяц–подросток. Белка молнией метнулась на другой дерево, а заяц торчком бросился в кусты.
– Свой своего испугался, – сильно улыбнулась девочка и уже сказала чьими–то словами: – Нет согласия ни между людьми, ни между звериной.
Потом мы побежали к той кислице, где и теперь глупенькая трясогузка снесла яйца. Она, как и в прошлом году, выстроила такое мелкое гнездышко, что должна была и днем и ночью держать хвост на воздухе. А может, ей так приятно охлаждаться? Пичужка увидела нас, вросла в гнездо, но не поднялась с него.