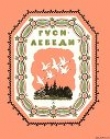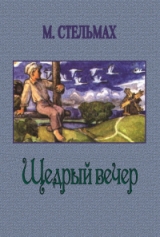
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Дядька Себастьян побледнел и обалдело взглянул на тетку Марину:
– Неужели это правда?
– Да правда, чего же…
– Вот какой выискался еще элемент! Наверное, у нее был бандитский арсенал. Повесил я пломбу на ее двери и к вам: как ни есть – это же дальняя ваша родня.
– Тетка Марина, где вы этого бесовского оружия набрали? – с сожалением спросил дядька Себастьян.
– Бандиты, кто же иначе, имели у нее свой тайник! – держался своего милиционер.
Тетка Марина больно повела плечом, легонько ахнула и презрительно взглянула на него:
– Пломба ты, да и больше ничего. Вот ты над этим оружием только сейчас затрусил, а я всю войну тряслась. Вот же, Себастьян, дорогонький, как убили на войне сына, так мой Иван с горя начал, где мог, воровать оружие. Мысль ему, старому, такая пришла в голову: если разворовать ружья, пулеметы и другую нечисть, что стреляет, то не будет чем воевать и меньше погибнет людей на войне. Вот и воровал человек, что мог, воровал и у немцев, и у деникинцев, и у петлюровцев. На этом деле попался и пошел спать в могилу. А Хвирточка уже меня к бандитам приписывает и тюрьмой и пломбой пугает. Так имеет он совесть или у него ее куры склевали?
После этой речи дядька Себастьян распогодился, а милиционер, что все время то возмущался, то недоверчиво хмыкал, то кусал губы, – зашипел, заклекотал, захрипел, протер рукой по глазам и сказал:
– Правильно. Ой, не было этим утром у меня ни совести, ни клепки в голове! – Он пригнулся к тетке Марине, поцеловал ее в привядшую щеку, а потом загрустил: – Оно–то так. А что теперь с чертовыми этими пулеметами делать? Начнут нас таскать по инстанциям, и начнут сомневаться, и допытываться, и протоколы писать и всякую всячину. Вот попали в переплет на самое рождество. Теперь и рюмки не выпьешь, а скачи в уезд на сломанную голову.
– Василий, а не лучше ли будет, чтобы Яков без лишних хлопот забрал себе эти пулеметы – и на огонь? – доверчиво спросила тетка Марина. – Он мне за них сделает и сковородник, и ухваты, и лопату, потому что теперь так туго с железом…
– Эт, сельская наивность! – безнадежно махнул рукой милиционер и задумчиво обратился к дяде Себастьяну: – И какую здесь придумать резолюцию?..
Раздел девятый
Оно, конечно, ерунда, писать пьесы в четвертом классе, но что сделаешь, когда тебя так тянет к этому писанию? Уже вся школа подсмеивается над моим зудом, уже ко мне прицепилось несколько обидных прозвищ, а кое–кто из одноклассников втайне подшучивает над моей писаниной – рисует на ней и чертики, и дули. Обидно и больно становится от этого, но я бью бедой об землю и держусь своего. Теперь уже, идя на перерыв, я не оставляю свои злосчастные тетради под партой, а засовываю в карман. Что и говорить, неудобство большое, особенно когда приходится кувыркаться, но искусство требует жертв.
А вечерами и в погоду, и в ненастье чешу в хату–читальню, что открылась месяца с два тому. Здесь я перечитываю какие ни есть пьесы, даже пьесы–суды над сорняками, засухой и бандитами.
Больше же всего мне нравятся те драмы и трагедии, в которых много стреляют. Об этом хорошо знает наш заведующий хаты–читальни, поэтому он иногда мое появление встречает завзятым восклицанием:
– Михаил, привез пьесу со стрельбой!
– И много ее? – замираю от радости.
– Во всех сценах и немного вне сцен там из пушек бьют!
– Это пьеса! – радуюсь я.
А заведующий собирает с полусотни морщин вокруг глаз и смеется – такой славный человек случился. Иногда, когда расходятся люди, он просит, чтобы я прочитал ему свое, из пьесы, над прочитанным долго думает, теребит кончик носа и сожалеет, что не пишу стихов, – он бы их поместил в стенгазете, которую тогда сходилось читать все село. Но я упрямо держусь драматургии, потому что, видать, такова моя судьба.
Вчера, то бледнея, то краснея, я сдал свою третью пьесу Насте Васильевне. Она бережно взяла мои тетради, полистала верхнюю и спросила:
– А стрельба в них есть?
– Есть, и даже много!
– Вот и хорошо, – одобрительно качнула головой Настя Васильевна, а я немного подрос: хоть что–нибудь хорошо есть в моей писанине…
Сейчас я лежу ничком на печи, передо мной мигает заправленный трофейным бензином ночник, а в глазах мерцают буквы, – сегодня читается и не читается мне, мысли все кружат вокруг написанного: что о нем скажет учительница? И имею я сомнений и терзаний больше, чем надо. А за окнами кряхтит мороз и посвистывает ветер, он трогает примороженные ветки груши и добывает из них то стон, то серебряный перезвон. Вот бы и грушу можно было бы вставить в пьесу, и пулеметчиков возле нее, а в ветки груши врисовать молодую луну, которой сейчас нет. За своими мыслями я не услышал, когда из школы вернулся отец.
– Сегодня наш отец с какого–то дива аж гудит внутри, – несет ему улыбку мать.
На эту речь отец бросил одним глазом на меня, вторым на мать:
– Скоро и ты загудишь голубкой, когда начнешь собираться в тиятр.
От одного слова о театре я навострил уши, прирос к печи, а взглядом впился в отцово лицо: радость или насмешка покажутся на нем?
– Снова какой–то тиятр приезжает к нам? – прядя пряжу, допытывается мать.
– Не приезжает, а вон весь тиятр вылеживается на печи, – отец снова глянул на меня. – Вот же написало оно какую–то пьесу, и ее поставят в школе. Вот будет кумедия!
Я еще больше врастаю в печь, радость и страх уцепились в мою душу, а в это время за меня заступается мать:
– И чего бы я вот подсмеивалась над своим ребенком, когда оно себе что–то пишет каракулями.
– Что ты понимаешь! Сама учительница сказала, что твой сорванец писателем становится. И кто нам тогда корову будет пасти?
– Ты хоть толком, без насмешек скажи: что о нем учительница говорила?
– Вот же и говорила: школа поставит его пьесу, цена билета будет пять копеек, а пустят ли нас с тобой бесплатно – постеснялся спросить. Как, сынок, пустят родителей твоих?
– Как немного придержите свои насмешки, так, может, и пустят, – говорю осторожно, потому что кто же знает, как оно обернется дело.
Мать враз накрыла отца мокрой дерюгой:
– Теперь, кажется, и у тебя, и у Николая языки одинаковое мелют.
– Уже и ты не веришь мужу, а он принес тебе чистейшую правду, даже слова не замутил.
– Отец, и в самом деле учительница сказала, что… той, поставят? – зазвучал надеждой мой голос.
– Да, несомненно, поставят. Сегодня все учителя прочитали твою мазню, что–то подрезали в ней, а что–то дописали и сошлись на том, что нашему селу никак нельзя без своего писателя. Чего я с тобой до сих пор, как с простым, говорил? Вот уж извини, сынок, – дружески и насмешливо посмотрел на меня отец и за волосы дернул. – Пустишь нас с мамой в тиятры?
– Ой папочка!.. – Невероятные ожидания, невероятные надежды залетают в мою душу и ведут к тому дню, о котором и радостно и страшно подумать.
– Так чего же так застеснялся? – снова теребит отец меня за волосы. – Может, и в самом деле из нас что–то будет?
А в это время на дворе откликнулся Рябко, задребезжал засов на калитке, отец вышел в овин и скоро вернулся с дядей Николаем, который был одет в длинную, на вырост, кирею. Мужчина отряхнулся, обмел с сапог снег, глянул на меня, спросил, пропустят ли и его в театр.
– О, и вы знаете, – скривился я.
– Все село знает. У нас с кашлем и пьесой не скроешься. Вот же и пришел к тебе: не выставил ли там на смех людям дядьку Николая, ибо что тогда скажет Лукерья?
Мы все начинаем смеяться, а во мне просыпается сожаление: надо было бы вписать в пьесу что–то из дядьковых смешных историй. Вот он расправил свои гетманские усищи и уже серьезно спрашивает отца:
– Афанасий, хочешь на щедрый вечер раздобыть свеженькой рыбы?
– Как это – раздобыть? – недоверчиво косится на него отец. – В воде или в магазине?
– На дармовщину! В воде из–подо льда.
– Чего же об этой дармовщине Владимиру не сказал? – подсмеивается отец.
– Да он же меня за кур греховодником обзывает, а сам такой имеет грешный глаз, что всю рыбу перепугает – на дно пойдет. Вот только что встретился с одним рыбаком, так он сказал: в Щедровой теперь ловят рыбу целыми мешками. Надо и нам мотнуться.
– Сколько же берешь с собой мешков?
– Четыре и сумку про запас, – не моргнув глазом, ответил дядька Николай.
Мать затряслась от хохота:
– Чего же так мало?
– Жалко все мешки марать рыбой. Что в мешки не поместится – на сани бросим, – даже не улыбнется дядька Николай. – Так поедем, Афанасий?
– Можно и поехать, – согласился отец. – Готовь, жена, мешки!
– И на рыбу, и на вьюнов, – прибавляет дядька Николай. – Я знаю такой закоулок, где всегда зимуют вьюны, собьются в клубки и ждут тепла. Когда–то наловил их чуть ли не полный мешок, привез мерзлых домой, бросил под скамейку, а сам лег спать. Просыпаюсь от невменяемого вопля. Смотрю: залезла моя Лукерья на лежанку прямо с сапогами, в руках держит ночник и кричит не своим голосом.
«Что там у тебя?»
«Ой, посмотри на пол, – аж трясется она, – кто–то ужей полон дом напустил!»
Глянул, а по полу мои вьюны ползают, – чисто все разморозились. Вынужден был я их во второй раз ловить и нести к соседям, потому что Лукерья со страха и смотреть не захотела на них, и дома ночевать побоялась. Из–за этих вьюнов чуть любовь не потерял.
Мы все смеемся, а дядька Николай вплетает руку в свои гетманские усы, выдумывая еще какую–то побасенку.
– Отец, возьмите и меня в Щедровую! – прошусь, потому что уже само слово «Щедровая» звучит мне сказкой.
– Обойдемся без тебя, – отмахнулся отец рукой.
– Возьмите, папочка.
– Там надо целый день пробыть на морозе, а он и в косточки твои влезет.
– А на катке я же бываю по целым дням!
Отец переглянулся с мамой, покачал головой, взглянул на дядю Николая:
– Что нам делать с ним? Может, возьмем, потому что оно же такое неотвязное.
– Пусть приучается ко всякому делу.
– Беги же возьми свежей соломы на стельки! – крикнул отец.
Меня с печи как ветром сдуло – босиком вскакиваю в сапоги, вылетаю в овин, ощупью ищу пшеничную солому, а в это время снова кто–то подходит к калитке и дергает веревочку, привязанную к деревянному засову.
– А кто там?! – кричу баском.
– Это я, Михайлик, – слышу знакомый голос. – Пустишь в хату?
– Ой, заходите, дядя Себастьян! – Я подбегаю к калитке, отворяю ее и между столбами овина веду председателя комбеда в хату.
– Вот кто нам о международности и внутренности расскажет! – весело здоровается с гостем дядька Николай.
– О ваших внутренностях вам врач расскажет, – смеется дядька Себастьян.
– Так я на одни международности согласен. Как там Антанта? Шевелит копытами?
– Я ж вам вчера об этом рассказывал. Вы, слышал, уже к моему и свое прибавили.
– А как же без прироста обойтись? – шельмовато удивляется дядька Николай. – На свиньях прирастает, на скоте тоже, так и на языке должно, потому что иначе износится он, как сатиновая заплата.
– Ваш едва ли износится – не те кузнецы его ковали, – дядька Себастьян пристально взглянул на отца и сказал: – А мы тебе, Афанасий, по твоему характеру нашли молодецкую службу.
– Кто это – мы? – настораживается отец.
– Незаможники и председатель уездисполкома. Хотим, чтобы ты стал лесником.
– Оно и меня годилось бы спросить, хочу ли я этого, – насупились брови отца.
– Если и не хочешь, то должен, мужик! – говорит дядька Себастьян.
– Чего же это должен?
– Разве не видишь, как ложится под топор наш лес? Каждому теперь воля, а лесам – недоля. Лесники же из лесничества примирились с лесокрадством и только хлещут самогон. Вот мы и решили поставить охранников непьющих и энергичных. Как ты?
– Не хочу.
– Боишься? – подколол отца дядька Себастьян.
– Ни лесокрадского топора, ни обреза я не боюсь! – сверкнули упрямством глаза отца. – Опасаюсь родни, которая начнет тебя клясть до седьмого колена, и тех бумажек, которые посыплются к вам на меня.
– А знаешь ли, сколько на меня тех доносов сыплется?! В печи можно было бы протопить.
– Если тебе это нравится, – топи, а я свою печь не хочу паскудством обогревать.
– Если так будем думать, то через несколько лет придется разваливать печи: нечем их будет топить. Погибнет весь лес!
– Ой! – загрустила мать.
– Общиной просим, берись за это дело.
– Подводите вы меня под беду, как дерево под топор, – вздохнул отец…
И недаром вздохнул. Немало горя принес ему и нам этот зеленый певучий лес, в который гадюкой вползла загребущая жадность…
– Так что тебе, Афанасий, надо для начала? – повеселел дядька Себастьян.
– С десяток фур и десяток энтузиастов, которые кулаков не жалуют.
– Зачем так много?
– Сразу же вывезу в сельсовет все вырубленное моими родственниками. Начну со своего брата.
– Тебе еще этой беды надо, – угасла мать. – Зачем вот с Яковом заедаться?
– Пусть не забывает, что у него есть брат, – отрезал отец. – Когда заберу лес у брата, в родных, то все увидят: никому не спущу.
– Тогда и начинай с Якова: обложился он деревом, как оградой, – согласился дядька Себастьян и глянул на печь. – Михаил, завтра поедем с тобой в Майдан – Треповский.
– Завтра? – аж не верится мне.
– Ну да. Одевайся теплее.
– А он завтра собирался в Щедрову ловить рыбу.
– Нет, отец, я лучше поеду в Майдан – Треповский. Там книжки выдадут!
– Как хочешь, дело хозяйское, – сказал отец.
Я аж загарцевал на печи; если везет, так везет! И все неудачи, и все донимающие прозвища, и все чертики и дули отлетают от меня, как чешуя на ветру.
Еще на рассвете мама наварила гречневых вареников, начиненных грушами–дичками, тертой фасолью, маком и калиной. А величиной были эти вареники, как ущербленная луна, – одного хватало на молотильщика. Вбросил я три вареника в сумку, выслушал все мамины предостережения на дорогу и быстро побежал к дяде Себастьяну. А он уже запряг коня в легкокрылые санки и ждал меня.
– Чем это ты напаковал сумку?
– Варениками – и для вас, и для меня. Попробуйте.
– А ты пробовал?
– Еще нет.
– Так, может, начнешь хорошее дело с вареников? В хату пойдем или на улице?
– На улице, отец говорят, вкуснее. А где ваш аист?
– Отвез его мастеру. Скоро дождемся живых аистов.
– Не так–то и скоро.
– Да уж цыган продал кожух, – смеется дядька Себастьян и нахваливает вареники. Он свой держит в одной руке, а я обеими, он подбирается уже к рожку, а я к середине, и так мне приятно, что дяде Себастьяну нравятся наши вареники, и так мне весело говорить с ним, а мыслями прибиваться к тому неизвестному селу, где наилучшая библиотека на весь уезд.
Съев вареник, я падаю в натоптанные сеном санки, дядька Себастьян устраивается на передке, и вот уже конь выносит нас в широкий заснеженный мир, где в изморози серебристо туманятся вербы, где ветряные мельницы остужают солнце, а река покачивает переспевшие кисти того камыша, в котором до сих пор живут чьи–то печальные голоса.
Мы проскакиваем соседнее село, где живет дед Корней, и подъезжаем к страшному болоту, что и зимой дышит гнилым туманом. В этом болоте еще во времена татарских набегов прятались люди.
– Михайлик, хочешь увидеть чудо? – оборачивается ко мне дядька Себастьян и играет заснеженными ресницами.
– Хочу!
– Тогда возьмем влево.
Наугад по бездорожью, по мерзлым купенам запрыгали санки, и мы скоро подъехали к молодой, затканной изморозью рощи. Дядька Себастьян останавливает коня, соскакивает с саней и радостно поднимает голову вверх. Над нами в самом деле кто–то развесил чудо: каждое прихваченное инеем деревцо налилось солнцем и хвасталось красными кистями. Я еще никогда не видел столько, как теперь, калины и как завороженный осматривал и прибитые морозом кисти, нависающие прямо над головой, и тени, на которых тоже выразительно, как рисованные, выделялись грозди.
– Хорошо, Михайлик? – заговорщически жмурится на меня дядька Себастьян.
– Ой, хорошо как! – щипаю несколько промерзших кистей калины. – И где ее взялось столько?
– Где? – призадумался, помрачнел дядька Себастьян. – Старые люди говорят, что когда–то и здесь были непроходимые болота. А когда однажды ордынцы напали на село, сюда бросилась убегать свадьба и все девушки, которые были на ней. Ордынцы за ними, потому что они красотой торговали аж по Царьградах, а девушки – в тину, ну и потонули в ней. Со временем на этом месте выросла калиновая роща. Летом, люди говорят, это место до сих пор стонет–отзывается девичьими голосами.
Вдруг мы вздрогнули: кто–то, напевая, шел между кустами калины. Скоро появился мосластый кривобокий конь, за ним частил невысокий человечек с большим мешком за плечами; его серое плоское лицо было похоже на торчком поставленный полумисок со студнем. Он с опаской посмотрел на нас, поморгал редкими ресницами и спросил у дядьки Себастьяна:
– И вы, значится, приехали ломать калину?
– А вы ее ломаете?
– Ну да, ну да, а то что делать зимой? Рыбу глушить запрещают, так вынужден был перейти на калину.
– Простуду лечите ею?
– Нет, я ее, голубку, в город вожу, продавать, значится. Городские имеют глупые деньги – даже калину покупают, любуются ею, вроде сроду не видели.
Дядька Себастьян заглянул в мешок плосколицего, вытянул искалеченную кисть калины, рассердился, сразу перешел на «ты»:
– Кто тебя научил ломать руки деревцам?
– Руки? – удивился, хихикнул плосколицый и посмотрел на дядю Себастьяна, как на чудака.
– Ты не хихикай, ум недозрелый; потому что положу на санки и в уезд отвезу!
– Большой крик за малый пшик! – обижено заметались узкие, присосанные губы. – За что мне такая канитель?
– Не калечь дерево! Оно семь лет после твоих рук будет слезой плакать. Нож имеешь?
– Имею.
– Сейчас же зачисти все изломы, не будь ордынцем среди такой красоты!
– А мне, значится, что? Если надо зачистить, так зачищу. Вы в начальстве ходите?
– Разве же не видно?!
– Да видно. С Литина или из Винницы?
– Из Винницы.
– Значится, есть такой приказ, – удивляется мужчина. – Дождалась и калина приказа. Вот я сейчас же зачищу свои следы. – Он вынул нож и исчез за теми деревцами, которые до сих пор за их красоту калечат люди…
Между роскошными красными кистями выезжаем на луг, дальше на дорогу – и вперед, вперед, а всполошенные мысли ширяют сквозь тьму веков, и в моих глазах стоят те перехваченные ордынскими огнями девушки, из которых проросла калина. Вот я даже услышал, как застонала земля. Осмотрелся. Нет, это гудела над рекой небольшая мельница, тяжелое обмерзшее колесо лихорадило ее, а она делала свое дело, как человек, и стонала, как человек.
– Теперь, Михайлик, уже недалеко. Не замерз?
– Не замерз.
– Все равно немного пробежимся.
И мы бежали взапуски с дядей Себастьяном, он перехватывал меня, подбрасывал вверх и ловил, как мяч, а умный конь искоса посматривал улыбающимся глазом и сам догонял нас.
Вот и Майдан – Треповский, и река Гарь, и крутояры, и глинистые красные холмы, обросшие хатами–белянками. Мы въезжаем на школьный двор, где яснеет большими окнами двухэтажная, красного кирпича школа. Во дворе сейчас тихо (школьнике разъехались по домам), и только голуби воркуют на тепло.
С боязнью и радостью я поднимаюсь протертыми металлическими ступенями на второй этаж. Вот дядька Себастьян останавливается у высоких дверей и осторожно стучит кулаком.
– Заходите, заходите!
Мы переступаем порог просторной комнаты, здороваемся с немолодым в очках мужчиной, седые волосы которого легли на плечи. Дядька Себастьян идет к нему, а я, как заказанный, прирос к полу: против меня и по правую сторону, и налево стоят огромные дубовые шкафы, а из них сквозь стекло видны тысячи книг. Их, небось, и на десяти телегах не вместил бы! Сперва я не поверил, что столько можно собрать книжек в одном месте. Куда там поповской библиотеке! Есть же такие счастливцы, что имеют доступ к этому добру. Пока я вбираю в глаза корешки книг, ко мне подходят и дядька Себастьян, и заведующий библиотекой.
– Это, Михайлик, учитель Дмитрий Анисимович, – знакомит меня председатель комбеда.
– Спасибо, – невпопад говорю я и так выминаю шапку в руках, что с нее летит шерсть.
Дмитрий Анисимович только переглянулся с дядей Себастьяном и кротко заговорил ко мне:
– Наша библиотека, Михаил, выдает на дом только по две книги. Какие тебе нужны? Или выберешь сам?
– Я сам, – прикидываю, что надо выбрать две самые толстые книги. Дмитрий Анисимович растворяет дверцы шкафов, а я рыщу глазами по толстым книгам. Вот, кажется, можно взять эту в черном переплете.
– Выпишите, если можно, ее.
Дмитрий Анисимович, улыбаясь, подает мне пьесы Шекспира и говорит:
– Тебе еще рановато браться за эту книгу, хотя ее написал лучший драматург мира.
– Чего рановато? – бормочу себе под нос. – Я очень люблю читать пьесы.
– Оно и хорошо; у меня таких читателей немного. Но эти пьесы будешь учить лет через шесть–семь.
– А в них стрельба есть?
– Что–что? – становятся круглыми серые глаза учителя.
– Спрашиваю, или бьются, или стреляют в этих пьесах?
– Ага! – понял меня наконец Дмитрий Анисимович и пустил улыбку по усам и в очки. – Бьются здесь не на жизнь, а насмерть, но не стреляют, – тогда еще как будто и пороха не было.
– Тогда я возьму ее, – люблю, когда бьются, – неловко оправдываюсь перед учителем.
– Ну, если так настаиваешь, бери! – вручает мне толстенную книгу Дмитрий Анисимович. – Только одно условие: потом расскажешь, о чем здесь пишется.
– Согласен.
– Какую же тебе еще подобрать? Не эту ли? – показал учитель на одну из самых толстых книг в полотняных переплетах. По всему видно было, что он сразу понял мой вкус.
– Можно и эту, – беру в руки произведения Мамина – Сибиряка. Дядька Себастьян тоже выбрал себе книги, правда, не такие толстые, как я. Мы поблагодарили Дмитрия Анисимовича, а он на прощание и говорит;
– Ты же как закончишь свою школу, приезжай учиться к нам. Я дам тебе все книги прочитать.
– Спасибо, спасибо, Дмитрий Анисимович, – кланяюсь старому учителю, а он кладет мне на голову пропахшую книгами руку и мигает веками…
Как радостно было теперь упасть в сани! Книга приятно холодила пальцы, и короли, и рыцари выходили из нее, и бились, и падали тут, в снегах, где пахла примерзшая калина, где ветряные мельницы бились с полумглой и призывали к себе добрых людей молотить на хлеб.
– Михайлик, глаза попортишь! – кричал на меня дядька Себастьян. Я улыбался ему, закрывал книгу, но через минутку снова разворачивал ее, чтобы хоть взглянуть на чудовищ, зачем–то закованных в железо.
И изморозью, и дымами, и разбросанными огоньками, и звездами встречает нас заснеженное село. Вот у дороги заскрипел журавль, а за дорогой отозвалась щедривка:
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
Добрим людям на весь вечiр.
– Спасибо, деточки, что защедровали нашей хате и нам… – шелестит женский голос.
А вон у ставка запели сами девушки:
Щедрик, щедрик, щедрiвочка,
Прилетiла ластiвочка…
Я сразу узнаю Любин голос, привстаю на санях и кричу через ставок:
– Люба, не простуди голос!
От ставка слышится сначала смех, потом кто–то отделяется от компании и изо всех сил летит к нам.
– Михайлик, пирожок хочешь? – высмеивается Люба, падает на сани и подает мне выщедрованный пирожок.
– А я тебе калины привез, бери.
– Дядя Себастьян, а вы не хотите пирожок? Он еще теплый.
– Если теплый, то что же… – поворачивается к нам, смешно разводит руками дядька Себастьян. А Люба уже весело стрекочет мне:
– Михайлик, а дядька Николай и твой отец уже вернулись домой!
– И что–то поймали?
– Несколько щук и целую сумку вьюнов. Дядька Николай говорил, что они тащили–тащили и никак не могли вытащить вдвоем одну щуку, – такая большая попалась. Глаза у нее были, как горшочки, а чешуя – как серебряные рубли.
И нам всем почему–то становится даже очень смешно. Тем временем нас настигают легонькие санки, на передке которых сидит молодой коренастый мужичонка, за ним покачивается и тихонько что–то напевает ребенку молодица. Чем–то знакомым–знакомым повеяло на меня. Молодица оборачивается на наш смех, и я, веря и не веря, вскрикиваю:
– Марьяна!
– Ой! Михайлик! – взволнованно крикнула молодица и зачем–то переспросила: – Это ты?
– Конечно, Марьяна! – соскакиваю с саней, приближаюсь к ней и вижу перед собой большие–большие глаза, над которыми испуганно бьются венчики ресниц.
– Ой! Михайлик! Как ты вырос! – Марьяна одной рукой держит ребенка, а другой обнимает меня. – А мы едем к вам на щедрый вечер.
– В самом деле?
– В самом деле. Добрый вечер, Люба! Добрый вечер, дядя Себастьян! Вы до сих пор председательствуете?
– Да председательствую.
– И мой тоже. Имею теперь хлопоты на свою голову.
Дядька Себастьян наклонился к уху Марьяны:
– А он и сейчас тебя звездочкой зовет или, председательствуя, забыл?
– Ну… такое скажете, – застеснялась Марьяна.
– Говори, говори.
– Зовет же… когда надо подластиться, – влюбленно смотрит на своего мужа, а тот лишь ведет могучим плечом и расцветает в доброй спокойной улыбке исполина.
– Тетушка, а у вас девочка или мальчик нашелся? – уже припадает к ребенку Люба и что–то гукает ему.
– Мальчик… – и так хорошо сказала, наклоняясь к нему: – Растет себе дитя!
– Едем же к нам! – приглашаю и гостей, и дядьку Себастьяна, и Любу. – У нас и рыба свежая есть!
– Если свежая, то наверное, придется поехать, – весело жмурится дядька Себастьян и вожжами разбивает на коне изморозь.
И снова запели санки, и спросонок вздохнул, запел лед на ставке, и загукало возле груди матери дитя. А над нами мерцают и не падают звезды, а впереди нас выхватываются и выхватываются тихие огоньки, а возле них отзываются голоса щедрующих:
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
Добрим людям на весь вечiр…
И хорошо, и удивительно, и радостно становится мне, малому, в этом мире, где есть звезды, и добрые люди, и тихие огоньки, и щедрые вечера…
Киев – Ирпень – Дяковцы
1966
© Овсянникова Л. Б., перевод с украинского, 2014