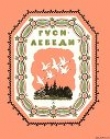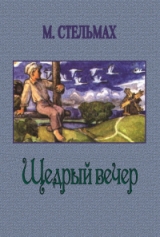
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Раздел третий
Под вечер подбилась рожь, в полусне седеет ветряк. На его молчаливых изработавшихся крыльях зависло облачко, недалеко от них загрустил перепел: «Спать пойдем, спать пойдем…»
О, как, наверно, хочется ветряку сбросить с себя, с полей дремоту, зачерпнуть крыльями небо, отозваться человеческими голосами, зазвенеть переработанным за лето зерном, а пролиться мукой.
Но прижатые тормоза и пауза перед новым урожаем сковали силу брата ветров, и уже на его крыле успел умоститься ленивый паук. Где ты, поганец, будешь завтра–послезавтра, когда люди снова привезут на ветряк зерно и слово?..
Вокруг пестреют поля. В ржах заблудилась дорога, нахохлились вербы над ней, за ними проклевываются звезды. И тишина, тишина вокруг, потому что новолуние над степями, потому что ржаной сон в степях.
Мы, будто во сне, едем с отцом на стависко[9]9
Стависко – место, где когда–то был ставок; дно бывшего ставка (возможно, заливные луга).
[Закрыть]. Роса и колосья пощипывают мне ноги, а отец еле–еле мурлычет песню так, что и не разберешь, то ли колеса, то ли его голос поскрипывает, а я все думаю о своем завтрашнем дне. Каким он будет для меня?
Подле самого ветряка, раздвигая рожь и синий сон над нею, выходит вся в темном женская фигура, и напевно встрепенулась тишина:
– Добрый вечер вам.
– И тебе вечер добрый, Одарка, – степенно отвечает отец, останавливает Обменную. – Поздновато возвращаешься с поля.
– После чужой работы ходила смотреть на свою рожь, – подходит женщина к самой телеге.
– И как она?
– Моя в долинке – еще зеленая.
– А мы свою завтра начнем жать.
«Спать пойдем, спать пойдем…»
– И жнеца молодого взяли с собой? – вдова смотрит на меня и сильно–сильно улыбается.
– Ну и жнеца взяли с собой.
И так мне славно становится на душе, что я уже не какой–то там пастушок, а стою жнецом. И вместе с тем просыпается опасение: сумею ли завтра работу делать? Правда, я не раз для Обменной жал бурьян, но то сорняк – вода. А вот смогу ли рожь жать?
«Спать пойдем, спать пойдем…»
– А свой серп имеешь, дитя? – вдова аж наклоняет ко мне большие грустные глаза, вокруг которых преждевременными морщинами залегли нужда и горе.
– Имею, тетушка. Мама подарила мне свой.
– Помоги же тебе судьба быть хорошим жнецом, и косарем, и пахарем, и сеяльщиком, – ласково смотрит на меня тетка Одарка и вздыхает, потому что у нее война забрала ее косаря и пахаря.
– Спасибо вам.
«Спать пойдем, спать пойдем…»
– Где ты, перепелка, будешь завтра спать, когда придут жнецы? – обращается тетка Одарка к ржи и снова вздыхает – жалеет бедную пичужку.
– Ты тоже, как перепелка, живешь, – с печалью и сочувствием говорит отец. – Как дети?
– Растут потихоньку. Старшенький уже в школу собирается. Само где–то букварь достало, просыпается с ним и засыпает с ним. Вот вынуждена была перешить малому отцовскую одежду. – И вдова подняла руку к глазам.
– Не плач, Одарка. Бей бедой об землю, как сапожник голенищем об лавку.
– Я уже, Афанасий, и не плачу. Так наплакалась за войну, что, наверное, и глаз разрежь, так слезы не добудешь.
– Жизнь… – задумчиво говорит отец свое любимое слово.
– Вот, послушайте, ветряная мельница плачет. Может, и ее какая–то печаль или терзание съедает?
Мы все притихли и услышали, как тихонько–тихонько грустили крылья ветряной мельницы. Тетка Одарка положила свою очерствелую от работы руку мне на голову.
– Ты же только осторожненько жни – серп не игрушка… Ох, еще рановато тебе орудовать им.
– Вот и не рано. Сами увидите, – защищаюсь я.
Тетка Одарка улыбнулась, поклонилась отцу:
– Бывайте здоровы.
– Будь здорова, женщина добрая.
«Спать пойдем, спать пойдем…»
– Как распелся, – кивнул отец головой на невидимую птичку, еще какую–то минутку прислушался к крыльям ветряной мельницы и дернул вожжи. Потихоньку заскрипели колеса, и потревоженная пыль запахла молодой рожью.
Обойдя хуторок–однохатку, мы оказались на скошенных лугах, где темнели стожки сена. Здесь уже на далекую песню перепела отозвался коростель. Вот и наш покосный луг; он прислоняется к речушке, за которой начинаются луга соседнего села, того, что в войну было сожжено дотла. За речушкой горит огонь, возле него виднеется одинокая фигура ночлежника.
– Слышишь, как запахло кулешом? – говорит отец, путая Обменную. – Ты, Михайлик, где хочешь спать: на телеге или под стожком?
– Где скажете.
– Я ж тебе, как жнецу, даю выбор.
– Лучше кладите на стожок.
– Чтобы свысока падать, а низко охать? Кто же тогда завтра будет нам рожь жать?
– Тогда кладите под стожок.
– Тебе сена надергать?
– Я сам.
– Хозяйский ребенок, – подсмеивается отец, подходит к телеге и обеими руками подхватывает меня, уже полусонного. – У тебя и в самом деле ноги – как деревянные.
– Ничего, так скорее и танцором, и человек станешь, – повторяю отцовские слова, а он прислоняет меня к груди, говорит, что я стал языкастым, и натрясает на мои волосы смех. Отец смеется так же хорошо, как и дедушка, только из его глаз брызгают не слезы, а искры, их даже в темноте видно.
Мы вдвоем надергали сена, расстелили его возле стожка, а отец накрыл эту постель киреей[10]10
Кирея – длинная верхняя одежда с капюшоном, изготовленная из сукна; кобеняк, плащ.
[Закрыть], той самой, в которой меня, босого, носил в школу… Почему я тогда не умел уважать эту одежину, как уважаю теперь, когда на виски выпал вечный снег?..
– Ложись, сынок, потому что люди уже ночь разобрали, – нам ничего не останется.
И мне становится смешно: представляю себе, как люди по охапке, словно сено, разносят ночь по домам.
– Ложитесь и вы.
– Пойду к огоньку: посмотрю, кто там душу греет.
– И я с вами.
– Не выспишься, приставала.
– Я только немножечко–немножечко побуду с вами.
– Ну пошли, – отец прижал меня рукой, и мы пошли на огонек, который так привлекательно, золотым цветком, выхватывался из петровчанской ночи. Над нами зудели комары, возле нас спросонок то и дело всхлипывала речушка, а над всем миром протекала звездная мгла. И так хорошо было в ней идти к соблазнительному огоньку, к чьей–то загадке или сказки, к чьей–то жизни.
– Э, да это дед Корней! – обрадовался отец, когда ночлежник, услышав шаги, обернулся к нам. – Добрый вечер, дед Корней!
– Если взял с собой ложку, то, небось, будет добрый.
– Я только сына догадался взять.
– Догадливый, что и говорить. Еще бы жену захватил. – У деда Корнея сразу смеются глаза, брови, губы и длинные усы, к которым подбирается огонь. Вот мужчина привстает от костра, снимает, здороваясь, брыль[11]11
Брыль – широкополая летняя шляпа из соломы.
[Закрыть], и мы видим на его голове седую разлохмаченную зиму. А на руке у старика слабо дышат стянутые на живую нитку шрамы.
– Как вам, деда, живется?
– Часом с квасом, порой с водой. – Дед Корней брылем накрывает свою зиму и дружески смотрит на меня. – Уже имеешь, Афанасий, помощника?
– Считайте, дождался жнеца.
– Вот как?! – удивляется дед Корней, удивляются его темные, огнем накупанные глаза. Он кротко касается рукой моего плеча. – Неужели ты, Пшеничное, умеешь жать?
– Немного умею, – неловко отвечаю старику, и страх как переживаю за завтрашний день, и опасаюсь, чтобы отец сегодня насмешливым словом не принизил меня. Но отец, ободряя, говорит, что у него сын не ленивец, и за это я не знать как признателен ему.
Дед Корней покачал головой:
– Вот так и проходит наш век: одни учатся жать, а другие разучиваются.
– Кто же это, деда, нынче разучивается жать?
– Да хотя б и я, – загрустил старик, и загрустило не улежавшееся золото в его глазах. – Уже серп стал мне тяжеловатым, выпадает из руки, – и посмотрел на свои шрамы, которые были зашиты на живую нитку.
– А что врачи говорят?
– Глупое говорят. Сговорились себе и уцепились в дедову старость. Им бы хотелось на печь упаковать мои лета. А какая же это старость, когда имею лишь семьдесят пять лет? Моя мать до девяносто четырех жала. Что–то мельчает теперь и наш век, и здоровье. Все очень нервенными становятся, и все жизнь чью–то не ценят, и все бомбами замахиваются на нее. А бомба человека лучшим не сделает.
– И вы же, деда, бомбы возили, – что–то вспомнив, засмеялся отец.
– Так вот же и выдыхаю эти бомбы теперь, – уже и серп выпадает из руки.
– Деда, вы на самом деле были на войне? – обрадовался я и уши развесил, надеясь услышать что–то интересное.
– Да нет, это меня впихнули в войну, – неохотно ответил старик и начал ложкой мешать кулеш. – Пшено уже разомлело.
– Деда, расскажите, как вас впихнули в войну, – просил мой голос.
– Нет там чего рассказывать, незачем и слушать, – насупился, наерошил те брови, которых бы хватило на двух дедов. – Вон лучше беги к телеге, найди ваганы[12]12
Ваганы – продолговатая деревянная миска для еды.
[Закрыть] и ложки в полотне, и подумаем, что делать с кулешом.
– Мы уже ужинали, деда.
– Беги, беги. Мой кулеш сам Котовский так ел, что аж за ушами трещало, еще и нахваливал.
– Ой! В самом деле сам Котовский ел? – замираю, как завороженный. – Так вы его видели?
– Даже фотографию с нас обоих делали.
– Расскажите, деда!
– А что тебе дед сказал? Вижу, и ты непослушным уродился.
Я сразу же побежал к телеге, возле которой спокойно жевали жвачку круторогие волы, нашел ваганы, ложки, а в глазах мне все стояло, как дед и кулеш ел, и фотографировался аж с самим Котовским. Чем же так прославился дедушка? Видать, недаром у него рубцеватая рука.
А кулеш у деда и в самом деле был такой вкусный, что его и Котовский мог нахваливать. Мы тоже хвалили казацкое блюдо, и старик был этим очень доволен.
– Деда, а Григорий Иванович тоже деревянной или какой ложкой ел кулеш?
– Деревянной, только чуть больше твоей, – заговорщически улыбнулся старик и потянул меня за волосы. – Все, Пшеничный, хочется знать?
– Ой, хочется! Это же так интересно!
– Расскажите ему, деда, немного о себе, потому что он теперь и мне покоя не даст: хоть оно малое, а как репей. – Отец берет котелок и собирается пойти с ним к речке. – Вас же и в газете печатали.
– Да печатали, и не самого, а с волами.
– С волами?! – аж подскакиваю я.
– С теми самыми, что сейчас возле телеги туман выдыхают. Вон видишь, сколько надышали его?
В самом деле, возле телеги и на долине прорастал туман. Если бы я меньшим был, то, наверное, поверил бы, что его надышали волы. И кто только из взрослых не подсмеивается над нами. Вот и сейчас… Я уже и надежду потерял, что дед Корней что–то расскажет, но теперь он, косясь на меня, сам спросил:
– Так что тебе рассказать? Может, сказочку про серого бычка?
– Э, нет, про серого бычка я еще в колыбели слышал.
– Так долго в колыбели вылеживался? Тогда, может, о деде, бабе и курочке рябой?
– Вот расскажите, как воевали.
Дед Корней грустно покачал головой.
– Это все людская молва, что я воевал. Вот сын мой и воевал, и в партизанах верховодил. Так что не было покоя ему, не было и мне. Его ловили, а меня таскали то по сборищам, то по тюрьмам. Там, под чужими дулами, и седина моя созрела. А вот когда стояли у нас деникинцы, присылает он ко мне посланца из лесу. Снял тот посланец шапку, выпорол из нее грамоту и подает мне. Просит сын, чтобы я спасал отряд – привез в леса запрятанное оружие.
«Как же его через деникинцев переправить? – спрашиваю у посланца. – Может, голубями?»
А тот, рыжий черт, только улыбается:
«Да нет – волами».
«Волами? А как?»
«У вас, деда, в амбаре лежит гроб?»
«Да лежит, засыпал его рожью».
«Для чего же это?»
«Для того, чтобы мне рожь и на этом, и на том свете пахла».
«Так мы, деда, положим в гроб оружие и поедем себе, посвистывая».
Ему еще тогда о свисте думалось… И где ты, думаешь, лежалое партизанское оружие? На кладбище, в мраморном склепе нашего барина. Вредный был барин, вот ему люди и после смерти не дали покоя. Ночью вынесли мы оружие – бомбы и патроны к ружьям, осторожненько положили в гроб и тихо поехали из села. Я иду возле волов, а тот рыжий одчайдух[13]13
Одчайдух – смелый человек, отчаянный; разг. бесшабашный, залихватский, удалой, удалый.
[Закрыть] сзади меня голову гнет в кручине, шапкой глаза вытирает, будто и в самом деле кого–то похоронил. Выехали мы за село, я уже перекреститься хотел, когда здесь налетает конный разъезд.
«Что везешь, дед?!»
Стою на дороге, молчу, – как–то язык не поворачивается врать. Когда слышу сзади всхлипывания. Оглядываюсь, стоит мой рыжий бес и плачет такими искренними слезами, что даже разъезд подобрел. Так мы и проехали мимо него. Тогда я и спрашиваю посланца:
«Как же ты, бессовестный, так сумел чистые слезы распустить?»
«А у меня глаза от природы на мокром месте, – отвечает он и смеется. – Бывало, мама еще не успеет замахнуться на меня рукой, а я как заголошу, так вся улица сбегается».
«Чего же ты, плакса, в партизаны пошел?»
А он отвечает:
«Потому что я люблю, когда солнце собирает росу, но не люблю, когда земля собирает слезы. Вот как, деда!»
Сказал это и сразу стал в моих глазах не балагуром, а человеком.
«Как же тебя звать?» – спрашиваю.
«Себастьяном».
– Ой! Это не дядька Себастьян из нашего села?! – аж вскрикнул я.
– Да он же! – ответил дед Корней.
– Жизнь… – сказал отец, и, кажется, я впервые начал понимать, как много кроется за этим словом…
– Привезли мы то оружие хорошенько в лес. Вот радости было! Поднимали меня партизаны на «ура» и все, что в дедовой сумке лежало, поели: голодные были – страх! Поговорил я с сыном немного, простился и снова домой собираюсь.
«Вы же, отец, гроб выбросьте», – говорит он мне, прощаясь.
«А ты его делал, чтобы я выбрасывал?»
«Хоть и не делал, но подумайте, кто вас будет встречать».
«Я его лучше где–то спрячу, чтобы никакой леший не нашел».
Так и поехал помаленьку. Думал себе, гадал – и пожалел гроб бросать. Въехал в село другой дорогой, и все. Подъезжаю к селу другой дорогой, а на меня от крайних домов вылетает двое всадников. Я только увидел, как сверкнули сабли, как раскололось солнце по ним, и закрыл голову руками. А что уже дальше было, про то люди рассказывали. Порубленного вбросили меня деникинцы в гроб, еще и крышкой накрыли. Вот волы и привезли меня самого домой. Я не слышал, как надо мною голосила старуха, как обмотали меня, словно куклу, в полотно, только услышал через некоторое время, что пришли ко мне ангелы и начали петь такой жалобной, как архиерейская певчая в соборе. Так это еще не хуже, – думаю себе, – значит, в рай душа идет, – и раскрываю глаза.
А в моем доме и за столом, и на скамейках, и на пороге, и на шестке сидит раскрасневшаяся родня и жалостно выводит:
Та забіліли сніги,
Забіліли білі,
Ще й дібровонька,
Та заболіло тіло,
Бурлацькеє біле,
Ще й головонька…
«Бессовестные, – говорю им потихоньку. – Я ж думал, что мне ангелы поют, а это вы, трясца вашей матери, уже и напиться на дармовщину успели».
И думаете, усовестил их? Одна только старуха заплакала, а все, как безумные, начали хохотать, радоваться и даже рюмку подняли, и закуску тоже.
– И вы тогда выпили, деда? – засмеялся отец.
– А что должен был делать? Выпил, но не закусывал и попросил, чтобы вынесли в сад. Положили меня под грушей, накрыли двумя кожухами, и начал я вылеживаться, как барин или гнилушка, ибо раньше не имел времени на сон… И все было бы ничего, если бы костоправы лучше руку собрали – выпадает из нее серп, хоть что ни делай.
– Деда, а как ваш сын теперь поживает?
– Да поживает: в Харькове в начальстве ходит, телеграммы деду бьет, а в село редко заглядывает. Вот и теперь написал, чтобы приехал к нему.
– Поедете?
– Да наверное, как обсеюсь, поеду. Внука же имею там, невестку. Людей лечит она, может, и мою десницу заново перешьет, а то ведь что это за хлебороб, если так рано имеет разлуку с серпом. Старуха уже обгоняет – больше меня жнет, еще и хитрит.
– Как это она хитрит у вас? – недоверчиво засмеялся отец.
– Знает мою гордость, так украдкой свои снопы на мою полоску переносит. Разве же это дело? – и старик пошевелил поседевший костер.
Из него посыпались искры, их стало много–много – и в глазах, и вокруг дедовой телеги, и по всей долинке, и почему–то небо приблизилось к земле. Потом кто–то подхватил меня на руки и начал качать, как в колыбели, а передо мной появились волы деда Корнея, они напускали на долину туман, а в нем отзывался перепел: «Спать пойдем, спать пойдем…»
Еще солнце только–только подняло свой венец, еще сизо и сине туманились росы, когда меня разбудил отец.
– Умойся, Михайлик, и поедем жать.
– Я сейчас. А где же дед Корней?
– Он уже, наверное, первый сноп связал.
– Чего же вы меня раньше не возбудили? Я бы ему спасибо сказал.
Отец грустно улыбнулся:
– Жалел, дитя, потому что кто тебя потом, как откатишься от нас, пожалеет на свете?
– Ой папочка…
– Беги, беги умывайся. Мама уже, смотри, трактом на поле идет.
Мы приехали на свою десятину чуть позже мамы. Она с узелком в руке, с серпами на плече уже стояла возле ржи и выглядывала нас.
– Хороших имею себе жнецов, – будто укоризненно покачала головой, сняла серпы с плеча, развернула полотно. – Бери, Михайлик, свой. – И радость и боязнь снова охватывают меня. – Посмотри на восход солнца и начинай на счастье жать.
Вот я набираю полные глаза солнца, наклоняюсь, беру первую пригоршню ржи, на которой еще спят бутоны березки, шарх серпом – и кладу на ров.
– Больше, больше наклоняй стебель, чтобы не порезаться, – говорит позади отец, который уже успел спустить Обменную.
Я так и делаю, как советует отец, а от волнения меня аж бросает в жар.
– Вот и дождались жнеца себе, – нахваливает меня мать и сама припадает к росистой ниве.
Ее похвала ободряет меня, я уже свободнее начинаю орудовать серпом, свободнее вывожу переплетенный березкой стебель. Вот уже и пот покрывает лоб, вытираю его рукавом, один миг любуюсь голубыми шпажниками, которые прищурились возле самой земли, – и снова за работу.
– Эге, да тебя, гляди, и конем не догонишь, – отзывается отец. – Не спеши так – день и сегодня большой. Вот иди сюда.
Разгибаю спину, а солнце бьет мне в глаза, а отец и мама смотрят на меня, улыбаются, и я не знаю, или они подсмеиваются, или любуются мной.
– Ну–ка собирай, что нажал, – говорит отец, – и хорошенько ровняй. – Нажатое мной он опоясывает перевяслом, вынимает из–за пояса юрок, связывает сноп и ставит его гузырем[14]14
Гузырь – нижняя часть снопа, комель.
[Закрыть] на стерню. – Вот, Михайлик, твой первый сноп, твой первый хлеб, – еще и рукой проводит по стеблям снопа. – Запомнишь его?
– Как же его запомнить?
– А ты за перевясло шпажники или цикорий засунь. Тогда мы твой сноп в сочельник на кутнике[15]15
Кутник – красный угол (укр. – покуття, покуть), у восточных славян наиболее почетное место в избе, в котором вешались иконы и стоял стол. На кутнике садились глава семьи, молодые на свадьбе или самый желанный гость.
[Закрыть] поставим.
– Э? – не знаю, что сказать, потому что страх боюсь, не смеется ли отец. И все равно так мне приятно смотреть на свой сноп, будто он из самого золота вылит.
За этим снопом пошли другие, и, когда их стало девять, пот совсем облил меня, а в крестец просочился огонь. Оно бы и отдохнуть не помешало, однако же стыдно. И тут ко мне откликнулся отец:
– Михайлик, не сбегаешь ли к роднику за водой?
– За водой? – сначала обрадовался, а дальше удивился, потому что еще минутку тому было полкувшина воды. – Разве всю выпили?
– Да она нагрелась, и я вылил ее. Принеси свеженькой, и не с дороги, а с долинки.
– Да это же далековато.
– Зато вода вкусная!
Я беру из отцовых рук глазурованный кувшин, стернями выхожу на дорогу, а дальше ржами, и пшеницами, и овсами бегу в долинку, где так привлекательно млеют на солнце кучерявые вербы и тихонько попискивает под ногами влажная земля. И так мне хочется кого–нибудь встретить, рассказать, что я уже не какой–то там пастушок, а жнец. Но вокруг ни куколки, все на жатве в поле, – сегодняшний день кормит год. И некому похвастать мне, потому что не будешь что–то говорить вон той булькатой[16]16
Булькатый – с выкаченными глазами.
[Закрыть] лягушке, которая растопырилась на воде и собирает на широкие губы презрение ко всему, что не держится воды… И почему бы это кому–то не прийти сюда, не спросить, как я живу и что я теперь делаю?
Я ложусь на землю возле родника, набираю полный кувшин воды, ставлю его на траву, а сам присматриваюсь к небу, к воде, к орликам, что зацвели в ручье, и думаю: спроста или неспроста послал меня отец в долинку? Наверное, таки пожалел малого. Поэтому не буду мешкать возле родника.
А подо мной земля такая свежая, такая мягкая, как колыбель, а надо мной небо такое синее, такое ласковое, а за вербами притаилась дремота и шепчет: «Засни себе, засни себе…» То ли вода шепчет колыбельную? Э, не будет по–твоему! Я поднимаюсь, беру с земли в грудь немного прохлады, к груди прислоняю кувшин и важно иду делать дело. А в долинке и на тропе снова ни куколки, только рожь покрывает меня с головой, только солнце сквозь ржаную дремоту купает меня лучами и тенями.
И славно–славно идти мне между ржами к ржи. Что ни говорите, а уже иначе чувствуешь себя, когда становишься жнецом!
Раздел четвертый
Лето сбежало, как день, и из клубящегося тумана вышел синеглазый, златовласый сентябрь. Он прицепил к своему брылю красную с влажностью кисть калины и нитку бабьего лета, заглянул в нашу школу, бодро ударил в колокол и пошел между садами в степь крутить крылья ветряков.
Я нетерпеливо ждал, когда сентябрь потревожит над селом утренний сон или полусон тем звоном, который прибивается даже на хутора. И вот над домами торжественно, густо отозвалась медь, она испугала на позолоченных церковных крестах грачей и всюду–всюду порадовала босоногое школярство.
Нет, это не звон, а мои надежды смятенно завились прядями надо мной и во мне. Они тепло выхватывают малого со двора на лебединые крылья и несут через дубравы, села, реки к тому сказочному городу, где сколько хочешь читай книжек и учись аж на учителя.
Вдруг все похорошело около меня: и ясени с голубоватыми тенями и зеленым шумом, и нахлобученный овин с четырьмя ветрами, и скрипучие ворота, от которых пойдет во что–то хорошее моя дорога, и маковки, которые звенят и звенят на огороде, и даже ленивые тыквы, что надели разноцветные рубашки и лежа выхваляются ими.
А улицей идет дядька Николай и спрашивает: «Или я сплю на пне, или дремлю?» Я ему показываю зубы и говорю: «Не сплю и не дремлю». А он допытывается: «Чего это ты такой?» А я отвечаю: «Какой есть, такой и есть». Вот после этого мужчине хочется знать, каким я буду. А я этого не знаю, и дядька Николай говорит, что в такое время надо смотреть вперед. Я и смотрю вперед, как солнышко откатывается от земли, и спрашиваю, чего дядька Николай не покупает жеребят.
– Никак не могу в самую точку подобрать масть.
А я знаю, что не масть главное, а что у дядьки в кармане еще не высвистел ветер, и хохочу, а дядька знает, чего мне смешно, и себе улыбается. А над нами гудит колокол, и выше его летят аисты, а возле нас шелестят ясени и маковки, а под ногами солнце теребит за поводья тени, – и все это называется сентябрь, первый день в школу.
Всласть поговорив с дядькой, торчком головы лечу в хату. В овине я чуть ли не поздоровался со столбом и, раскрасневшийся, останавливаюсь на пороге, потому что как раз дорогу перегородила мамина кочерга.
– Что? Где–то горит? – спрашивает от печи мать.
– Звонок! – отвечаю одним словом и озабоченно хватаю свое школьное добро, которое уже лежит на подоконнике.
Мать ставит в уголок кочергу, смотрит на меня, улыбается и вздыхает:
– Вот и дождались праздника.
– А вы думаете! – говорю горделиво и складываю в полотняную сумку книжки, тетради, линейку и коробку от спичек, где лежат перья, а к шее привязываю веревочку, к которой прикреплен карандаш. В те времена стоящий, не крошащийся карандаш был целым сокровищем, поэтому его так берегла детвора.
– Так я, наверное, уже пошел.
– Цветы же возьми учительнице, – подходит мать к столу, на котором лежат и стекают росой бархатцы, гвоздики, астры и майоры.
Я колеблюсь: брать их или нет, потому что у нас в школе цветы приносят только девочки. Это их, а не мальчишеское дело. И вместе с тем страх как хочется чем–то поблагодарить свою учительницу. Вот возьму букет и неожиданно подам ей из–за спины.
А тут в хату заходит отец. Он осматривает меня так, будто я с луны свалился, еще и просит повернуться перед его глазом.
– Это же для чего вам? – присматриваюсь к тому отцовскому глазу, который больше всего собирает насмешку.
– Пригодится, – говорит отец. – Хочу насмотреться, какой ты есть.
– Давно видели? – показываю зубы, качаюсь на месте, а на мне покачивается карандаш.
Отец подходит к сундуку и вынимает оттуда приплюснутую, похожую на полкоржа шапочку, ее он достал где–то, странствуя по Херсонским степям.
– Вот тебе подарок, сынок.
С подозрительным любопытством смотрю на эту голубую, из самого настоящего сукна шапочку и спрашиваю:
– И что оно такое, и к чему оно?
– Это, считай, австрийский картуз – от войны остался. Очень хорошее сукно.
– Не хочу я австрийского убора, хотя он и из хорошего сукна.
– А в чем же пойдешь в школу? В шапке рано, фуражка износилась, а брыль продырявился.
– Бедному Савке нет судьбы ни на печи, ни на лавке, – говорю, не очень и сокрушаясь, что нечем прикрыть голову, потому что зима еще далеко. И вдруг в моей макитре всплывает счастливая мысль: упакую букет в австрийскую штукенцию и незаметно вручу его учительнице.
– Пусть будет, отец, по–вашему!
Отец надвигает мне на голову шапочку с настоящего, пропахшего сундуком сукна, сбивает ее набок, немного отходит и нахваливает меня:
– И вырос мальчишка за лето ничего, и курносый нос в этом году не взялась чешуей. Хороший, хороший, жаль только, что чуб потемнел.
– Потемнел? И насовсем?
– Считай, насовсем.
– И уже меня больше не будут звать Пшеничным? – с сожалением спрашиваю отца, потому что очень нравится слышать это прозвище и от своих, и от чужих.
– Наверно, не будут.
И так жалко становится, что уже что–то куда–то отходит от меня, омрачая радость такого славного дня.
– Так я уже пошел, – вздыхая, говорю родителям.
Они переглянулись, а отец положил руку на мое плечо:
– Иди, сынок, в добрый час, учи ту науку, потому что мы не могли, – и теперь уже он вздохнул.
– Вы, отец, не сокрушайтесь, – ободряю его. – Вы же читать вон как умеете!
– Да научился же, – ходил в школу до первого снега.
За воротами синее небо и второй звонок под ним сразу же смыли мою печаль. Я, прислонившись спиной к воротам, откатил края австрийской шапочки, сделал из нее сумочку, осторожно вложил туда цветы и вприпрыжку побежал в школу. Возле поповского сада внезапно встретил нашу учительницу. Вот и она увидела меня, и ласковая улыбка охватила ее губы и все молодые морщинки вокруг глаз.
– Доброе утро, Настя Васильевна!
– Доброе утро, Михайлик. Как ты вырос за лето! – удивляется и осматривает меня учительница. – Небось, кто–то тянул тебя за уши вверх.
– А чего же, – не знаю, что сказать, а в душе рад, что подрос–таки. Жаль только, что голос никак не хочет грубеть. А уже бы пора! – Вот нате вам, – стесняясь, вынимаю цветы из шапочки и подаю учительнице.
– Вот никак не надеялась, что ты можешь мне принести подарок, – смеется Настя Васильевна. – Спасибо, Михайлик.
– Я еще могу вам принести.
– Как отец–мама?
– Живы.
– Что они делают?
– Отец собирается рожь сеять, а мама – выбирать коноплю.
– Ты же помогал им летом?
– Конечно. И сено собирал, и рожь жал.
– Ты рожь жал? – аж увеличились от удивления темно–серые выразительные глаза учительницы.
– А чего же! Наше крестьянское дело такое… – и осекся, потому что, наверное, таки перехвалил себя.
– И вязать научился?
– Яровое могу, а на озимое еще не хватает силы, – говорю я с сожалением.
Но это не преуменьшает меня в глазах учительницы.
– Молодчина, молодчина! А читал что–то летом?
– Немного, – и от одного упоминания стал грустным мой взгляд.
– Что–то страшное было? – сразу догадалась учительница.
– Страшное. Как печенеги разрубили в степях Святослава и начали пить вино из его черепа.
– А сколько теперь новейшие печенеги разбросали в степях черепов! – и себе загрустила учительница, – Беги, Михайлик.
Возле школы уже шумно и весело. Загоревшие за лето школьники гомонят–гудут, как кувшины на ветрах, хлопают друг друга ладонями по рукам и плечам, допытываются, чей отец сапожник, чтобы какому–то неосмотрительному дать коленом стул, и меряются силой. Смех взлетает то с одной, то с другой стайки и заканчивается возле изгороди, где обрывается игра в длинную лозу. Девочки, встав в круг, уже поют «Подоляночку», а недалеко от них Петр Шевчик, сам пугаясь, рассказывает, как ведьма повадилась к корове тетки Софии.
Чернявого хорошенького Петрика очень любят девушки, а он всегда пугает их разными небылицами. А вон прямо на земле умостился хитрец Цибуля, он играет в чет и остаток[17]17
Чет и остаток – игра, заключающаяся в угадывании, какое число – четное или нечетное – взято тем, кто ведет.
[Закрыть] и всех подряд обыгрывает.
А за ученической сутолокой, стоя под немалым колоколом, пристально–пристально следит седой остроглазый сторож, умеющий разминать и телячью шкуру, и ученические уши. В одной руке он держит медные, натертые до блеска часы, а другую вплел в веревку колокола.
Я важно вхожу на школьный двор, а сзади на мои плечи выскакивает Иван Пампушка. Он хочет на дармовщину проехаться до школы и, как оглашенный, кричит в самое ухо:
– Здоров, читальщик! Сколько возьмешь за перевоз?
– Две копейки без копейки и копейку сдачи, – отвечаю ученической прибауткой, пригибаюсь – Иван торчмя летит на землю и хватает меня за ноги. Мы покатились клубком, а нас уже окружают школяры, и всем становится очень весело. Когда я встал на ноги, в мою шапочку презрительно ткнул пальцем придирчивый Ульян:
– А это что у тебя?
– Австрийский картуз из самого настоящего сукна, – говорю, не моргнув глазом.
Ульян откатывает края шапочки, принюхивается к ней и под смех школяры говорит, что из этой австрийской сумки хорошо было бы кормить коня.
– А я и кормлю из нее Обменную, – говорю, чтобы отвести от себя насмешку.
– Врешь! – отрезал Ульян.
– Вот посмотри, – и сегодня кормил! – показываю дно шапки, в которой лежит несколько листочков и лепестков от цветов.
– В самом деле! – не верит Ульян, но уже не знает, чем ущипнуть меня.
Вдруг возле школьной изгороди верхом на коне появляется дядька Себастьян. Перед ним на седле лежит какой–то немалый ящик. Вот председатель встал в стременах, соскочил на землю и впереди себя понес ящик к школе. Я выбегаю навстречу дяде Себастьяну, кланяюсь и спрашиваю:
– И вы к нам?
– И я к вам, Михайлик.
– Может, учиться?
– А что ты думаешь: с большой охотой сел бы за парту. Здоровлю[18]18
Поздравляю.
[Закрыть] тебя с первым днем обучения.
– Спасибо. А что вы несете?
– Смотри! – дядька Себастьян ставит на землю разделенный на две половины ящик, а в нем аж сияет целое богатство: одна половина забита ароматными, как конфетки, карандашами, а вторая – ученическими ручками. Я никогда не видел столько такого добра и растерялся перед ним. – Что, Михайлик? – смешно подмигнул мне бровью дядька Себастьян: ему и самому приятно смотреть на это сокровище.
– Где же вы достали столько?
– Аж в Виннице.
– И что с этим добром будете делать?
– Отдадим учителям, а они раздадут ученикам.
– Это, значит, подарок нам? – радуюсь я.
– Подарок от комбедовцев: мы не учились, так учитесь вы, в люди выходите! – И тут дядька Себастьян хмурит свою бровь, под которой только что держал веселье, и пальцем касается моей веревочки на шее. – А это, сорванец, что за новость у тебя?